

«Я могу выполнять своё и в плавках, и в халате (хотя его не ношу)», — написал однажды о.Александр Мень.
(Кстати, один раз я его видел в халате: замечательный монгольский халат, очевидно, кем-то подаренный, отец Александр использовал его даже как подрясник, ткань очень напоминала византийские шелка).
Замечание о плавках было своеобразным ответом человеку, который признался, что является неверующим, потому что распятие, крест для него символ слабости, поражения, которое ведёт в пустоту, в смерть и сомневается в том, что крест — не плюс, а ноль.
«Как прекрасно сказанное Вами о смысле сомнения, — написал в ответ Мень. — И ведь это сомнение — не простая игра ума или фантазии, а восстание против бессмыслицы, которое человек поднимает именно потому, что он шестым чувством не верит ей. Вы уловили главное, и, значит, не подходит к Вам облезлый ярлык «неверующего». По-настоящему мы не можем и не должны верить в ноль, в пустоту, в ничто и смерть. Когда мы, пусть хотя бы бессознательно, связаны с реальностью Смысла, жизнь — есть, отрываемся от нее — нет».
Очень деликатно отец Александр впомнил, как агитаторы Кремля в 1920-е годы издевались над крестом: «Я как-то просматривал антирелигиозные карикатуры 20-х годов, и мне стало ясно, что рукой художника водило садистическое удовольствие от «поругания святыни». Это действительно демонизм, болезненный, с мазохистским привкусом. Наслаждение от разрушения…».


Распятие — не просто казнь, а самая садистская из всех античных казней. Но и неприятие креста может быть результатом не гуманизма, а садизма — садизма «с мазохистским привкусом», когда мысли человека, как выразился Мень, угнетены «цинизмом разочарования, неисцеленной меланхолией. В них ход конем: чем хуже — тем лучше. Это от обиды и несбывшегося».
Смердяковщина, ресентимент — жестокость слабых, которую можно объяснить эхом жестокости сильных. Объяснить можно, но ведь насилие-то продолжается, смердяковщина способна не только убить, но и мучать со сладострастием, возрастающим от безнаказанности. Человек видит зло в кресте, в согласии невинно страдать, и поэтому сам причиняет зло. Мень объяснял это опытом тоталитаризма, который расплющивал душу в плёнку на крови:
«Слишком долго нас заставляли мыслить не так, как лучшая часть человеческих умов, а как — меньшая и худшая. Отсюда и отталкивание от символов, от креста, который постоянно рисовали нам как нечто враждебное. […] Это заползло в подсознание. Но по счастью, есть в человеке что-то противящееся этому. Вопросы: что по другую сторону? а для чего тогда всё? И они живут рядом с привычными жупелами».
Вот это «противящееся» Мень и пытался поддержать, усилить, чтобы не победило то, что он называл «просто фиглярство и бардак». Ты Смердяков? Ты униженный и оскорблённый и поэтому унижаешь и оскорбляешь? Ты слаб и поэтому бьёшь исподтишка, бьёшь слабейшего? А ведь если ты слаб, ты должен знать: «В нашем неустойчивом мире самое слабое плечо может стать неожиданно сильным».
Мир неустойчив — характерная для биолога-эволюциониста мысль, характерная и для Меня вообще. Это продуктивная неустойчивость. Её можно было восторгаться, только вот Богу от этой неустойчивости достаётся крест, по древнему латинскому изречению: «Пока вращается мир, стоит крест».
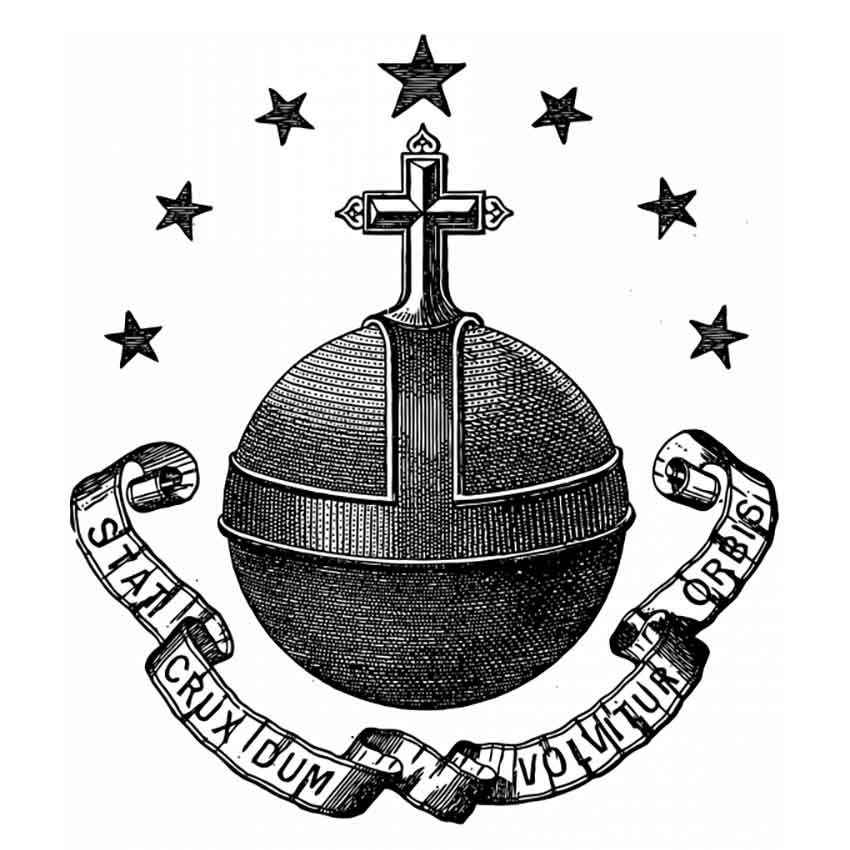
Это и проще, и сложнее представлений скептиков о религиозной жизни. Отвечая человеку, который позволил себе строить предположения о духовном опыте Меня, приписав ему откровения и знамения, отец Александр почти рассмеялся:
«О встрече Вы, пожалуй, верно заметили, но не пережил я такой одноразовой, которая бы перевернула судьбу. Всё было вполне эволюционно. Евангелие я впитал с молоком матери. […] никаких знамений, а простое путешествие…».
Собеседник жаждал решения мировых проблем, Мень улыбался:
«Мировых мы не решим. Они сами себя решают, а вот как нам быть тут, это надо бы…».
Мировые проблемы сами себя решают, а вот как не ущипнуть мальчишку в песочнице только за то, что он младше, слабее, и его я могу ущипнуть, а отца, который дал мне подзатыльник, не могу, — это важнее всего.