Иван Лапшин
ФИЛОСОФИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ И ИЗОБРЕТЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ
К оглавлению
Том 1
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ВВЕДЕНИЕ
I. Отличие философского изобретения от религиозного
Что такое философское изобретение? Какова его природа с общефилософской и с психологической точек зрения? Каков генетический процесс его образования? Вот ряд трудных вопросов, которые я имею в виду осветить в последующем изложении. Не может быть сомнения в том, что на эти вопросы нельзя дать полный ответ в настоящее время, но, я думаю, наступил момент, когда их следует отчетливо формулировать и попытаться связать с общими проблемами философии и психологии изобретения. То, что здесь можно сейчас сделать, да послужит хотя бы лишь программою для дальнейших, более углубленных и фактически документированных исследований. Во избежание неясностей я прежде всего должен указать на то, что отграничиваю философское творчество от религиозного. Философия есть своеобразная научная область духовной деятельности, она есть сфера познавательного, а не эмоционального мышления1. Мысль Конта о прохождении философии чрез теологический фазис — ложная мысль. Если теологический элемент — влияние религиозных потребностей, есть фактор, играющий известную роль в истории философии, то это — инородный фактор, чуждый задачам наукообразного знания, и притом характерный не для известного "фазиса" в истории философии, но неизменно действующий на всем ее протяжении. Гениальные научно-философские догадки Анаксимандра и пифагорейцев могут быть смело противопоставлены фетишизму и анимизму самого "отца позитивизма" Конта или "отца экспериментальной психологии" Фех-нера, которые оба одушевляли земной шар как разумное и живое существо. Поэтому взгляд С. Н. Трубецкого на историю древней философии как на раскрытие религиозного миросозерцания в корне ошибочен, и совершенно правы Эрвин Роде и Маковельский2, трактующие древнюю философию и религию греков как две "независимые переменные".
1 О различии познавательного и эмоционального мышления см. мою работу "Психология эмоционального мышления Генриха Майера" — "Новые идеи в философии", вып. 15-й.
2 См. "Досократики" проф. Маковельского, т. I, Введение.
7
Богословский и философский элементы в процессе философского изобретения отделены нередко тонкою, едва уловимою чертою, что дает повод при историко-философском анализе к смешению двух различных "планов" творчества. Так, например, Вл. Соловьев в "Кризисе западной философии" ставит себе богословскую задачу — "оправдать веру отцов наших", и в его сочинениях мы находим попытки философа "оправдать" догматы христианства. Однако надо обладать большою ограниченностью мысли, чтобы не признать в Соловьеве крупный философский талант: в его сочинениях, несмотря на то что общий замысел в них чужд по духу философии, рассыпано множество глубоких и оригинальных научно-философских идей. Мы причисляем Платона и Декарта к величайшим изобретателям в области философии, но богословы утверждают, что оба они не философы, а богословы по существу. Отто Вильман в своей "Geschichte des Idealismus" утверждает, что у Платона богословские идеи составляют "das Kernwerk des ganzen Systems"*, и обставляет это положение рядом остроумнейших "доказательств". Глубокая связь философской мысли Декарта с богословскими проблемами его времени дала повод одному богослову (Espinas: "Le point de depart de Descartes", Revue Bleue, 1906) отстаивать мысль, что primum movens** всего творчества Декарта была богословская проблема, и Gilsoti'y в его замечательной книге "La liberte chez Descartes et la theologie" (1913) нужно было проникнуть во все тайники духовной лаборатории Декарта и исследовать все его точки соприкосновения с современной ему богословской мыслью, чтобы показать, какое именно положение занимала философская мысль Декарта в отношении к его богословским интересам, и Жильсон убедительно показывает, что Декарт — великий философский изобретатель, что для него, как это видно из письма к Мерсенну от 28 января 1641 г., центр тяжести всех его интересов лежит в метафизике и физике и что он стремился добиться их признания со стороны богословов путем согласования своих философских построений с церковной догматикой. Но не то же ли мы наблюдаем в XIX в., когда Конт пытается связать судьбы позитивизма с иезуитским орденом, а Ренувье — судьбы неокритицизма с либеральным протестантизмом? Все это нисколько не препятствует отчетливому различению богословской изобретательности от философского изобретения.
Повторяю: философское изобретение есть вид научного творчества, и его надо отчетливо отличать, во-первых, от религиозного творчества и, во-вторых, от богословской изобретательности.
Религиозное творчество — глубоко эмоциональной природы. Основатели религий не научные исследователи, не критики, не систематизаторы, а творцы новых скрижалей ценностей. Они являются наиболее яркими выразителями морально-религиозных потребностей народных масс своего времени, они призваны не философствовать, а "глаголом жечь сердца людей". Вот почему история философии включает имена Сократа, Платона, Канта, но в ней нет места для Моисея, Магомета или Иисуса. Когда один критик Канта упрекнул его в том, что его моральное изобретение не заключает в себе ничего нового, являясь лишь новою формулой христианской морали, то Кант справедливо указал ему, что точная формулировка известного явления и составляет именно научную
8
заслугу философа, сами же моральные явления не суть порождения философской мысли.
Богословская изобретательность заключается в искусстве упорядочения и систематизации в форме известной догматики религиозного вероучения, которому положил начало основатель известной религии. В богословской мысли есть своя внутренняя логика и свое диалектическое развитие, но для разработки религиозного учения самою его природою положены известные грани — чудо, тайна и авторитет. Всякий раз, когда богословское мышление близко подходит к этим граням, оно неизбежно умышленно или чаще неумышленно подменивает логику разума логикой чувств. Так как сама догматика с течением веков эволюционирует, рационализируется и постепенно утрачивает монументальную пластичность своих первоначальных очертаний, то глубокое отличие методов богословской экзегезы от философского мышления для поверхностного взгляда утрачивается, между тем как эта разница остается по существу тою же самою на всем протяжении философии. Она оценивается результатами изобретений богословских и философских. Эффективность первых определяется их жизненным влиянием на массы, а эффективность вторых — их объективно научною значимостью. Однако это глубокое различие самой природы изобретательности в обоих случаях нисколько не исключает того факта, что богословские и философские тенденции часто сосуществуют в процессе изобретения: у великих богословов можно найти замечательные отдельные философские мысли, у великих философов вплоть до наших дней явны богословские тенденции духа.
П. Отличие философского изобретения от художественного и специально-научного
Равным образом тот факт, что среди философов были натуры художественно одаренные и что многие философские произведения ценны как создания искусства, нисколько не дает нам права говорить о философии вообще как только искусстве. "Пир" Платона, некоторые произведения Шопенгауэра, Ницше, Соловьева и т. д., конечно, входят не только в историю философии как объекты исследования, но и в историю искусства. Так, Левек пишет исследование "Quid Phidiae Plato debuerit" (1852), а Гирцель оценивает литературную форму диалога у Платона ("Der Dialog, ein litterarhistorischer Versuch"), но это нисколько не мешает нам отделять в философском произведении эстетическую оболочку от имеющего научную значимость ядра. Ниже мы увидим, какую своеобразную роль играют поэтические сказания и мифы в духовной лаборатории философа (см. гл. V).
Смешение научно-философского изобретения с художественным творчеством возможно в двух отношениях — с точки зрения изучения процесса созидания философских систем и с точки зрения изучения процесса постижения их духа историком философии. Сами философы — Платон, Шеллинг, Шопенгауэр, Ницше, как я указывал ("Законы мышления и формы познания", 1906, стр. 207), дают повод к смешению
9
первого рода, сближая свой творческий процесс с формированием художественной концепции. Поскольку речь идет о тех сторонах их творчества, которые вовсе не относятся к области научно-философской, они, конечно, правы, но все то, что ценно в их системах для научного познания, может заключать в себе элементы, аналогичные элементам художественного произведения, но не тожественные с ними. При анализе интеллектуальных чувствований и их роли в процессе научного изобретения это будет подробно выяснено ниже (см. т. II, гл. II). Равным образом и отожествление процесса постижения духа философской системы историком философии с процессом художественной перевоплощаемости при эстетическом восприятии драмы или романа основано на спутанности мысли, которая выяснится нам при анализе "фантасмов" научного воображения, столь похожих, на первый взгляд, на продукты эстетического творчества (см. гл. V). Подобную спутанность мысли можно найти в книге проф. И. А. Ильина "Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека" (1918), книги ценной в других отношениях. "Историку философии, — пишет И. А. Ильин, — задано осуществить тайну художественного перевоплощения: принять чужое предмето-созерцание и усвоить его силу и его ограниченность". Подобное "принятие чужого предмето-созерцания" есть, действительно, род перевоплощаемости, на которую указывали и Кант (см. мою статью "О психологическом изучении метафизических иллюзий" — "Жизнь", 1901), и Гегель, но эта перевоплощаемость иного порядка, чем перевоплощаемость художественная, хотя между ними и имеются общие черты.
Наконец, нельзя рассматривать историю философии просто как установку известных научных обобщений, как это делает, например, Тан-нери, для которого история философии без остатка растворяется в истории положительных наук. Спенсерово определение философии как знания наивысшей общности грешит чрезмерной широтой. Признавая его, пришлось бы отнести таблицу умножения и "пифагоровы штаны" к области истории философии. У философии есть свои специфические функции, как у своеобразной области научного знания, которые и должны быть раскрыты путем анализа природы философского изобретения (об этом см. т. II, гл. V).
III. Теория среды и теория наследственности
После этих предварительных замечаний обратимся к вопросу о взаимозависимости наследственности и воспитания в процессе образования философского дарования. Здесь мы наталкиваемся на два односторонних взгляда, между которыми легко вскрыть глубокое противоречие, это
— антиномия коллективизма и индивидуализма.
Гениальное изобретение, говорят одни, всегда есть продукт благоприятного стечения социальных условий. Гений, по словам Гельвеция,
— шедевр случая, причем "случай" здесь надо понимать именно в смысле
благоприятного стечения внешних обстоятельств — политических, эко
номических, педагогических условий развития. К Гельвецию примыкает
Бурдо, по словам которого автор шедевра в искусстве "tout le monde"*.
10
Для трилогии "Генрих VI", состоящей из 6043 стихов, Шекспир взял 1771 стих из одной старинной трагедии и еще переделал из другой 2373 стиха. В науке небольшие открытия — правило, значительные — исключение: Ньютон необходимо подготовлен Кеплером, Гуком, Галилеем и другими. История изобретения паровой машины есть аккумуляция множества чуть заметных усовершенствований. См.: "L'histoire et les historiens". По мнению Одэна, нет удовлетворительных данных, свидетельствующих в пользу наследственности дарования, наоборот, благоприятные социальные условия имеют решающее значение (см. Odin: "Genese des grands hommes"). "Talente und so genannte besondere Anlage hat der Mensch nicht"*, — возглашает еще категоричнее Гауффе. Таков коллективистический взгляд на генезис изобретения. Биологическое неравенство одаренности здесь почти приравнивается к нулю.
С другой стороны, в не менее категорической и радикальной форме отстаивает свою позицию индивидуализм. Если верить Шопенгауэру, Тарду, Ницше, Карлейлю, то изобретатель — это какой-то Монблан, возвышающийся над людскою массою: "Я живу в своем собственном доме и никому никогда не подражал" (Ницше).
Нужно ли доказывать, что самая постановка вопроса в такой резко антитетической форме лишена всякого философского смысла и противоречит грубейшим образом фактам? Со стороны фактической совершенно невозможно отрицать начисто самое существование наследственности и зависимости от нее неравенства в одаренности различных индивидуумов. Да и самые сторонники коллективистического взгляда в большинстве случаев не заходят так далеко, чтобы совершенно отвергать это неравенство. Так, например, Гельвеций признает унаследованными различия темпераментов, Бурдо — комбинационный дар, ведь он говорит о том, что даровитый человек должен "неподражаемо подражать", т. е. обладать склонностью вносить в подражание новые своеобразные черты. Гельвеций также видит преимущество гениального человека в природной способности своеобразно управлять своим вниманием и т. д. Равным образом и индивидуалисты не отвергают всецело воспитательного или образовательного влияния среды. Так, например, Шопенгауэр, почти совершенно отрицая моральное влияние среды на характер, признает значительную роль образования. Джэмс в статье "Великие люди и окружающая среда" признает значительное влияние среды на развитие, но оригинальность индивидуума относит за счет "случайных изменений" в процессе наследственности. Таким образом, при более внимательном рассмотрении дела оказывается, что вопрос в самом корне ложно поставлен. Индивидуалисты преувеличенно подчеркивают прерывный момент в творчестве — для них всякое изобретение совершается, подобно мутации, per saltum**, коллективисты утрируют идею непрерывной аккумуляции чуть заметных изменений.
Но если мы признаем бесспорным значительное участие в развитии одаренности и того и другого фактора, то все же окажется чрезвычайно трудным расчленить их совокупное действие в развитии изобретательности, так как результат их — психический склад индивидуума — дает уже нам целостное единство, новый синтез качеств, которые лишь отчасти напоминают черты родителей и предков или образцы для
11
подражания из окружающей среды. К этому нужно прибавить, что этот сложный вопрос и эмпирически мало разработан. Что же касается вопроса о наследственности или зависимости от социальной среды философского дарования, то об этом ровно ничего нет. Мало того, даже те довольно многочисленные данные, которые рассеяны в биографиях философов, не собраны воедино. Так, Гальтон упоминает в своем исследовании только Аристотеля, Лейбница и Бэкона; Рейбмайр дает немногим больше (Гальтон: "Наследственность таланта", Reybmayr: Entwickelungsgeschichte des Genies, 1904).
IV. Роль наследственности
Тем не менее и на основании скудного имеющегося у нас материала можно высказать несколько не лишенных вероятия догадок. Установка новых научных данных может совершаться или путем методического непрерывного ряда выводов или накопления фактов, или путем внезапных неожиданных сопоставлений и догадок. В последнем случае мы имеем проявление способности к открытиям и изобретениям. "Открытия, — говорит Лаплас, — заключаются в сближении идей, которые соединимы по своей природе, но доселе были изолированы одна от другой". Таким образом, комбинационный дар, богатство, подвижность и гармоническая организованность многообразных диспаратных рядов мыслей и образов лежит в основе изобретательности. Этими свойствами определяется, так сказать, комбинационное поле в творческой работе изобретателя. Известное крупное дарование представляет сочетание частичных дарований данного порядка S' + S"+ S'"etc, разбросанных среди различных его предков. Так, один из предков Бетховена мог обладать замечательно тонким слухом, другой — исключительной музыкальной памятью, третий — необыкновенным комбинационным даром и т. д. (см. "Наследственность", проф. Ю. А. Филипченко, 1917, стр. 262). представляет сочетание частичных дарований данного порядка S' + S"+ S'"etc, разбросанных среди различных его предков. Так, один из предков Бетховена мог обладать замечательно тонким слухом, другой — исключительной музыкальной памятью, третий — необыкновенным комбинационным даром и т. д. (см. "Наследственность", проф. Ю. А. Филипченко, 1917, стр. 262).
Весьма вероятно, что удачное смешение различных рас, народов, племен и сословий дает больший простор для деятельности воображения, расширяет это поле. Рейбмайр указывает, что среди даровитых людей нередко встречаются люди смешанного происхождения, что, разумеется, не исключает ни того, что смешение разнородных натур может быть неудачным в смысле одаренности потомка, ни того, что среди родителей, принадлежащих к однородной в расовом, национальном, племенном и сословном отношениях среде, могут быть противоположные психические индивидуальности, гармонично дополняющие друг друга в одаренном потомстве и дающие благоприятный для творчества синтез. Вот ряд иллюстраций из истории философии:
Ф а л е с — греко-финикийского происхождения.
Антисфен — аттико-фракийского.
Фома Аквинский — ломбардо-итальянского.
Парацельс — по отцу из знати Вюртемберга, по матери бюргер из Эйнзиделя (Швейцария).
Лейбниц — славяно-германского происхождения.
12
Руссо — французско-швейцарского.
Шопенгауэр — голландско-немецкого.
Монтень — еврейско-французского.
Г а м а н н — отец из Лаузица, мать из Любека.
Монтескье — отец француз (гасконец), мать англичанка.
Ницше — польско-саксонского.
Дюринг — шведско-немецкого.
Фихте — шведско-немецкого.
С п и р — немецко-русско-греческого (?).
Кант — шотландско-немецкого (?).
Гегель — отец из Каринтии, мать из Вюртемберга.
Фриз — шотландско-немецкого.
Т. Масарик—мораво-словацкого.
Козлов — отец помещик, мать крестьянка.
В л. Соловьев — малороссийско-великорусского, духовно-аристократического.
Ал. Введенский — русско-французского (бабка француженка).
Лосский — русско-польского.
Челпанов — русско-крымготского.
Б. Чичерин — итальяно-русского.
Не менее благоприятны бывают комбинации воображения у лиц, принадлежащих одной расе или одному народу, но попавших в другую среду, которая контрастно гармонически дополняет односторонность их психического склада.
Личность Серена Киркегора, датского философа и поэта, может служить примером творчески продуктивного сочетания контрастных черт характера, унаследованных от родителей одной и той же национальности и однородной социальной среды. "Я двуликий Янус" (Janus bifrons), — писал о себе 24-летний философ, и его биограф Геффдинг, подробно анализируя эту двойственность личности, ставит ее в связь с усталым мрачным душевным складом отца Киркегора и светлой жизнерадостной натурой его матери (см. Н. Hoffding. "S. Kierkegaard", 1896, S. 35). Некоторая дисгармония этих контрастных черт души и была, впрочем, причиной того, что Киркегор, при всем богатстве глубоких философских идей и ярких художественных образов в своих творениях, не мог дать законченной философской системы, но лишь своеобразное сочетание скептицизма и иррационализма с мистикой и философией веры. В своем дневнике 26-летний юноша пишет (1839 г., 25 июля): "Я нахожу так мало радости в моем существовании потому, что всякая мысль, зарождающаяся в моей душе, тотчас же принимает такие сверхъестественные размеры, что я оказываюсь решительно подавленным ею, и идеальное предвосхищение проблемы (Anticipation) дает мне так мало разъяснений касательно существования, что я, наоборот, оказываюсь совершенно бессильным подыскать соответствующее моей идее, слишком взволнованным и, так сказать, нервозным, чтобы прийти к успокоительному решению вопроса" (Н. Hoffding. "S. Kierkegaard", 1896, S. 44).
Перевоплощаемость, умение стать на чужую точку зрения, тенденция быть третейским судьей при диалектическом заострении противоположных мнений — вот черты, характерные нередко для натур, у которых
13
в груди живут "две души". Иногда, при известной неуравновешенности двух противоположных тенденций, даже у мощно одаренных натур создается мучительная скептическая раздвоенность. Это мы видим, например, у Ренана: "В семье моей матери были элементы крови басков и борделезцев. Этот гасконец, помимо моего ведома, устраивал штуки бретонцу, делал ему обезьяньи рожи..." ("Souvenirs d'enfance", p. 141*) "...Эта сложность происхождения в значительной мере, думается мне, была причиною моих кажущихся противоречий. Иногда одна половинка моего "я" смеется, а другая плачет... (ib., 145). "...Мне суждено было быть тем, что я есмь
— романтик, протестующий против романтизма, утопист, проповедующий
в политике terre a terre**, идеалист, тщетно причиняющий себе немало зла,
дабы казаться буржуа, — ткань противоречий, напоминающая hyrcocerf'a1
схоластики, совмещавшего в себе две природы" (ib., 73).
В "Ессе homo" Ницше пишет о себе: "Я — мой собственный двойник, я обладаю в равной мере и "вторым", и первым зрением, а, может быть, еще и третьим. Уже мое происхождение дает мне право направлять мои взоры далеко за пределы местных, чисто национальных перспектив; мне ничего не стоит быть "хорошим европейцем". С другой стороны, я, быть может, в большей степени немец по сравнению с современными немцами, каковы имперские немцы; я последний антиполитический немец. А между тем мои предки были польские аристократы. Я унаследовал от них значительную дозу инстинкта расы, кто знает, быть может даже liberum veto***. Как я подумаю, сколько раз случалось во время путешествия, что ко мне обращались по-польски даже поляки, что редко меня принимали за немца, то и может показаться, что я лишь слегка тронут германизмом. А между тем в моей матери Франциске Гюблер есть что-то изрядно немецкое, так же как и в моей бабушке с отцовской стороны Краузе". Если аристократическое происхождение Ницше есть самообман, то его славянское происхождение вне сомнения. Мебиус в своей книге о Ницше указывает на то, что это славянское имя чрезвычайно распространено в Лейпциге: в лейпцигской адресной книге за 1902 г. имеется свыше ста семидесяти подобных фамилий.
Кант отмечает интеллектуальную перевоплощаемость в качестве одной из основных черт философского гения, и у него наследственная двуликость психического склада проявляется уже в первом юношеском произведении, где он выступает третейским судьей в вопросе "об измерении живых сил". Шопенгауэр отмечает в себе подобную же двуликость, относя некоторые черты своего умственного склада, подобно Гёте, за счет материнского влияния, а особенности нравственного характера
— за счет отца. Можно, однако, привести немало инстанций, по-видимо
му, противоречащих сказанному. В ближайших предках (насколько они
нам известны) Платона, Аристотеля мы не наблюдаем указанного сме
шения разнородных расовых или сословных элементов, и в то же время
их полиперсонализм, их способность становиться на всевозможные точки
зрения и сочетать в новые синтезы самые резкие противоположности
проявляются самым глубоким образом. Но, как замечено выше, гармо
нически дополняющие друг друга комбинации возможны и в однород
ной среде.
1 Козлооленя.
14
V—VI. Философское творчество и душевные болезни
В вопросе о наследственности философского дарования и природном психофизическом складе философов необходимо свести счеты с модной и теперь теорией сближения и даже отожествления гения и невроза. В применении к философам эта мысль была впервые развита не Ломброзо и даже не Moreau de Tour (1859), но Лелю в двух работах: "Demon de Socrate" (1840) и "L'amulette de Pascal", затем ее мы встречаем у Ломброзо, который применял ее, между прочим, к О. Конту, и у Мебиуса, распространяющего ее на Руссо, Шопенгауэра и Ницше. Лелю усматривает в Сократе душевнобольного с детства, так как Сократ страдал галлюцинациями с детства, в чем Лелю и усматривает "caractere formel et indubitable de folie"*. "Демон" Сократа и есть обозначение объектов его галлюцинаций. Лелю сближает с этим демоном галлюцинации двух других философов-ученых Кардана и Бодэна. Кардан в своей автобиографии "De vita propria liber" в XVIII главе указывает на наличность у себя и Сократа "доброго духа" — spiritusbonus. Появление этого духа, ставшее особенно частым на 64-м году жизни Кардана, сопровождалось следующими симптомами: сильное сердцебиение, головокружение, мелькание образов: "In immersum daemonum apud antiquos multiplices fuere differentiae — prohibentes, ut Sokratis, admonentes, ut Ciceronis in obitu, docentes, quid futurum sit per somnum, per casus, per belluos, hortando nos, ut ad locum eamus et fallendo per sensum unum aut plures simul (совокупные галлюцинации нескольких органов чувств) et nobilior item per res naturales (иллюзии) et demum per non naturales (галлюцинации) et hunc censemus nobilissimum"**. Хотя Кардан и говорит, что демон помогал ему и в научном творчестве, и в житейских обстоятельствах, но сообщает нам он от него лишь бессмысленные фразы. О подобном же esprit frappeur*** рассказывает и Бодэн в своей "Демономании" (1580). Вот стихи Бодэна:
Enseigne moi, comme il faut faire
Pour bien ta volonte parfaire,
Car tu es mon vrai Dieu entier,
Fais que ton esprit debonnaire
Me guide et mene au droit sentier****.
Приведенные галлюцинации Кардана и Бодэна, даже если и свидетельствуют о душевном расстройстве, не имеют никакого отношения к философскому творчеству обоих ученых и не стоят ровно ни в какой связи с "демоном" Сократа. Лелю крайне поверхностно исследовал природу этого демона в творчестве Сократа. Поэтому я считаю нелишним подробно остановиться на этом понятии. Прежде всего разберем, следуя за Вл. С. Соловьевым, значение термина у древних. у древних.
Соловьев указывает (Брокгауз, слово: демон), что это слово производится: 1) Платоном (в "Критоне") от — знать — знающий. 2) Боппом (также Курциусом) от корня — знать — знающий. 2) Боппом (также Курциусом) от корня (man), т. е. блестящий — бог. 3) Поттом от (man), т. е. блестящий — бог. 3) Поттом от — раздающий (дары). Уже у Гомера боги — раздающий (дары). Уже у Гомера боги
15
демоны разделены: только раз Зевс называется демоном — в других же местах этот термин применяется для обозначения какого-то неопределенного таинственного воздействия или наития неведомого мира, мудрое наитие свыше (Od. III, 26), иногда этот термин применяется in malam partem* — дурное пагубное внушение, иногда для характеристики истинной внутренней природы человека (Гераклит — **). Так понимали термин "демон" древние. **). Так понимали термин "демон" древние.
Какую роль играло это воображаемое существо в творчестве Сократа? Вольтер видел в нем простое литературное украшение. Богослов Пиа (Piat) — ссылку на подлинный "глас Божий", к которому апеллировал Сократ, когда дело касалось чего-нибудь превышающего естественные силы человеческого рассудка, — толкования, конечно, одинаково ложные. Наиболее правильны замечания Гегеля и Фуйлье, одинаково указывающие на легкомысленность суждений Лелю. Гегель пишет: "Демон не есть божество или ангел, не совесть, а принадлежащий ему оракул. Так как у Сократа субъективные решения впервые начали освобождаться от действия внешнего оракула, то это возвращение в себя здесь на первых порах необходимо должно было еще проявляться в физиологической форме. В самом деле, центральный пункт всего исторического переворота, произведенного принципом Сократа, состоит в том, что оракул заменился свидетельством индивидуального духа, что субъект берет на себя свои решения" (Куно Фишер: "Гегель", т. II, стр. 314—315). Подробный и обстоятельный анализ сократовского "даймониона" дает Фуйлье ("La philosophie de Socrate", ч. II, p. 266—316). В Сократе мы видим редкостное сочетание иронии и энтузиазма. Способность самозабвения у него связывается с необыкновенной выносливостью в голоде, ходьбе, питье. Он ходит босиком, обнаруживает замечательную неутомляемость, способен к необычайному самоуглублению (которое в "Пире" описано Платоном, быть может, в несколько преувеличенном виде). В "Федре" указаны виды "безумия" в высшем смысле слова, проявляющегося в поэзии, любви и философии. В "Пире" демоны упоминаются как посредники между богами и людьми. В "Меноне" дивинация указывается как источник "мнения". Фуйлье сближает эту мысль с идеей о роли в познании подсознательных petites perceptions Лейбница, которые потенциально являются источником всеведения, того, quae sint, quae fuerint, quae mox ventura trahantur***. В "Апологии" Сократ говорит, что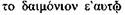
 ****, это было поводом к обвинению его в введении новых божеств, ****, это было поводом к обвинению его в введении новых божеств, 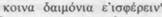 ***** Божественный сигнал был ***** Божественный сигнал был
звуком. Что же это, метафора, внутреннее слово или слуховая галлюцинация?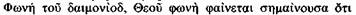
 (Apol.)******. Предчувствия Сократа играют чисто отрицательную роль задержки, а не императива — (Apol.)******. Предчувствия Сократа играют чисто отрицательную роль задержки, а не императива — — чего не надо делать. В "Критоне" подчеркивается громкость, и это словесное преувеличение дает повод Лелю предположить здесь слуховую галлюцинацию. Нельзя литературный прием истолковывать клинически. Надо вспомнить о Горации и Пушкине, чтобы оценить подобные выражения: — чего не надо делать. В "Критоне" подчеркивается громкость, и это словесное преувеличение дает повод Лелю предположить здесь слуховую галлюцинацию. Нельзя литературный прием истолковывать клинически. Надо вспомнить о Горации и Пушкине, чтобы оценить подобные выражения:
16
Est mihi purgatam crebro qui personet aurem:
Solve senescentem mature sanus equum, ne
Peccet ad extremum ridendus et ilia ducat*,
или:
...лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел**.
В некоторых диалогах литературный прием в виде ссылки на откровение является несомненным. Можно отметить место в "Филебе", где речь идет не о предвидении, но о воспоминании слышанного когда-то во сне или наяву. В "Теагесе" Сократ рассказывает о телепатических явлениях предчувствия смерти Хармида, предчувствия неудачи Сицилийской экспедиции и смерти Тимарха. Фуйлье характеризует это явление как самопроизвольную интуицию, связанную с воспоминанием или с догадкою относительно будущего, т. е. предвидением, поддерживаемую энтузиазмом интуицию, получившую (в силу своей кажущейся независимости от сознания Сократа) роль Провидения, проявляющегося в своего рода внутренней речи. Весьма вероятно, что Сократ верил в своего демона, как Вл. Соловьев верил в телепатию, но этот демон, как верно подмечает Гегель, является для него не внешним феноменом, но вдохновляющей силой, переместившейся извне в его сознание. Все это от простой патологической галлюцинации отстоит безмерно далеко и не дает никакого повода к отожествлению философского творчества с безумием. Самая вера Сократа в демона наверное не была так элементарна, как вера его предков во внешний оракул, — ведь Сократ как раз есть поворотный пункт от слепой религиозной веры к свободной автономии человеческого разума.
Ломброзо не только отожествляет гениальность с вырождением, он даже характеризует гениальность как род эпилепсии. Идеи Ломброзо неоднократно подвергались основательной и суровой критике психиатров. Его книга "Genio e follia" и теперь сохраняет интерес как возбуждающий мысль парадокс, но ее полная несостоятельность, по существу, уже раскрыта в достаточной степени. Неясность и крайняя расплывчатость понятия гения и вырождения и совершенно мнимая фактическая обоснованность при неточной передаче и произвольном истолковании множества фактов дали повод Этьену Рабо (Rabaud) определить способ работы Ломброзо как метод "поверхностной точности при неточности по существу" ("Le genie et les theories de M. Lombroso", p. 40). Гирш в книге "Гений и вырождение" убедительно доказывает, что отдельные поступки гениев и сумасшедших иногда имеют внешнее сходство, но не внутреннее сродство — безумие не определяется поступками, как бы они странны ни казались нам, пока мы не выяснили мотивов поступков. Можно иллюстрировать, как это делает Рабо на анализе личности Огюста Конта, как Ломброзо обращается с фактами из истории философии. Ломброзо разделывается с Контом на протяжении десяти строчек, заключающих
17
в себе не менее пяти ошибок. Конт был душевнобольным не 10 лет, а 8 месяцев. Ломброзо приписывает Конту наклонность к пророчествам, которых Конт никогда не делал. Речь идет об одном месте из "Системы позитивной политики", где Конт развивает мысль, что жизнь женщины была бы более альтруистична, если бы деторождение совершалось без участия мужчины. Сколь ни странно такое пожелание, оно у Конта высказывается лишь как фантастическая утопия, а не в виде смешного пророчества. Что Конт как гениальный мыслитель не был душевнобольным, это в достаточной мере выяснено в обстоятельной монографии Дюма ("Les deux Messies positivistes"). Мебиус в трех монографиях о Руссо, Шопенгауэре и Ницше указывает справедливо на многие патологические черты у этих философов, но ему нигде не удается доказать, что primum movens их философского творчества лежит в области патологии. Наоборот, он убедительно доказывает, что черты психического расстройства влияли самым пагубным образом на процесс продуктивного философского изобретения. Так, например, невропатическая наследственность у Ницше со стороны отца (eine schlimme Erbschaft von Seiten meines Vaters) разразилась душевной болезнью, и Мебиусу удается показать ее пагубные следы в произведениях Ницше лишь с середины 80-х годов. Да и те многочисленные примеры бессмыслицы и безвкусия у Ницше, которые он приводит, слишком часто встречаются и у здоровых философов, ибо "nihil tarn absurde dici potest quod non dicatur ab aliquo philosophorum" (Цицерон), т. е. "нет такой глупости, которой не сказал бы какой-нибудь философ".
Счастливая наследственность, как мы видели, гармонично сочетая противоположные черты психического склада, ведет к тому, что я назвал бы биологическим расширением комбинационного поля творческой фантазии. В этом отношении одаренный человек является из ряда вон выходящим, ненормальным, в смысле превышения средней нормы одаренности. У дегенерата противоположные психические черты сочетаются уродливым образом, т. е. понижают творческую продуктивность, — он тоже из ряда вон выдающийся, ненормальный, но в смысле недостижения средней нормы. Отожествление гения и безумия основано на двусмысленности термина "ненормальный".
Ненормальный — безумец.
Гений — ненормален.
Гений — безумец.
А так как между нормальностью и ненормальностью психического склада существуют бесчисленные переходы, и притом человек (патологически), не совсем нормальный в одном отношении, может быть выше нормы во множестве других, то спутанность мысли а 1а Ломброзо в этом вопросе делается очевидной. При этом нужно иметь в виду, что натуры, особенно богато одаренные и особенно упорные в творческой работе, могут с течением времени легче терять психическое равновесие, испытывать нервное переутомление и т. п. Мудрено ли, что у множества даровитых людей можно найти, особенно в старости, черты духовного распада!
18
Душевные, как и физические, страдания сами по себе не могут быть причиною творческой продуктивности; они иногда могут быть лишь косвенными поводами, благоприятствующими изобретательности.
1. Болезненность, если она не поражает существенным образом
самое творческое дарование, может благоприятствовать самоуглубле
нию. Болезненный, но даровитый ребенок чаще проводит время в одино
честве, которое дает ему возможность сосредоточиться на своем внут
реннем мире. Подобное явление мы наблюдаем у Леопарди, Пристли,
Мэн-де-Бирана и у многих других философов, про которых можно
сказать то же, что поэт говорит про художников:
Zu erfinden, zu erschliessen,
Bleibe, Kunstler, oft allein!1
Лет за двадцать до того (1799) Мэн-де-Биран писал: "Чувство собственного существования, ввиду непрерывности, делается незаметным. Когда не страдаешь, то почти не думаешь о себе, нужно, чтобы болезнь или сила рефлексии заставила нас снизойти в самих себя. Лишь нездоровые натуры (gens malsains) чувствуют, что они существуют. Здоровые люди, даже философы, более стремятся пользоваться жизнью, чем заниматься изысканием, что она такое есть. Чувство собственного существования не удивляет их; здоровье влечет нас к внешним объектам, болезнь приводит к самим себе". Кабанис отмечает у Мэн-де-Бирана крайне утонченную чувствительность (см. Naville: "M.-de-Biran").
- Болезненное возбуждение может в не слишком сильной степени быть конечным стимулом, "химическим толчком", для широкого размаха творческой фантазии, для диссоциации привычных связей чувств и представлений, для порождения той
 *, для которой завершился подготовительный творческий процесс. *, для которой завершился подготовительный творческий процесс.
- Наконец, возможен третий, совершенно исключительный случай, когда собственная душевная болезнь является для философа объектом научного психологического самонаблюдения. Такое явление мы наблюдаем в творчестве высокодаровитого и философски просвещенного русского психиатра Кандинского, который, страдая псевдогаллюцинациями, дал мастерское описание этого явления, совмещая в себе личность философа, врача и пациента. Равным образом Ламеттри, переживший горячку, и О. Конт, оправившийся от душевной болезни, воспользовались данными самонаблюдения для некоторых философских выводов. См. биографию Ламеттри, приложенную к русскому переводу "L'homme machine", и "Историю новейшей философии" Геффдинга (глава о Конте).
VII. Значение географических и экономических условий в философском изобретении
Гельвеций был прав, подчеркивая великое значение социальных условий в научном творчестве. Эти условия в своей совокупности могут оказывать благодетельное или обратное действие на комбинационное
1 "Чтобы изобретать, открывать, оставайся почаще, художник, один" (пер. с нем.).
19
поле творческой фантазии. Ввиду этого можно говорить о социологическом расширении этого поля. Здесь надо принять во внимание:
- Географические условия. Глухие местности с однородным составом населения менее благоприятны для пробуждения творческой деятельности, чем, например, портовые города. Рейбмайр в вышеупомянутой книге дает карты Греции и Италии с указанием местностей, откуда преимущественно выходили даровитые люди. Эти карты красноречиво подтверждают высказанное положение. Можно прибавить, что Кант, Шопенгауэр, Ренувье и Конт выросли в портовых городах среди смеси "одежд и лиц, племен, наречий и состояний" (Кенигсберг, Данциг, Монпелье). Весьма часто такую же расширяющую духовный кругозор роль играли для философов путешествия. Их совершили многие греческие философы, Декарт, Локк, Юм, Шопенгауэр, Ницше и т. д.
- Не менее важную роль играют экономические условия. Одэн говорит, что аристократический ребенок имеет 200 шансов против одного, чтобы выдвинуться в люди, по сравнению с пролетарием. Еще не существует работы, которая поставила бы своей задачей определить общественное и классовое происхождение философов. Можно, однако, думается мне, лишь отметить тот факт, что особенно часто до сих пор философы выходили из духовного сословия, затем часто встречаются дети юристов, врачей, ученых и учителей.
Весьма важный вопрос о роли экономического фактора в процессе образования философских систем совершенно не разработан, и попытки, делавшиеся в этом направлении историками философии, до сих пор, к сожалению, крайне поверхностны. Нельзя же, в самом деле, принимать всерьез заявления вроде следующего ("Neue Zeit"), будто появление "Философии бессознательного" Гартманна свидетельствует о том, что буржуазия как класс начинает терять свое сознание, или уверение Штил-лиха, что появление атомистики Демокрита связано с развитием денежного хозяйства, ибо-де "атомы — те же деньги". Наиболее серьезные мысли в этом направлении можно найти в книгах Eleutheropulos'a "Wirthschaft und Philosophie" и Patten a "History of english thought". Ho и в этих сочинениях сказывается слишком плохое знание общеизвестных исторических фактов1. Так, например, Элейтеропулос сообщает, что к началу V в. резкое обострение контраста между роскошью и нищетою в ионийских колониях вызвало потребность в реформе социальных условий. Пифагор ощутил потребность в подобной реформе и для ее осуществления руководился спартанским идеалом. Однако ионийцы могли бы задаться вопросом, почему надо прежний образ жизни изменить на новый. Это-то и побудило пифагорейцев указывать на то, что в подобном понимании жизни кроется закон, каковой имеет как раз мировое значение, будучи мировой гармонией. Пифагор борется против половой и иной неумеренности ионийцев, против которой выдвигается учение о переселении душ и связанное с ним воззрение на очищение души. Элейтеропулос и не подозревает, что взгляд Бекка на дорическое мировоззрение пифагорейцев опровергнут Эдуардом Мейером и Wilamowitz-MoelendorfoM (см.: Маковельский. "Досократики", т. 1, стр. 62).
1 О Гартманне см.: проф. Т. Масарик. "Социологические и философские основы марксизма", 1898.
20
Соотношение между интеллигентностью и социальным положением должно быть всесторонне изучено экспериментально-психологическим путем в связи с основательным историческим освещением философского творчества. Психологическое исследование в этом направлении начато лишь в самое недавнее время. Последняя работа по этому вопросу, известная мне и заключающая в себе и историю вопроса, это исследование: "The relation of intelligence and social status", by James W. Bridges and Lillian E. Coler (Psychological Review, vol. XXIV. January, 1917). Исследование это, подобно работам Бине во Франции, Гоффмана в Германии и Yerkes'a в Соединенных Штатах, подтверждает факт весьма большой зависимости интеллигентности детей от социальных условий. Любопытна корреляция между интеллигентностью детей и характером профессии родителей. Если резюмировать обследование 165 детей в возрасте от 7 лет и 5 месяцев до 8 лет, то оно выразится в следующей таблице.
|
Число испытуемых |
Средний хронологический возраст |
Средний интеллектуальный возраст |
Коэффициент интеллектуальной подготовленности |
Дети учителей, врачей, священников, юристов, издателей, архитекторов |
32 |
7 лет 5 мес. |
9 лет 8 мес. |
1,42 |
Дети коммивояжеров |
39 |
7 лет 6 мес. |
9 лет 1 мес. |
1,26 |
Дети владельцев торговыми предприятиями, офицеров |
34 |
7 лет 10 мес. |
9 лет 1 мес. |
1,21 |
Дети рабочих со специальной подготовкой (механики, электротехники, сапожники и т. п.) |
63 |
8 лет |
7 лет 10 мес. |
1,12 |
Дети рабочих без специальной подготовки |
60 |
8 лет |
7 лет 1 мес. |
0,83 |
Здесь заслуживает внимания тот факт, что, несмотря на возрастание хронологического возраста от одной группы к другой, интеллектуальный возраст убывает. Превосходство детей более образованных классов сказывается особенно ярко в высших умственных операциях, каковы способность к анализу и абстракции; в сфере ощущений и двигательных функций оно сказывается в меньшей степени. Таковы наблюденные факты, но как представители "теории среды", так и сторонники "теории наследственности" могли бы истолковать эти факты каждый в свою пользу. Так, первые подчеркнули бы совершенно очевидную разницу в школьной и дошкольной обстановке, в преподавательском составе и т. д. более привилегированных и менее привилегированных групп, а вторые столь же энергично подчеркнули бы совершенно столь же очевидную разницу в характере и интеллигентности родителей. Классовое положение философов еще не было специально исследовано, но,
21
как я уже заметил, большинство из них, биографии коих мне известны,
— дети интеллигентных родителей. Сын угольщика — Виктор Кузен, сын
сапожника — Джэмс Милль, сын тесемочника — Фихте, сын солда
та — Джордано Бруно, сын кучера — Т. Масарик1 не составляют, строго
говоря, исключения, ибо счастливая случайность в ранней юности ввела
их в высококультурную интеллигентную среду.
VIII. Значение школы
3. Далее следует отметить влияние как школы вообще, так и философской школы: Сократ — Платон, Платон — Аристотель, Мартин Кнуцен
— Кант, С.-Симон — Конт и т. д. В некоторых случаях, как, например,
в лице Лейбница, мы встречаем самоучку в области философии. Под
единством философской школы я разумею общность взглядов на сущ
ность познания, на методы его обоснования, на технические навыки
в процессе исследования и на литературный стиль изложения. При этом
принадлежность к известной школе есть понятие весьма растяжимое.
Двух лиц — А и В — может объединять в сознательной принадлежности
к известной школе меньшее количество общих черт, чем двух лиц А и С,
которые называют себя представителями совершенно различных школ.
В истории всякой философской школы можно отметить то, что я назвал
бы процессом поляризации в предпосылках первоначальной системы.
Каждый крупный мыслитель, полагающий начало новому философскому
синтезу идей, объединяет в своем построении противоположные моменты
философской мысли. Эти противоположности, объединение коих нередко
достигается ценою некоторых неясностей или недоговоренностей в цент
ральном пункте системы, расщепляются у последователей школы, кото
рые дают неизменно правое, левое крыло и центр, стремящийся сохранить
прежний синтез, углубляя его путем частных поправок, комментаторства
и систематической экзегезы. Нередко в истории школы правое и левое
крыло посменно одерживают перевес, как, например, в платонизме (на
это указывает Т. Гомперц, см.: "Griechische Denker". Bd. III, 1).
Эти диалектические расщепления первоначальной системы могут быть в самых различных областях философской мысли и комбинироваться в истории идей с различными видами социальных противоположностей — религиозное свободомыслие и ортодоксия, политический радикализм и консерватизм, эстетический реализм и символизм и т. д. По смерти Платона его господство над Академией сменяется управлением племянника Спевзиппа, который подчеркивает в учении Платона натуралистическую классификаторскую тенденцию, анализируя роды и виды животных и растений в эмпирико-индуктивном духе, отбрасывая учение об идеях и идее бога, как творческой силы, но выдвигая идею становящегося бога, за что и вызвал упреки в атеизме. Наоборот, Ксенократ в своих воззрениях подчеркивает пифагорейские черты позднего платоновского умозрения, еще сгущая в них элементы супранатурализма.
1 См. брошюру проф. Пражского университета Э. Радля "Т. Масарик, его жизнь, научная и общественная деятельность". Прага, 1921.
22
Школа Декарта объемлет близкого к материализму Ламеттри Региуса и близкого к идеализму Беркли Малебранша. Философия Канта породила ряд писателей с наклоном к эмпиризму и материализму: Ланге, Риль, Либманн, Авенариус, и ряд наклонных к интеллектуализму: Коген, Наторп, Кассирер, Герланд. Критика чистого разума расщепилась на логику чистого познания и критику чистого опыта. Система Гегеля дала трещину в нескольких местах, например в религиозной проблеме, где мы имеем с левой стороны Фейербаха, провозглашающего полную несовместимость идеи личного бога с занятиями философией, и с правой стороны господ вроде Вейссе или Рейфа; последний вопиет: "Этот Бог (гегелевский сверхличный абсолют) есть чудовище, которое высасывает у нас мозг нашего существа, нашу личность, чтобы наполнить ею себя..." (см.: Каринский. "Критический обзор последнего периода германской философии", 1873, стр. 82) Школа Шопенгауэра породила Дон-Кихота, рыцаря печального образа — Майнлендера, принявшего и развившего до последних пределов идеализм и пессимизм учителя и честно кончившего жизнь самоубийством, и одаренного практической сметкою, здравым смыслом Санхо Панхо — Фрауэнштедта, который легко разделывается с мистическим идеализмом Шопенгауэра; его философия, по словам Гартманна, относится к философии его учителя, как пыльная берлинская аллея к роскошному девственному лесу далекой Индии. Иногда крупный гений выделяется из "планетной системы" известной школы и образует самостоятельное солнце — центр новой планетной системы. Такова была судьба Платона, Аристотеля, Канта.
IX. Круг чтения
4. Далее существенно влияние круга чтения, и в частности философского чтения. Именно у Лейбница мы наблюдаем влияние с детства общения с богатой библиотекой. Утверждение, будто великие философы мало читают или даже совершенные невежды в истории философии и литературе, в корне ошибочно. Иногда они притворяются, как Декарт, будто мало читают предшественников; иногда они, подобно Малебраншу, Руссо, Шопенгауэру, Конту и Ницше, проповедуют воздержание от чужих книг, но факты показывают совершенно иное: философ всегда "in angulo cum libello"*. В особенности в юности все философы переживали пароксизмы запойного чтения. Недавние исследования Шляппа обнаружили, как широко был осведомлен Кант в современной ему изящной литературе. Руссо пишет: "Я читал все с одинаковой жадностью на посылках, в конюшне, в ватерклозете, забываясь там в течение часов, голова у меня кружилась от чтения, я только им и занимался, мой хозяин выслеживал меня, застигал меня на месте преступления, бил, отбирал книги". "Вы должны знать, — пишет Юм своему доктору (1722), — что я с самого раннего детства неизменно сохранял сильную наклонность к книгам и литературе". В. Гамильтон также с детства "a hard reader"**. У Адама Смита школьные товарищи отмечают "an extraordinary passion for the books"***. Проповедовавший в зрелом возрасте "hygiene cerebrale"**** Конт в юности читал запоем. Так, в 1816 году он, по словам Longchamp, прочел Фонтенеля, Мопертюи, Адама
23
Смита, Дидро, Юма, Кондорсе, де Местра, де Бональда, Биша и Галля (см.: Gruber. "A. Comte". S. 22—23).
Эта жадность философов к чтению, в которой сказывается мощный инстинкт любознательности, отнюдь не представляет стремления к бесформенной эрудиции. Именно потому они и осуждают чрезмерное и бестолковое чтение. Так, Кант разделяет все книги на четыре группы: 1) те, которые обогащают наши знания, 2) которые содействуют моральному усовершенствованию, 3) которые содействуют усовершенствованию языка и стиля и 4) которые служат предметом развлечения. Шопенгауэр оттеняет в процессе чтения "активную", критическую работу Selbstdenker'a*. По его мнению, пассивное чтение убивает самодеятельность мысли, а Ницше, этот туго-ученый эрудит, в "Ecce homo" заявляет, что воздержание от чтения книг на целые годы было величайшим благодеянием для пробуждения в нем духовной самодеятельности ("Ессе homo", фр. перевод, стр. 111).
Протест против "чрезмерности истории", против книжной традиции, подавляющей самодеятельность философской мысли, особенно против древнегреческой философии, мы встречаем у того самого Юма, который вполне оценивает значение культурного общения в научном творчестве у современных народов, забывая, что в обоих случаях при умелом пользовании книгой получается социальное обогащение комбинационного поля творческой фантазии. "Я нередко склонялся к мысли, что перерывы научных периодов (если бы они не сопровождались гибелью древних книг и исторических памятников) скорее благоприятствовали бы, чем вредили, успеху наук и искусств тем, что такие перерывы содействовали бы ограничению влияния авторитета и низложению с трона узурпаторов, тиранизировавших человеческий разум; дело здесь обстоит так же, как и с перерывами в управлении в политических обществах. Стоит обратить внимание на смешную подчиненность древних философов главарям их школ, чтобы убедиться, что подобная рабья философия не могла бы создать ничего хорошего, даже если бы она продолжала существовать сотни веков... Начиная с эпохи Возрождения, нет больше речи о стоиках, эпикурейцах, платоновцах, пифагорейцах, ни одна из этих сект не оказалась в силах восстановить свой авторитет, и воспоминание об их крушении помешало людям слепо подчиняться вновь образовавшимся сектам, которые пытались овладеть их умами" (Oeuvres philosophiques de Hume t. dixieme, 1788, p. 271—273). В этой цитате Юм благоразумно умалчивает о скептиках и, в частности, о Сексте Эмпирике, произведения которого были переведены на латинский язык в XVI в. и наверное были известны Юму. Сличение "Трактата" с сочинениями Секста Эмпирика было бы лучшим ответом на эту тираду. В другом месте Юм усматривает благоприятные условия для прогресса наук и искусств в политической свободе, соседстве культурных стран и культурном уровне данной страны. Тут он пишет: "Что остановило успех картезианской философии, которой Франция минувшего века была столь привержена? Одно лишь противодействие других культурных народов, которые вскоре обнаружили слабые стороны этой философии. Не соотечественники Ньютона, а иностранцы подвергали его теорию наиболее строгой критике, и если эта теория оказывается в состоянии преодолеть противодействие, встречаемое фактически во
24
всей Европе, то это значит, что она перейдет победительницей и к отдаленнейшим потомкам" (Essais moraux et philosophiques: "L'origine et les progres des arts et des sciences" (XVII-me Essai)".
5. Чрезвычайно существенным стимулом к творчеству является признание со стороны общества — не Его Величества Большинства, но сведущих, знающих, подготовленных к пониманию новых откровений человеческой мысли. Именно таково истинное значение того стремления к славе, которое, по признанию философов, играло известную роль в качестве импульса к духовной работе. Платон и Аристотель отдают себе вполне ясный отчет в значительности их философских открытий. Паскаль говорит: "Те, кто пишет против славы, ищут славы хороших писателей, а те, кто их читает, хотят прославиться тем, что читали их, и я, пишущий эти строки, имею, быть может, подобное же желание и, пожалуй, и те также, которые это прочтут". Когда (в 1666 г.) Лейбницу было 20 лет, его диссертация была отвергнута в Лейпциге. Ждать пять лет, чтобы снова домогаться степени доктора, он не захотел. "Когда я заметил происки моих соперников, то переменил решение: меня потянуло путешествовать и изучить математику. Ибо я считал недостойным молодого человека сидеть точно пришпиленным к своему месту: дух мой горел желанием снискать большую славу и посмотреть свет" (автобиография Пацидия, Куно Фишер: "Лейбниц", стр. 48). Трактат Юма (1739) вызвал весьма сочувственный отзыв в "History of the works of the learned" (1739, № 10), где отмечается талант автора (Marks of a swaving genius*), и Юм сравнивается с Мильтоном и Рафаэлем в их первом выступлении.
И что же? Юм находит эту рецензию somewhat abusive** и отмечает полный неуспех своего сочинения. Гексли считает вероятным, что Юм бросил философию и перешел к политике благодаря неудовлетворенному самолюбию. Колоссальное честолюбие юного Шопенгауэра и Ницше общеизвестно. Говоря о мотивах своего творчества, Спенсер замечает: "Желание создать что-нибудь и завоевать себе славу сыграло очень большую роль". В зрелом возрасте, когда у философа уже сложилась теоретическая система, он начинает нередко упорно и страстно проводить ее в жизнь. Платон мечтает, силою опираясь на сиракузского тирана, провести свою социальную реформу в жизнь. Плотин задумывает основать идеальный город Гелиополис на основах своего этического учения. Лейбниц активно участвует в политической жизни. Фихте является непрестанным политическим агитатором. Беркли едет на Бермудские острова основывать свое идеальное государство. Конт обращается к Николаю I, турецкому султану Абдул-Гамиду и ордену иезуитов для проведения в жизнь своих начал позитивной политики. Соловьев хлопочет о соединении церквей. Ренувье мечтает при содействии либерального протестантизма пропагандировать неокритицизм. Гоббес и Локк принимают активное участие в политических событиях своего времени. Под старость честолюбие и "административный восторг" нередко принимают у философов прямо смешные и патологические формы. 15-летний С.-Симон велел своему слуге утром ежедневно будить его со словами: "Levez vous, monsieur le comte, vous avez de grandes choses a faire"***. У Ницше с раннего детства резко выражена тенденция "etwas besonderes zu sein"**** (Moebius "Nietzsche").
25
Ницше в "Утренней Заре" (§ 462, "Философ и возраст") отмечает три признака усталости: 1) вера в свой гений — гениальничанье, 2) произвольное фантазирование вместо доказательств, 3) крайне вздутое честолюбие. Читая "Ессе homo" того же Ницше, нередко вспоминаешь его же афоризм, с грустью думая: "Fabula de te narratur"*.
X. Роль национальности и общего культурного уровня эпохи. Одновременность научных открытий. Таблица Ментрэ
Имеющий и биологическую, и социологическую стороны вопрос о значении национальности в проявлениях одаренности и изобретательности, и в частности в философском творчестве не разработан, хотя и представляет большой психологический интерес. Найт (Knight) предполагал однажды выпустить серию монографий по истории философии, кладя в основу деления принцип национальности, но это издание не пошло далее первого выпуска. Сложность проблемы очевидна: в понятии национальности своеобразно сочетается общность расового происхождения, общность языка, территории, государственного и культурного строительства, религии и социальных идеалов. Между тем, признавая мировое единство науки и научной философии, являющихся выражением стремления к вселенской истине, нельзя не допустить национальных особенностей психического склада у философов и связанных с этим существенных оттенков в приемах творчества. С другой стороны, если признать, что теоретическая истина — правда-истина, едина и моральная истина, едина и художественная истина, то все же они многогранны и многоцветны, подходы к их постижению многоразличны, и здесь могут осязательно сказаться национальные различия у гениев-изобретателей. Чтобы разобраться в этой сложной проблеме, необходимы не только разработка многих запутанных исторических и психологических вопросов, но и исключительная широта взгляда, свобода от узкого национализма. Между тем мы встречаемся у философов с самой отвратительной исключительностью и нетерпимостью именно по данному вопросу. Кант хочет уверить нас, оценивая одаренность различных народов (Anthropologie), что англичанин — плод, француз — цветок, а немец — корень. Русским он отказывает совершенно в творческой изобретательности1.
Фихте в "Речах к немецкому народу" ставит немцев превыше всех других народов по одаренности. Гегель говорит в своей "Истории философии" лишь о германском мире, проникнутом христианством, как сфере всеобщей свободы, и признает всего две философии — греческую и германскую. Дюринг смотрит на славян и евреев как на расы низшего порядка, подлежащие вытеснению и даже истреблению, Фалькенберг в своей "Истории новой философии", давая поверхностную характеристику национальных особенностей в научном мышлении англичан, французов и немцев, приходит к отрадному для своих соотечественников
1 "Den Russen soil das Genie fehlen, so dass sie es auch nicht lernen konnen. und bei ihnen die Wissenschaften immer aussterben"**. См. Schlapp: "Die Anfange von Kant's Kritik des Geschmack und des Genies", 1899.
26
выводу, а именно, что немец соединяет в себе широкий полет француза с упрямой флегмой англичанина" (стр. 58) и т. д.
Наконец, еще весьма важным источником социальных влияний является общий культурный и философский уровень эпохи, то, что Гегель в своей "Эстетике" называет состоянием мира. Спенсер справедливо указывает на невозможность появления, например, Ньютона среди дикарей — великий человек непосредственно примыкает к предшественникам; при всей его оригинальности он все же есть лишь ближайший подражатель — proximate imitator! He может быть сомнения, что философское творчество, как и творчество в области специальных наук, входит в соборную духовную работу всего человечества и в значительной мере связано с условиями духовного развития данного момента, хотя, быть может, как мы увидим, в меньшей степени, чем специальные науки. Ментрэ (Mentre) в интересной статье в "Revue scientifique" обращает внимание на замечательный факт в истории положительных наук, а именно на одновременность научных открытий. Великие открытия Дарвина и Уоллеса были ими обнародованы в докладах, которые были прочтены в один день, а именно 1 июля 1858 г. Доклады Cros и Hauron о процессе косвенной цветовой фотографии были прочтены во французском фотографическом обществе в один день. Грэхам Белль представил прошение на получение патента на телефон 2 часами позже Элизы Грей (24 февраля 1876 г.). Когда Cailletet читал доклад о превращении газов в жидкое состояние (24 декабря 1877 г.), председатель получил телеграмму из Женевы с уведомлением об успешных опытах Пикте. Ментрэ приводит до 50 примеров одновременных открытий из всех областей знания от математики до социологии.
Вот его таблица в несколько сокращенном виде:
Математика
Метод неделимых: Кавальери — Роберваль.
Аналитическая геометрия: Декарт — Фермат.
Исчисление бесконечно малых: Ньютон — Лейбниц.
Неевклидовская геометрия: Лобачевский, Гаусс, Риман.
Астрономия
Открытие солнечных пятен: Фабрициус — Галилей.
Открытие спутников Юпитера: Мариус — Галилей.
Открытие Нептуна: Леверрье — Адамc.
Открытие спутника Юпитера: Бонд и Лассель.
Открытие спектроскопического метода для наблюдения солнечных пятен: Янсен — Локьер.
Механика
Принцип инерции: ряд противников Аристотеля в начале XVI в.
Параллелограмм сил: (предугадано Стевином) Вариньон и Ньютон.
Законы падения тел: Гюйгенс, Врен, Валлис.
Механическая теория теплоты: Майер, Кальдони, Сегэн, Джоуль, Мор, Гельмгольц.
Химическая механика: Мутье, Гартсманн и Джиббс.
Физика
Опыты с электрическим змеем: Франклин и де Ромас (1752).
Электрическое золочение и серебрение: Эльпингтон — Руольц (1841).
Электрический телеграф: Штейнгейт, Уитстон, Морзе.
Явление индукции: 1847, Гельмгольц — Томсон.
Телефон: 1876, Белль — Грей.
Фонограф: 1877, Эдиссон — Шарль Кроc.
Болометр: Ланглей и Бауэр.
Радиоактивность в соединениях тория: г-жа Кюри и Шмидт.
Химия
Кислород: Пристли, Шееле, Лавуазье.
Разложение воды: Кэвендиш — Монж.
Хлороформ: 1831, Субейрон, Либих, Гутрей.
Коллодиум: 1840, Муанар, Менар.
Талиум: Крукс — Лами.
Классификация элементов: 1864, Менделеев и Л. Мейер.
Стереохимия: Ле-Бель, Баум, Гофф*.
Ацетилен: Траверс, Вильсон, Муассон.
Биология
Теория остановки развития: Ж. С. Илер — Меккель (1812).
Ресничные мышцы в человеческом глазе: Мюллер и Руже.
Аналогия — череп и позвонок: Гёте, Ж. С. Илер.
Теория трансформизма: Гёте, Эр. Дарвин, Ж. С. Илер.
Естественный подбор: Дарвин — Уоллес (1858).
Теория клеточки: Шлейден, Распайль.
Антисептика: Гэрэн и Листер.
Бациллы чумы: 1894, Кит и Вереж.
Социология
Дифференциальная рента: Вест-Мальтус, 1815.
Появление принципов социализма: С.-Симон, Оуен.
Экономическое понимание истории: Маркс и Ле Плэ (Le Play) (?).
Математическая теория оборота: С. Джевонс — Вальрас.
Таблица эта заслуживает внимания, хотя некоторые сопоставления искусственны и даже прямо неверны.
По мнению Ментрэ, для такой одновременности возможны только три объяснения: 1) случайность совпадения, 2) умышленное соглашение (entente volontaire) ученых и 3) социальный детерминизм. Первые два предположения, как явно неправдоподобные, отпадают, и остается лишь третье. Все современные ученые данной специальности, стоящие на уровне знания данного момента, исходят в своем творчестве из аналогичных предпосылок; естественно, что они и приходят к аналогичным результатам. Я бы сказал так: у них однородные социологические условия для комбинационного поля творческой фантазии. В философии есть свой прогресс, своя непрерывность и закономерность развития, и в ней можно наблюдать аналогичную одновременность изобретений. Я приведу два примера, один из области метафизики, другой из области психологии.
28
Опровержение догматического реализма, т. е. доказательство, что понятие материи, никем не познаваемой, заключает в себе внутреннее противоречие, было дано одновременно и независимо друг от друга Беркли в "Treatise on the human nature"* и Колльером в "Clavis Universalis" в 1710 г., причем в высокой степени вероятно, что оба философа ничего не знали друг о друге. Разумеется, путь открытия способа доказательства у того и другого различен. Так, у Беркли нет антиномий бесконечности пространства и времени, которыми пользуется Колльер. Фрэзер пишет: "The coincidence is among the most curious in the history of philosophy"**. Идеи Беркли выросли из Локка, идеи Колльера — из Малебранша и схоластиков.
В 1884 г. Джэмс опубликовал знаменитую статью о природе эмоций, где развивал мысль об участии органических ощущений в образовании различных эмоций. Тремя годами позднее датский психиатр Ланге развил подобную же теорию. Но при близком рассмотрении оказывается, что обе теории имеют лишь самое общее сходство и выражение "теория Ланге — Джэмса" едва ли допустимо. Мы увидим ниже, что в истории философских систем, как в истории машин и научных открытий, есть своя непрерывная связь, и к области и тех и других изобретений применимы слова Бэкона: "Certo sciant homines artes inveniendi solidos et veros adolescere et incrementa sumere cum ipsis inventis"***.
XI. Прерывный и непрерывный моменты в процессе изобретения
История изобретений дает нам поразительное подтверждение приведенных слов Бэкона. Каждое изобретение через ряд непрерывных и прерывных усовершенствований развивается. Два изобретения А и В, различного порядка, сочетаются вместе и дают новый синтез С, другие два — Е и F, удачно комбинируясь, дают G и т. д. Но одинаково ошибочно рассматривать этот процесс как непрерывную интеграцию чуть заметных перемен и как резко прерывный переход от одного изобретения к совершенно другому. Всякое изобретение есть усовершенствование, но заключающее в себе рядом с моментом непрерывности, постепенности и черту творческую — прерывность, ибо комбинируются в новом синтезе элементы предшествующего изобретения качественно разных порядков. Так, искусственное добывание огня является революционным, резко прерывным по сравнению с предшествующей индустрией скачком в развитии техники. Миф о Прометее-изобретателе недаром лежит в основе истории техники и истории философии, — он похититель небесного огня и небесной мудрости. Добывание огня сразу открывало возможность для обособленных, диспаратных рядов изобретений: металлургия, архитектура, керамика, земледелие, мореплавание, торговля и т. д. Звенья каждого из этих рядов опять же могли давать основания для новых комбинаций между собою: постройка металлических домов, устройство хлебных эллингов и т. д. Ввиду сказанного нельзя согласиться со словами Араго: "Ошибочно думать (а я не вполне избег подобной ошибки), будто паровая машина есть простой объект, для которого надо непременно подыскать изобретателя. Кто изобретатель часов? Никто. Надо спросить, кто изобрел гири, маятник, часовой ход? В паровую машину входят
29
несколько капитальных идей, которые вышли не из одной головы". Ту же мысль развивает, как мы видели, Бурдо. Но ложность ее очевидна. Если в идею паровой машины вошло несколько капитальных идей, то все же каждая из этих идей, принадлежащая порознь одной голове, тем не менее капитальна, т. е. заключает в себе прерывный момент, "узловую точку", "мутацию" в эволюции изобретения. Если неправильно говорить, что книгопечатание просто изобрел Гутенберг, то правильно говорить, что до 1400 г. существовало печатание с деревянных досок карт и образов с надписями; что Laurent Coster стал разрезывать на отдельные буквы ксилографические доски, Гутенберг стал выливать буквы из металла, Шеффер ввел медные буквы (инкунабулы) и т. д., вплоть до стереотипа и ротационной машины XX в. Открытия разного порядка, комбинируясь, дают сложные машины (например, сочетание электрического двигателя с печатной машиной), и все это порождает своеобразное генеалогическое дерево изобретений, своеобразную многоветвистую диалектику технического творчества, притом количество открытий все с большим ускорением увеличивается благодаря все большему социологическому расширению комбинационного поля творческой фантазии в области техники. Можно провести некоторую аналогию между строительством систем и строительством машин. Смена философских систем давала и дает обильную пищу для остроумия изверившихся в могуществе разума нигилистов и скептиков. Они могут с наслаждением повторять бессмысленную остроту Ницше: "Философ думает, что ценность его философии лежит в целом, в строении, но потомство находит ценным только камень, из которого можно построить новое и лучшее здание, т. е. ценно для него именно то, что здание можно разрушить и все-таки оно полезно, как материал" ("Заблуждения философов", § 201).
Этому издевательству над человеческим разумом нужно противопоставить мудрые слова Пуанкаре: "Следует сравнивать ход науки не с перестройкой города, при которой старые здания беспощадно уничтожаются и замещаются новыми, но с непрерывной эволюцией зоологических типов, беспрестанно развивающихся так, что они становятся неузнаваемыми для глаз неопытного, но опытный глаз всегда находит в них следы предыдущей работы истекших веков". Слова эти всецело применимы и к истории философии. Изобретения философов также образуют частью непрерывную, частью прерывную, т. е. коленчатую, лестницу усовершенствований. По аналогии с эволюцией машин можно было бы изобразить и эволюцию философских аспектов на "машину-мира" ("Worldmachine"). Поясню это на примере генезиса "Критики чистого разума" Канта.
Гносеология Канта выросла: 1) из изучения в коллегии материализма древних (Лукреция). Он пишет: "Die Epicureer — die besten Naturphilosophen unter alien Denkern Griechenlands"*. В теории неба он пишет: "Теория Лукреция или, точнее, его предшественников Левкиппа и Демокрита имеет много сродства с моей теорией". 2) Из лейбнице-вольфовской философии. 3) Из изучения творений Ньютона. 4) Из скептицизма Юма. 5) Из чтения Локка, Беркли, Мопертюи и Колльера, Бэйля, Д'Аламбера. 6) Из изучения Платона. 7) Из изучения Аристотеля. Если объединить известным образом эти идеи, то окажется, что "Weltbild"** в "Критике чистого разума" можно рассматривать как
30
"мировую машину", в которой видоизменялись и совершенствовались отдельные части постепенно и которая образует у Канта лишь новый необычайный синтез. Однако мы увидим ниже, что философская система имеет отдаленную аналогию с машиной, организмом или поэмой.
ХП. Открытие и изобретение. Приспособляемость, находчивость и изобретательность. Как понимать природу философского изобретения
Я озаглавил мою книгу "Философия изобретения". Можно по этому поводу задаться вопросом о различии терминов открытия и изобретения. Файингер в своей книге "Philosophie des Als-Ob" (1911, стр. 149—150) проводит между этими понятиями такое разграничение. Источником открытия является гипотеза, которая находит себе подтверждение в данных опыта, так сказать, раскрывает перед нами некоторую естественную законосообразную связь данных опыта. Изобретение есть порождение фикции, искусственного понятия, вспомогательной конструкции мысли, которая имеет чисто "инструментальное" значение, являясь лишь эвристической уловкой, методологическим приемом. Так, закон тяготения есть открытие Ньютона, а дифференциальное исчисление — изобретение Лейбница. Так, мы открываем законы природы и изобретаем машины. Впрочем, и сам Файингер признает трудность разграничения. Я предпочитаю употреблять в расширенном смысле термин изобретение, ибо в нем подчеркивается творческий активный момент человеческой мысли (изобретательность ума). В открытии более подчеркивается эмпирическая данность новых областей физического или духовного мира. Нельзя сказать, что Колумб изобрел Америку или Вебер изобрел известный психофизический закон, как нельзя сказать, что Аристотель открыл силлогизм; поскольку речь идет о результате творческой работы, мы сохраняем это разграничение, но поскольку речь идет о процессе открытия, можно сказать, что в основе всякого открытия, если оно не есть случайная находка, лежит новое изобретение мысли, конструкция нового научного понятия.
Если всякое научное и философское изобретение есть прежде всего конструкция нового понятия, то оно, очевидно, глубоко отличается и от простой приспособляемости животного к новым условиям среды, и от находчивости обывателя в непривычной и затруднительной обстановке. Это можно пояснить на одном примере — преодоление трудности ориентироваться в лабиринте. Торндайк (Thorndyke), Портер и другие произвели ряд экспериментов над птицами (воробьи, американские кукушки) с целью исследовать их умение приспособиться к необычным условиям и их память по отношению к приобретенным навыкам. Они устроили ряд лабиринтов неправильной формы и с все возрастающей сложностью; в средине лабиринта помещалась пища. Кривая, выражавшая процесс приобретения привычек, строилась сообразно длине времени, потребного на прохождение лабиринта, и числу испытаний, причем оказалось, что после небольшого ряда опытов обнаруживалось быстрое и резкое ускорение времени прохождения, затем это ускорение сильно замедляется. При повторении опытов через месяц оказалось, что птицы, скорее приспособлявшиеся (воробьи), скорее забывали усвоенное, между
31
тем как приспособлявшиеся медленнее (американские кукушки) проявили через месяц более понятливости. См.: Pieron: "Evolution de la memoire".
Вот приспособляемость животного, в которой если и участвует интеллектуальная сообразительность, то в самой зачаточной и смутной форме. Лабиринты в паноптикуме и садовые лабиринты (например, лабиринт в Hampton Court, около Лондона, сделанный при Уильяме IV (1689—1702), служат испытанием находчивости обывателя, который в процессе искания выхода из лабиринта может руководиться не только памятью, но и некоторыми отвлеченными соображениями, конечно, довольно элементарной формы, касающимися исключительно данного случая. Для ученого проблема, подобная исканию выхода из лабиринта, может дать повод к постановке известного теоретического вопроса в общей форме. Именно подобный случай имел место, когда Эйлер обратил внимание на кенигсбергскую задачу семи мостов. Мемель у Кенигсберга разделяется на два рукава, до этого разделения он расширяется, в середине расширенной части находится островок, соединенный с берегами пятью мостами. Кроме того, имеются еще два моста — один через Мемель до водораздела и один в одном из образовавшихся рукавов. Задача заключалась в том, чтобы обойти все эти мосты один за другим, ни разу не возвратясь назад. Эйлер показал, что задача неразрешима, так как она противоречит одному из начал той геометрии положения, создателем которой (наряду с другими геометрами) он явился в труде "Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis" (1741). Здесь мы уже имеем не приспособление, не находчивость, а научную изобретательность — конструкцию нового понятия.
В основе изобретательности человека лежит сложная совокупность наклонностей и инстинктов (см. т. II, гл. V. "Генезис творческой воли"). Стремление к удовлетворению житейских нужд и свободная игра творческих способностей, как мы увидим, в равной мере принимают здесь участие. Мэзон (Mason) в превосходной книге "The primitive invention" устанавливает два вида изобретений: те, в которых удовлетворяются потребности, воздействующие снутри кнаружи (those who act from within the individual), такие, как голод, усталость, потребность в упражнении (Functionsbedurfniss) и половое влечение, и те, которые вызваны импульсами, действующими снаружи кнутри (противодействие холоду, диким зверям, врагам и т. д.), причем он отмечает, что у низших животных дисгармония со средою является минимальною, а у высших — максимальною, благодаря восприимчивости к большему количеству раздражителей. Мэзон устанавливает следующие стадии в развитии технических изобретений: 1) пользование естественными предметами (камень, зуб животного); 2) легкая модификация этого предмета; 3) модификация, создающая новое назначение, — камень-молоток; 4) перенос различных форм и структур на различный материал, например репродукция выдолбленной тыквы: а) в глине, б) в плетении, в) в дереве; 5) изменение формы предметов для различных назначений; 6) применение двигательной силы — человек, лошадь, текучие воды, пар, химические силы, электрические силы; 7) подражание машиной человеческой активности;
- приумножение человеческой силы механическими, например колесо;
- кооперативный аппарат, требующий соучастия многих людей.
32
Ни нужда, ни борьба за существование, ни заманчивые перспективы практических выгод не могут создавать новые изобретения, но они могут быть значительным побочным импульсом для интенсивной, но свободной игры творческих сил в умах изобретателей данного времени. Профессор Вальден указывает на тот толчок, который был сообщен изобретателям во Франции при Наполеоне I во время блокады Англии: "Сахарный голод и высокие премии, назначенные за изобретения, клонящиеся к его ослаблению, сопровождались изобретением "усовершенствованного метода добывания свекловичного сахара" (см.: "Временник Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений", 1916, вып. II—III, "Об изобретениях и изобретателях", доклад проф. П. И. Вальдена). Поводом к изобретению парового молота Нэсмитом явилась нужда в молотах для сооружения машин необычайной силы для парохода "Great Britain"; прежние молоты оказались для этой цели недостаточными. И великие философские изобретения удостаивались премий, но главным образом в виде цикуты, костра или тюремного заключения. Изобретательность развивается всегда изнутри кнаружи, от творческих потенций человеческого духа к его актуальным проявлениям; значение внешних возбудителей в этом процессе, разумеется, весьма велико, но они никогда не могут всецело обусловливать конечный результат — удачное открытие.
Признавая, что нужда есть мать изобретения, Мэзон в то же время указывает, что в процессе его образования играет важную роль и свободная творческая игра духовных сил человека — его ума, комбинационной способности, ловкости и т. д. Так, игры детей и игры первобытных народов служат почвой для развития изобретательности. На роль детских игр в истории изобретений впервые указал Лейбниц; в новейшее время Гроос подробно исследует роль умственного эксперимента в детских играх. Мэзон сообщает, что, например, эскимосы при занятии китоловством создают особые фиктивные задания, в которых нужно проявить проворство и изобретательность при воображаемом преследовании животного.
По мере восхождения к более высоким, тонким потребностям человека, каковы религия, искусство, наука и философия, формы изобретения углубляются, но механизм изобретательности в основных чертах остается тем же.
В частности, что касается занимающего нас вопроса об изобретении в философии, то нужно, во избежание недоразумений, несколько остановиться на том, что является исходным пунктом для философской изобретательности. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения современного человека, психогенезиса его личности, тогда на него нетрудно ответить. Если же брать вопрос с исторической точки зрения, то на него можно ответить удовлетворительно лишь в самых гадательных и общих чертах. Что источником философских изобретений является великая философская страсть удивления человека перед самым фактом его бытия, перед загадками познания и деятельности, перед вопросом о сущности мира и цели бытия, — это бесспорно, не нужно только в эту общую постановку вопроса субъективно привносить свою собственную точку зрения, модернизировать неведомого нам первобытного человека. Между тем в эту ошибку впадают и Ренан, и Шопенгауэр, и Шуппе, и Селли. Ренан описывает то, что он называет религиозным инстинктом
и что на самом деле есть лишь одна философская любознательность. "Религия в человечестве то же, что свивание гнезд у птиц. Инстинкт пробуждается с таинственной неожиданностью. Птица, которая никогда еще не имела яиц, никогда не наблюдала этого акта, заранее уже знает, что ей придется выполнять эту естественную функцию. Она с благоговением готовится и с самоотвержением служит цели, которой не понимает. Таким же путем зарождается религиозная идея у человека. Человек шел, ни о чем не думая. Вдруг наступает тишина, точно пауза, пробел в ощущениях: "О, Боже, — говорит он тогда про себя, — как странна моя судьба! Правда ли, что я существую? Что такое мир? Не сам ли я — это солнце? Не светят ли его лучи из моего сердца?" Затем шум, идущий от внешнего мира, возобновляется, просвет замыкается, но с этого момента существо, по-видимому эгоистическое, будет совершать необъяснимые поступки, "оно будет испытывать потребность в обожании и поклонении" ("Dialogues philosophiques", p. 55). Гюйо справедливо отмечает здесь смешение чувств современного философа с религиозными эмоциями первобытной души.
Шопенгауэр посвящает целую главу во II ч. "Мира как воли и представления" анализу того, что он называет метафизической потребностью, и в конечном итоге незаметно для самого себя доказывает, что эта метафизическая потребность, отчасти находя себе удовлетворение в буддизме и аскетическом христианстве, находит себе надлежащий выход в идеализме и пессимизме его собственной системы. Шуппе в статье "Das metaphisische Motiv und die Geschichte der Philosophie im Umrisse" (1882) утверждает, что метафизическим мотивом философской изобретательности является потребность ответить на два вопроса: 1) "что, собственно, есть в себе-сущее или абсолютно сущее; 2) путем каких посредствующих понятий это абсолютно сущее может быть поставлено в соотношение или в связь с множественным, изменчивым, лишь относительно сущим". И после беглого обзора всех древних и новых философских систем Шуппе показывает, что метафизический мотив может найти себе окончательное удовлетворение лишь в учении Вильгельма Шуппе, в понятии "Bewusstsein uberhaupt"*, которое и есть истинно сущее. Так пишет догматик идеализма, а догматик реализма Джемс Селли заявляет: "Поддерживая мысль, что в самой основе существования и развития человеческого познания лежит метафизическая вера, мы ограничиваемся лишь констатированием факта научной психологии и должны предоставить объяснение, если таковое возможно, философии" (см.: James Sully. "Outlines of psychology", p. 514—515). Если поверить на слово господам метафизикам, то выходит, что метафизическая вера, потребность, инстинкт или мотив суть факты научной психологии. Какое новое и легкое доказательство реальности истинно сущего мы получили бы таким образом! Только нам пришлось бы зараз признать это истинно сущее и физическим миром, и мировою волею, и "Сознанием Вообще". А "Сознание Вообще" Шуппе сближает с личным Богом, которому в заключение своей речи возносит пламенные молитвы "о здравии, долгоденствии и мирном житии" его величества кайзера: "Gott schutze, Gott erhalte den Kaiser"**. Радикальный скептик в метафизике мог бы вспомнить слова великого пророка: "Горьким словом моим посмеюся!"
34
Философская потребность в изобретении может быть так формулирована, что подобная формулировка будет приемлемой как для сторонников, так и для противников метафизики, и эта формулировка сводится к потребности дать разумные ответы на три вопроса, поставленные в древности Пирроном и повторенные в несколько измененном виде Кантом: "Ученик Пиррона Тимон говорил, что желающий достигнуть счастия должен разобраться в следующих трех вопросах: во-первых, из чего состоят вещи, во-вторых, какое отношение мы должны себе к ним усвоить, и, наконец, какую выгоду получат те, которые выполнят это" (Р. Рихтер. "История скептицизма", прим. 75). У Канта эти вопросы видоизменены в конце "Критики чистого разума" следующим образом: Что я могу знать?
(Проблемы гносеологии или метафизики, а также психологии, логики, научной методологии, истории философии).
Что я должен делать?
(Проблемы аксиологии, т. е. теории ценностей, этики, эстетики, педагогики, политики, экономики, права).
На что я могу надеяться?
(Проблема философии религии).
Жизнь мудреца есть история непрерывных и страстных исканий, направленных на эту единую и трехчленную проблему. Его изобретательность применена к расшифрованию мировой загадки. Вл. Соловьев уподобляет творческий путь философа медлительному, но непрестанному восхождению на горные вершины:
В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.
Боролася заря с последними звездами,
Еще летали сны — и, схваченная снами,
Душа молилася неведомым богам.
В холодный белый день дорогой одинокой,
Как прежде, я иду в неведомой стране.
Рассеялся туман, и ясно видит око,
Как труден горный путь, и как еще далёко,
Далёко все, что грезилося мне.
И до полуночи неробкими шагами
Все буду я идти к заветным берегам,
Туда, где на горе, под новыми звездами,
Весь пламенеющий победными огнями,
Меня дождется мой заветный храм.
ГЛАВА ВТОРАЯ
ПРОБУЖДЕНИЕ ПРИЗВАНИЯ
XIII. Идиосинкрация интереса. Гений в науке
как ingenium praecox. Пробуждение философского интереса
а) на религиозной почве
Джэмс называет идиосинкрацией интереса тот интерес, который обнаруживается у ребенка рано и в котором проявляется его специфическая одаренность в известном направлении. Детские интересы часто имеют преходящий характер и бывают навеяны подражанием. Но одаренный ребенок часто бывает ingeniumpraecox*, и его своеобразные творческие стремления уже проявляются в чем-нибудь, что впоследствии оказывается как раз соответствующим его назначению, его призванию. Классен рассказывает, что 10—11-летний Нибур уже написал историко-географическое описание Африки. "В 14 лет ребенок Нибур только и бредит манускриптами и вариантами, теперь он в восторге от рукописи Варрона, которую отец доставил ему из Королевской Библиотеки в Копенгагене. Он даже понял, как ее читать, и указал, в чем трудности многих мест" (Классен. "Нибур", 1894). 15-летний Максуэлль печатает математический мемуар в записках ученого общества. Идея написать "Историю цивилизации в Англии" пришла Боклю "в смутной форме", когда ему было всего 15 лет. Шахматист Морфи уже в 13 лет дважды из трех раз победил на состязаниях знаменитого и опытного шахматиста Левенталя (см. статью "Chess" в "Encyklopaedia Britannica", IX издание). Об Остроградском его биограф Трипольский сообщает: "Еще в раннем детстве бойкий Миша выказывал редкую наблюдательность и природную наклонность к измерению любой вещи или игрушки. В кармане он всегда носил с собою шнурок с привязанным к нему камешком и при помощи этого снаряда измерял глубину каждого попадавшегося ему на глаза колодца или ямы. Перед ветряной или водяной мельницей он стоял по часу и более, наблюдая с далеко не детским любопытством за движением крыльев мельницы, падением воды с потоков, вращением колес, жерновов и т. п. Зная такую "слабость" своего сына и не предвидя в нем великого математика, родители во время прогулок всячески заботились о том, чтобы он не заметил интересующих его предметов. Но от зоркого и наблюдательного Миши не ускользнет ни один колодец, ни одна мельница: с криком и слезами он приставал к родителям позволить ему "хоть на минуту" остановиться, чтобы понаблюдать то или другое, измерить величину или глубину, и эти "минуты", незаметные
36
для сына, долго и скучно тянулись для родителей (см.: М. В. Остроградский", 1902, стр. 47).
О Гельмгольце Дюбуа-Реймон сообщает следующее: "Мы знаем, что он, будучи учеником в Потсдаме (где он родился 31 августа 1821 г.), нередко во время чтения в классе Цицерона или Вергилия, наводивших на него скуку, вычислял под столом ход пучка лучей в телескопе и тогда уже нашел некоторые оптические теоремы, о которых ничего не упоминалось в учебниках и которые сослужили ему службу впоследствии, при построении глазного зеркала" (Г. фон Гельмгольц. Характеристика Дюбуа-Реймона, 1900, пер. под ред. прив.-доц. Б. П. Вейнберга, стр. 3). Биолог Эрнст Геккель уже в детстве обнаружил сильное влечение к изучению и эстетическому созерцанию природы. "Громадное двойное окно служило ему террариумом. С особенным усердием он собирал цветы... Будучи одиннадцатилетним мальчиком, он целыми днями пропадал (в Бонне у дяди) во всевозможных закоулках тамошних окрестностей в надежде найти "Erica cinerea", которая, как он слышал, водилась единственно в этой местности Германии" (В. Бёльше. "Эрнст Геккель", 1910, стр. 23—24).
Но специалист, даже гениальный, односторонен. Гербарт когда-то выдвинул в педагогике идеал уравновешенной множественности интересов, причем он насчитывал шесть основных интересов: к фактическому знанию природы, к отвлеченному знанию, к чужой душевной жизни, к политике, религии и эстетической стороне жизни. Такой идеал, разумеется, есть "бесконечно-отдаленный пункт", к которому возможно лишь слабое приближение. Равномерное развитие всех интересов и дарований невозможно уже потому, что между различными коренными психическими чертами существует известная корреляция, в силу которой резко выраженное свойство а исключает столь же резко выраженное развитие свойства b. Тем не менее встречаются весьма разносторонне одаренные натуры, и среди выдающихся философов их всего естественнее ожидать. Философия не есть механическое суммирование различных сфер знания. Философская одаренность предполагает особенные черты психического склада, но философия теснейшим образом связана с науками, служа для них общим методом, освещая их предпосылки, их единство и их конечную цель. Отсюда понятно, 1) что пробуждение философского дарования имеет в качестве опорного пункта у ребенка и подростка какую-нибудь специальную область знания; 2) что философы всегда бывают одарены несколькими интересами, и у величайших из них, каковы Платон, Демокрит, Аристотель, Кант, Лейбниц, Конт, Гегель, Спенсер, одаренность проявляется во всех областях знания, хотя и не в равномерной степени. Присмотримся к первым проявлениям одаренности у различных философов.
Религиозные вопросы по самой своей природе близко соприкасаются с философскими, и мы часто наблюдаем, что "вельми философская страсть" удивления перед загадкой бытия зарождается у будущего философа на религиозной почве. "Марк Аврелий, будучи 8 лет, был принят в школу жрецов Марса, он пел священные гимны и участвовал в религиозных процессиях... Двенадцати лет он уже был неофитом философии. Он усвоил суровые обычаи и нравы стоиков, он, так сказать, вступил в этот орден. Несмотря на свое хрупкое здоровье, он спал на голом полу, и, лишь уступая настояниям и слезам матери, он согласился спать на
37
кроватке, покрытой мехом. Впрочем, родители были склонны поддерживать в нем его детское увлечение стоической моралью" (см.: Martha. "Les moralistes sous l'empire romain, 1886, 2-е изд., стр. 175). Это мы видим и у 11—14-летнего Джордано Бруно, который в детстве увлекается богословием, логикой и диалектикой и в 15 лет поступает в монастырь доминиканцев. Наряду с богословским интересом в нем с детства живет поэтическое чувство, вызываемое обстановкой "земного рая", каким являются окрестности Нолы к северо-западу от Везувия. В монастыре он с жадностью проглатывает тогдашнюю философскую литературу. Особенно увлекают его элеаты, Эмпедокл, Платон, Аристотель, Плотин, Эль-Гацали, Аверроэс, каббала, Фома Аквинский, Раймонд Луллий, Николай Кребс, Коперник. В 18 лет он уже эмансипируется от многих догматов богословия — от учения о троичности лиц Божества, от учения о божественности Христа, об эвхаристии.
Столь же рано пробуждаются эстетический и религиозный интересы у Шеллинга1. До 15 лет он совершенно овладевает латинским языком, пишет стихотворения о происхождении языка, о величии Англии (по-латыни), сочиняет работу о божественном происхождении Библии, переводит на немецкий язык "Марсельезу". В 16 лет он увлекается философией под влиянием учителя Рейхлина, читает Федера, Лейбница, Кларке, Ньютона, Шульце, Канта и, наконец, Фихте. Шлейермахер (род. в 1768 г.) в 12 лет увлекается древними языками и биографиями великих ученых. Ему приходит в голову, что вся древняя история и древние писатели "sei untergeschoben"***, ибо все, что он про нее знал, представлялось ему бессвязным и похожим на роман. Уже в 11 лет его начинают мучить религиозные вопросы. Он проводит бессонные ночи, ломая голову, как совместить всеблагость Божию с учением о вечных наказаниях (Куно Фишер: "Шеллинг").
Гартманн, в котором мистические стремления так причудливо сочетаются с рассудочностью весьма разностороннего и бойкого писателя, в раннем детстве обнаруживал интерес к богословским проблемам. После же поступления в гимназию в нем быстро пробудился чисто философский интерес: "Немецкие сочинения мало давали мне до сих пор лавров, ибо я был совершенно не в состоянии воодушевляться историческими или описательными темами. Но с того момента, как мне была предложена Юнгом тема, требующая рационального размышления и логического развития мысли, мои сочинения оказались лучшими и тем более превосходили все остальные, чем более тема имела философский характер" (A. Drews. "E. v. Hartmanns Philos. System", 1906).
Этико-религиозная натура Фихте проявилась уже в раннем его детстве. Он обратил внимание на себя своего покровителя барона Миль-тица умением передавать содержание церковной проповеди: "Чем является для прирожденного художника первая картина, которую он видит
1 В 13—14 лет он пишет "Geschichte des Klosters Bebenhausen", где, описывая красоты природы, он замечает: "Fiirwahr, auch wilde Natur ist schon! Oft pries ich iiber diese wildschonen Orter Gott, den Schopfer"*.
А вот образчик его латинских стихов:
О! juvenis, demens, nescis secreta tacere.
Crede mihi, est magnus nosse tacere labor**.
38
в своей жизни, тем для Фихте была проповедь". Маленький Фихте дословно и осмысленно воспроизводит слышанное: "Это не просто дело сильной памяти, а дело живого, именно к этому предмету приуроченного, воображения" (Куно Фишер. "Ист. нов. философии", т. V. "Фихте", 1909, стр. 142).
По собственным словам мистического философа Якоби, он с детства был мечтателем, фантастом, мистиком. Уже ребенком, вместо того чтобы играть со сверстниками, он предпочитал беседы с одной пи-етистически настроенной служанкой в их семье. Уже мальчиком он делал серьезные попытки решить некоторые религиозные проблемы1.
"Мы ленивы и нелюбопытны", и немногим из русской публики, к сожалению, знакомо имя замечательного русского философа Африкана Александровича Шпира. Выросши в Херсонской губернии в помещичьей семье, Шпир с раннего детства обнаружил влечение к природе, к созерцанию родных широких зеленеющих степей. Он пишет: "Не раз было доказано, что дети не обладают поэтическим чувством, я же готов скорее усомниться, доступно ли взрослому поэту поэтическое настроение ребенка, который не совсем скудоумен, когда вспомню, каким очарованием была полна для меня бедная сама по себе природа моей родины". С 13 лет к эстетическому интересу присоединился религиозный; мальчик стал зачитываться проповедями одесского архиепископа Иннокентия, соблюдать посты, молитвы и усердно молиться. Позднее наступил кризис сомнений. (См. биографию Шпира, приложенную к его сочинению "Очерк критической философии".)
Наклонности к тонкому логическому анализу и комментаторству пробудились у Соломона Маймона очень рано, первоначально на богословской почве, а значительно позднее — на философской. Его важнейшие труды являются своеобразной попыткой истолкования Канта. "Талмудическая ученость, — пишет Куно Фишер, — имеет три степени: первая состоит в переводе Талмуда, вторая — в его объяснении, третья — в диспутировании. Соломон достиг третьей ступени, когда ему было девять лет" ("История новой философии", т. V, стр. 65). Точно так же и у Когена комментаторские способности в области логики и метафизики, по-видимому, проявились в раввинской школе, но у Соломона Маймона религиозный интерес не играет роли в философском творчестве, а у Когена особенно усиливается в последний период творчества.
У Вл. Соловьева и С. Трубецкого также заметно раннее пробуждение интереса к философии именно в связи с религией. Во всех приведенных случаях замечательно то, что религиозный интерес и впоследствии являлся в философских исканиях этих философов тем, что Бергсон называ-
1В восьми- или девятилетнем возрасте в его воображении уже сложилась странная интуиция вечности и бесконечного протяжения, от которых он не мог отделаться в течение всей жизни. "Это было странное, совершенно не зависимое от всяких религиозных понятий представление бесконечной длительности, которое внезапно ясно осознавалось мною и с такою силою захватывало меня при моих размышлениях о вечности a parte ante*, что я громко кричал, вскакивал и впадал в некоторого рода обморок. Мысль об уничтожении, которая всегда мне представлялась ужасной, и еще ужаснее и невыносимее представлялась мне идея вечного продолжения. Я мало-помалу начал реже подпадать под ее влияние и уже думал, что совсем от нее отделался, как вдруг на 25-м году жизни она снова возобновилась у меня" (см. Zirngibl. "Jacobi's Leben").
39
мш
ет aspiration fondamentale de la personne*. Имена Соловьева, Трубецкого и Шлейермахера одинаково принадлежат и истории философии, и истории богословской мысли. В детских впечатлениях от благословенной природы у подножья Везувия зарождалось то чувство, которое вызвало у Бруно многоцветный и жизнерадостный пантеистический взгляд на мир. Меланхолический и бескрасочный пантеизм Спира, его несколько аскетическое "буддийское" миросозерцание навеяны монотонным степным пейзажем.
Для Киркегора мощным толчком в его философском творчестве было слушание лекций Шеллинга, одна из них неожиданно открыла для него широкие горизонты, как для Малебранша чтение сочинений Декарта. В 1841 г. Шеллинг начал свои лекции в Берлине, направленные против Гегеля. Киркегор после одной из прослушанных им лекций пишет в дневнике: "Я весел, неописуемо весел, прослушавши вторую лекцию Шеллинга. Ведь я достаточно долго созревал (gereift), и мысли мои достаточно долго созревали, когда же он произнес слово действительность ("Verhaltniss der Philosophic zur Wirklichkeit"), тогда, как в Елисаве-те, взыгрался радостно во мне плод мысли моей. Я помню почти каждое слово, произнесенное им вслед за этим на лекции. Так вот где, может быть, кроется разгадка ("Hier giebt's vielleicht Klarheit"). Это единое слово напомнило мне все мои философские страдания и муки". Геффдинг указывает, что при дальнейшем слушании лекций Шеллинга (Киркегор не дослушал их до конца) это прояснение не удовлетворяло более датского философа (Шеллинг — ужаснейший болтун), и тем не менее импульс, сообщенный творчеству Киркегора, был весьма значительным.
XIV. Пробуждение философского интереса б) на психологической почве, в) на естественно-исторической, г) на математической почве
Психолог и художник Эрве де-Сен-Дени, которому принадлежит идея умышленного развития способности наблюдать, запоминать, записывать и зарисовывать сновидения, пишет, рассказывая о своей наклонности в раннем детстве срисовывать все, что попадется под руку: "Мне раз пришла в голову мысль зарисовать на память исключительный сон, который поразил меня. Получив занятные результаты, я вскоре обзавелся альбомом, в котором каждая зарисованная сцена или фигура сопровождалась комментарием о тех обстоятельствах, которые предшествовали сновидению или следовали за ним" (см.: Vaschide. "Le sommeil et les reves", 1911, p. 138—139). Campbell Frazer, биограф шотландского философа Томаса Рида ("Thomas Reid", 1898, p. 16—18), отмечает у него такое же раннее пробуждение наклонности к психологическому самонаблюдению (the disposition to the sober introspection). В пятнадцатилетнем возрасте, будучи студентом в Marishal College, знакомый лично с Беркли и уже заинтересованный философскими и психологическими проблемами, юный Рид жестоко страдал от кошмаров, пробуждаясь нередко ночью в ужасе под впечатлением мучительных грез, от которых ему удалось отделаться следующим образом: "Я постоянно ложился спать, стараясь самым упорным образом внушить себе на сон грядущий мысль,
40
что я никогда в жизни не подвергался никакой большой опасности и что всякий испуг, переживаемый мною, есть лишь грёза. После многих тщетных попыток вспомнить об этом во сне, когда мне угрожала мнимая опасность, я наконец достиг желанной цели, и часто, скатываясь с обрыва в пропасть, я вспоминал, что ведь все это лишь сон, и храбро спрыгивал вниз. В результате обыкновенно оказывалось, что я немедленно пробуждался невозмутимо спокойным, что представлялось мне большим приобретением". Следствием этого было то, что Рид отделался от кошмаров и совершенно потерял способность запоминать свои сны.
Выдающийся психолог Бэн, у которого есть ценный труд и по логике, в раннем детстве обнаруживал преимущественный интерес к математике и естественным наукам, причем многое из высшей математики и механики (отчасти "Principia" Ньютона) было усвоено им в 16 лет. В этом возрасте братья Стюарты — очень развитые сверстники, уже читавшие Ридову "Inquiry" и узнавшие из нее об идеалистическом учении Беркли и Юма, предложили маленькому Бэну опровергнуть эту точку зрения или разрешить парадокс о нереальности внешнего мира каким-нибудь другим способом. "Я, разумеется, чувствовал себя совершенно беспомощным, но, быть может, это направило мои помыслы в область наук о духе" ("Autobiography", 1904, р. 25). В 19-летнем возрасте в нем пробуждается будущий тонкий психолог. Его первое философское сочинение, написанное тогда, представляло три опыта о "философском гении". "Насколько я помню, их писание вызвало во мне рой размышлений о философии интеллекта, и, вероятно, в них заключались начатки ассоциационизма (view of association), который имел для меня столько значения впоследствии... Я постоянно "высекал" новые мысли, казавшиеся тогда капитально важными, и во мне сложилась затем уже всю жизнь не покидавшая меня привычка непрестанного самонаблюдения с целью установить законы психической последовательности" (см.: "Autobiography" by Alexander Bain, 1904, p. 49).
Вот черты из детства двух других выдающихся впоследствии психологов — Мэн-де-Бирана и Бенеке. М.-де-Биран пишет: "Мне помнится, что я уже с детства удивлялся чувству моего существования. Я уже как бы инстинктивно был склонен заглядывать в свое собственное нутро с целью узнать, как это я могу жить и быть "я" (etre "moi"). В его дневнике встречается выражение se regarder passer*. В 1814 г. он пишет: "Когда располагаешь недостаточным запасом жизненных сил или слабым чувством жизни, то чувствуешь большую наклонность к наблюдению внутренних феноменов — вот причина, сделавшая меня столь рано психологом". Бенеке развивался очень быстро и в раннем возрасте успешно изучал классиков, математику и писал стихи. В последнем классе Фридрих-Вердеревской гимназии он заведовал библиотекой и прочитал особенно много сочинений, в которых нашел с живыми чертами и соответствующее действительности описание образов духовного мира ("Bilder der geistigen Welt") (см.: Gramzow. "Fr. Benece").
Философы, которых привлекали в зрелом возрасте естественные науки и философия природы, являются часто с ранней юности экспериментаторами и наблюдателями природы. 15-летний Бэкон изобретает световой телеграф. Идея написать "Новый Органон" пришла Бэкону
41
в голову, когда ему было 15 лет. Во время пребывания во Франции (15—18 лет) он придумал шифр для дипломатической переписки — курьезная антитеза занятиям 8-летнего Лейбница, дешифрирующего латинского автора по картинкам. Как тут сказывается наклонность к логическим проблемам двух корифеев индуктивной и дедуктивной логики!
Пристли, получивший духовное образование, уже в 11 лет занимался экспериментами, сажал пауков в бутылку и закупоривал ее, чтобы посмотреть, как они будут существовать без притока воздуха. Лоце, по словам его биографа Вентчера, уже в 13 лет увлекся философской идеей панпсихизма, которая разработана в "Микрокосме". Знаменитый механик Д'Аламбер (см. о нем книгу Bertrand) обнаружил в детстве живое критическое отношение к софистическому преподаванию картезианской физики плохим учителем и написал на его курс пародию под названием "Антифизика". Вот образчики из нее: "Возвещая дождь, барометр всегда поднимается. Доказательство: перед наступлением дождя воздух всегда бывает насыщен парами и, следовательно, более тяжел, что и заставляет барометр подниматься. Град должен выпадать главным образом зимой. Атмосфера зимою более холодная — очевидно, в это время года капли дождя должны, замерзая, отвердевать при прохождении через атмосферу и т. д.". Подобным же образом рано заинтересовавшийся естествознанием Фехнер пишет пародию на современную ему медицину ("Schutzmittel fur die Cholera" и "Beweis, dass der Mond aus Iodine besteht") и натурфилософию: "Vergleichende Anatomie der Engel"*.
Спенсер в раннем детстве в деревне занимался энтомологией и рисованием с натуры. Вот что он пишет в "Автобиографии", имея в виду возраст до 13 лет: "Мои познания о законах физических явлений и о самых явлениях отличались значительной ясностью: я довольно хорошо знал разные факты из области физики и химии. Я приобрел также путем непосредственных наблюдений и путем чтения некоторое знакомство с естественной историей, особенно с жизнью насекомых, но я вовсе не знал ботаники. Бессистемным чтением я приобрел кое-какие сведения по механике, медицине, анатомии и физиологии и довольно много сведений о различных частях света и их обитателях".
У философов-математиков мы наблюдаем раннее пробуждение математических наклонностей. Декарт, поступивший в коллегию De-la-Fleche на восьмом году, остается там 5 1/2 лет, успешно изучает латинский и греческий языки, интересуется поэзией (преимущественно дидактической — басни), но главным образом он отдается запойному внеклассному чтению. По слабости здоровья ему разрешено оставаться в постели по утрам. При пробуждении он находит все свои силы подкрепленными и свои чувства освеженными ночным отдыхом и пользуется этим обстоятельством, чтобы размышлять. "Этот порядок обратился в привычку, которая легла в основу его манеры заниматься". Центральное место в этих занятиях занимала математика, в которой он к 15 годам сделал столь значительные успехи, что опередил учителей коллегии. Идея "Всеобщей характеристики" зародилась у Лейбница в детстве. "Необычайная моя судьба была причиной того, что я, еще будучи мальчиком, попал на эти мысли, которые, как это обыкновенно бывает с первыми склонностями, глубже всего запечатлелись навсегда
42
в моем уме. Две вещи оказали мне чрезвычайную услугу (хотя, вообще говоря, они обоюдоостры и для многих вредны): во-первых, то, что я был самоучкой, а во-вторых, то, что в каждой науке, едва приступив к ней и часто не вполне понимая общеизвестное, я искал нового". "Начав заниматься этими предметами (логикой и философией) с большим усердием, я по необходимости напал на эту достойную удивления мысль, что можно найти известный алфавит мыслей и что, комбинируя буквы этого алфавита и анализируя составленные из них слова, можно как все вывести, так и все обсудить. Когда эта мысль зародилась в моей голове, я возликовал, но, разумеется, это была радость ребяческая, потому что тогда я еще не мог постигнуть всей громадности дела. Но позже чем больше расширялись мои познания, тем тверже становилось мое решение преследовать столь великую цель" (Куно Фишер. "Лейбниц", стр. 39). Замечательно, что дар дешифрирования, столь характерный для будущего основателя логистики, проявился у Лейбница в очень раннем возрасте. Восьми лет он беспорядочно читает книги самого разнообразного содержания в обширной библиотеке покойного отца и между прочим наталкивается на историю Ливия, которую уразуметь не в силах. В книге были политипажи с надписями, объяснявшими значение картинок. При помощи этих картинок он разгадывал смысл подписанных под ними слов, а чего не был в состоянии понять, то пропускал". Таким образом он прочел всю книгу, а когда кончил, то начал снова и снова, до полного уразумения.
Паскаль, как известно, в 13 лет самостоятельно открыл XXXII предложение Эвклида, а затем в ранней юности сделал открытия в теории сочетаний, в учении о конических сечениях.
Дюринг (автор впоследствии "Критической истории механики" и "De spatio, tempore, causalitate et analysis infinitesimalis logica") в 11 лет увлекается алгеброй и анализом. Ярый детерминист в теоретической философии и индивидуалист в практической, он еще в гимназии увлекается стихотворением, прославляющим необходимость, и пишет сочинение о Сократе, доказывая, что Сократ обрек себя на смерть не для того, чтобы подчиниться филистерским законам, а чтобы дать почувствовать афинянам совершенную над ним несправедливость и погибнуть мучеником идеи. Дюринг с юности преклоняется перед Individuale Souverainitat* (см.: "Leben, Sachen und Feinde" — его автобиография).
Фриз — философ, интересы которого впоследствии разделились между математическим естествознанием, гносеологией и мистической "философией веры", в 13 лет проявляет увлечение математикой, которой самостоятельно занимается, выходя далеко за пределы школьного курса. "На одном уроке геометрии я выразил радость моему учителю Hueffel'ю по поводу твердости и ясности математических доказательств; он заметил: "А ведь точно так же можно доказать и бытие Божие". "Как же оно доказывается?" — спросил я с живейшим интересом. Он ответил: "Все должно иметь для себя достаточное основание, следовательно, и для мирового целого должно быть таковое — эта высшая основа мира и есть Бог". Я промолчал, но тотчас же подумал: если все должно иметь основание, то и Бог также должен иметь основание, а если Бог может не иметь основания для себя, то почему же и мир также и образующие его
43
вещи? Это была первая философская дискуссия, которая меня задела за живое (welche mich traf). Фриз тогда же пробовал читать логику и нашел ее смехотворной. "Федон" Платона показался ему в обоснованиях ложным и незначительным. "Федон" же Мендельсона понравился. Тогда же он читал письма Эйлера к немецкой принцессе, "Монадологию" Лейбница, диалоги Цицерона. Все это ему мало понравилось. Весьма любопытно, что "философ веры" уже в детском возрасте искал рационального доказательства реальности внешнего мира. "Я дошел до одной собственной мысли: нельзя ли геометрически доказать объективную реальность наших представлений, поскольку мы измеряя можем необходимо определить положение всякого данного предмета. Однако, всячески размышляя далее об этом, я ясно понял, что мы при этом лишь фиксируем наши представления о предметах, а не самое бытие последних, независимо от наших представлений" (см. о Фризе книгу Henke).
Стэнлей Джевонс уже в 15 лет обнаруживает совершенно исключительные способности к математическим наукам и необыкновенный дар изобретательности.
XV. Пробуждение философского интереса на д) исторической,
е) политической и ж) эстетической почве. Таблица многообразия
интересов у философов
Философы, тяготевшие к изучению истории и политики, — Гоббес, Юм, Гегель, Бентам — также увлекаются этими предметами в юности. 13—14-летний Гоббес хоть порой и увлекается играми, но больше сидит за книгой в одиночестве и задумчивости. После перевода "Медеи" Эврипида латинскими ямбами он принимается за перевод Фукидида, и в этом сказывается будущий автор "Левиафана".
Юм, зачитываясь историками, философами и моралистами, пишет (14 лет) своему другу Рамсею: "Совершенный мудрец, с боя берущий фортуну, неизмеримо выше, нежели законный супруг (husbandman), который спит рядом с нею. В самом деле, я постиг это пасторальное и сатурническое счастье в значительной мере именно теперь. Я живу, как король, большею частью наедине с самим собою, не предаваясь ни волнениям, ни деятельности, — molles somnos*. Тем не менее я предвижу, что на такое состояние нельзя рассчитывать в будущем. Мой духовный мир еще не защищен в достаточной степени философией от ударов судьбы. Великие и возвышенные думы надо искать в занятиях, и мы научимся смотреть свысока на житейские случайности событий только таким путем. Позволь мне говорить тоном философа, я много размышляю о философии и способен говорить на эту тему весь день".
О Милле, интересы которого в зрелом возрасте разделялись между логикой и политической экономией, мы знаем из его удивительной автобиографии, какую массу преимущественно историко-филологических знаний приобрел он в детстве. Бэн приводит одно письмо Милля от 1819 г., когда ему было 13 лет. Вот отрывок из него: "В этом саду я читаю диалоги Платона "Горгиас" и "Протагор" и его "Государство", из которых я составил конспект... В прошлом году я стал заниматься
44
логикой... Теперь я занимаюсь политической экономией" (20 июля 1819 г.). (См. A. Bain. "J. St. Mill", 1882, p. 4.)
Бентам в детстве искал такую систему морали, которая могла бы его удовлетворить. Раз ему случайно попалась в руки книга Пристли, где он нашел курсивом написанную формулу: "Наибольшее счастье наибольшего числа людей". "Прочитавши это, я преисполнился живейшей радостью, подобно Архимеду, закричавшему * при открытии основного закона гидростатики". В 12 лет он уже читал Гельвеция. В 13 лет возмущался, читая Цицерона, который утверждает, что боль — благо. У Гельвеция он нашел ответ на занимавший его вопрос, что такое гений (Gigno — изобретатель). "В чем же я изобретатель?" — задал он себе вопрос и ответил сам себе дрожащим голосом: "В законодательстве". * при открытии основного закона гидростатики". В 12 лет он уже читал Гельвеция. В 13 лет возмущался, читая Цицерона, который утверждает, что боль — благо. У Гельвеция он нашел ответ на занимавший его вопрос, что такое гений (Gigno — изобретатель). "В чем же я изобретатель?" — задал он себе вопрос и ответил сам себе дрожащим голосом: "В законодательстве".
Будущий создатель истории философии Гегель подошел к философским интересам со стороны древней истории и философии. В качестве тем на риторические упражнения Гегелю были заданы три речи по-латыни, которые он и произнес: в 1785 г. 30 мая (разговор между тремя лицами — Антонием, Октавием и Лепидом); вторая речь 16 августа
- г. трактовала о религии древних греков и римлян; третья (7 августа
- г.) была посвящена некоторым характерным отличиям древних поэтов от современных. Чтобы распознать эти отличия, нужно, согласно замечанию Куно Фишера, соединение исторического и философского мышления, что обнаружило в ученике весьма редкую и многообещающую способность и дало повод учителю сделать такую оценку: "Felix futurum omen"** (см.: Куно Фишер. "История новой философии", т. VIII. "Гегель", стр. 6).
Точно так же и Виктор Кузен, выдающийся впоследствии историк древней философии, в 20 лет уже был профессором греческого языка. Влечение к философии он получил на лекциях Ларомигиэра, причем он помнит день, когда он остановился на философском призвании ("Се jour decida ma vie"***) (см. книгу Р. Janet "V. Cousin").
Знаменитый впоследствии педагог Гербарт, познакомившись в 16 лет с "Основоположениями метафизики нравов" Канта, заявлял впоследствии, что никогда не забудет того впечатления, которое произвело на него отрицательное отношение Канта к эвдемонизму.
Гениальный философский сатирик древности Лукиан рассказывает следующее по поводу раннего пробуждения в нем литературно-философского призвания. Отец отдал его в детстве в обучение дяде скульптору. Обрабатывая резцом мраморную доску, ребенок разбил ее, был сурово наказан дядей и бежал от него избитый домой к родителям. В якобы бесхитростном рассказе о своих злоключениях он все же, как замечает Марта, со "свойственным ему впоследствии простодушным лукавством не преминул упомянуть о том, что дядя-де, очевидно, завидует его дарованиям и вымещает эту зависть на нем колотушками. Рассказ возымел действие на родителей, и ребенок был оставлен дома. В ту же ночь он видел сон: ему предстали две фигуры — поэзия и наука, каждая старалась увлечь его в свою сторону, и он вскоре склонился к деятельности оратора и софиста (Martha. "Les moralistes sous l'empire romain", 1886, p. 339).
45
Юность Платона и Ницше, в философии которых эстетический элемент играет такую важную роль, протекла в сфере интенсивных художественных интересов и попыток творчества — у Платона в области трагедии, у Ницше — в области музыки. Существует предание, что Платон до обращения в сократовскую веру написал тетралогию для состязания *, что роли между актерами уже были распределе- *, что роли между актерами уже были распределе-
ны, и все это вдруг было брошено. Ницше в 13 лет пишет свою автобиографию, в 1854—55 гг. (10—11 лет) — первые стихи, в Крымскую войну он сочинил 17 игр, из них 14 — разные способы взятия Севастополя. Одновременно с этим идет успешное усвоение музыки, а позднее и композиции: "Гимн жизни" для хора с оркестром, а в 1887 г. он сочиняет сам себе "Реквием" (см.: Moebius. "Fr. Nietzsche").
Английский эстетик Берке (Burke), автор книги "Inquiry into the origin of our ideas on the Sublime and Beautiful" (1756), привлекшей внимание Лессинга и Канта, книги, написанной им в девятнадцатилетнем возрасте, пишет о себе следующее: "Сначала я был сильно увлечен натуральной философией, которая всецело поглощала мое внимание, когда мне бы надо было заниматься логикой. Я называю это увлечение furor mathematicus**. Но я вскоре отделался от нее, как только до нее дошла очередь в колледже, подобно тому как объевшиеся люди извергают обратно все, чем был заполнен их желудок. Тогда я снова обратился к логике и метафизике. Этим делом я занимался довольно долго и с большим удовольствием, это был мой furor logicus***, болезнь, часто встречающаяся в дни невежества и весьма редкая в просвещенное время. Затем воспоследовал furor historicus****, преобладавший некоторое время, но теперь окончательно исчезнувший и уступивший место "furori poetico"***** (Morley. "Burke", 1907, p. 7-8).
Шафтсбери в 11 лет уже владел латинским и греческим языками. Немного позднее проявился эстетизм его классической культуры: быть может, не найдется другого человека, который так бы претворял древних в свою плоть и кровь. В центре эстетического панпсихизма у Шафтсбери стоит идея:
All are but part of one stupendous Whole
Whose body nature is and God the soul,
т. е. "всякое существо входит как частица в одно грандиозное целое, коего телом является природа, душою — Бог". См. книгу Fowler'a "Shaftsbery and Hutcheson".
Гюйо в 15 лет помогает больному глазами Фуйлье в его работе о философии Платона, а в 17 лет, окончив лицей, пишет талантливую работу о философии Эпиктета, которого переводит на французский язык ("L'irreligion de l'avenir", предисловие Альфреда Фуйлье).
Приведенные нами многочисленные примеры можно ради наглядности представить в одной таблице, в которой я отмечу:
1. Многообразие интересов у философов, имея в виду их важнейшие сочинения. Я буду придерживаться следующего обозначения:
46
м — математический интерес
е — естественно-исторический
э — эстетический
р — религиозный
н — этический
и — исторический
ю — правовой
ф — филологический
п — психологический
2. Я обозначу приблизительно возраст, к которому относится пробуждение главнейшего из этих интересов.
Декарт |
м (15), е, п, р. |
Паскаль |
м (10), е, н, р. |
Д'Аламбер |
м (15), е. |
Лейбниц |
м (8), е, п, и, р, ю, ф. |
Дюринг |
м (11), е, ю, п, м, э. |
Пуанкаре |
м (12), е, п. |
Бэкон |
е (13—15), н, и, э. |
Пристли |
е (11), м, н. |
Кант |
е (16), м, н, ю, п, э, р. |
Спенсер |
е (13), м, п, и, ю, э. |
Л оце |
е (13), м, э, р, п. |
Бенеке |
п (15), е, н, р. |
Бэн |
п (18), м, е, ф. |
Эрве |
п (15), э. |
Мэн-де-Биран |
п (15), э, н. |
Рид |
п (15), э, и, е. |
Шеллинг |
э (15), е, и, ф, р. |
Ницше |
э (13), п, ф, и. |
Бруно |
э (15), е, м. |
Платон |
э (15?), м, н, р, е, п, ф. |
Шафтсбери |
э (15), ф, н. |
Берке |
э (15), е, м, н. |
Гю й о |
э (15), ф, н, р, п. |
Л укиан |
э (15), ф, п. |
Шлейермахер |
р (11), ф, п, э. |
Шпир |
р (18), е, н, п. |
Соловьев |
р (12), н, п, ф, и, ю, э. |
Юм |
и (14), п, е, н. |
М и л л ь |
и (12), п, ю. |
Гоббес |
и (14), е, п, ю, н. |
Гегель |
и (17), ф, э, р, е, м. |
Кузен |
и (18), ф, п, э, н. |
Гербарт |
н (16), п, и, е, э. |
Марк Аврелий |
н (12), п, р. |
Бентам |
н (13), п, ю. |
Декарт м (15), е, п, р.
Паскаль м (10), е, н, р.
Д'Аламбер м (15), е.
Лейбниц м (8), е, п, и, р, ю, ф.
Дюринг м (11), е, ю, п, м, э.
Пуанкаре м (12), е, п.
Бэкон е (13—15), н, и, э.
Пристли е(11),м,н.
Кант е (16), м, н, ю, п, э, р.
Спенсер е (13), м, п, и, ю, э.
Л о ц е е (13), м, э, р, п.
Бенек е п (15), е, н, р.
Бэн п (18), м, е, ф.
Эрве п (15), э.
Мэн-де-Биран п (15), э, н.
Рид п (15), э, и, е.
Шеллинг э (15), е, и, ф, р.
Ницше э (13), п, ф, и.
Бруно э (15), е, м.
Платон э (15?), м, н, р, е, п, ф.
Шафтсбери э (15), ф, н.
Берке э (15), е, м, н.
Гюйо э (15), ф, н, р, п.
Л у киан э (15), ф, п.
Шлейермахер р(11), ф, п, э.
Шпир р (18), е, н, п.
Соловьев р (12), н, п, ф, и, ю, э.
Юм и (14), п, е, н.
М илл ь и (12), п, ю.
Г о б б е с и (14), е, п, ю, н.
Гегель и (17), ф, э, р, е, м.
Кузен и (18), ф, п, э, н.
Г е р б а р т н (16), п, и, е, э.
Марк Аврелий н (12), п, р.
Бентам н (13), п, ю.
XVI. Изобретательность у детей. Общие выводы
Детская изобретательность проявляется у всякого ребенка, по крайней мере нормального ребенка, в его играх задолго еще до пробуждения призвания, соответствующего сильным сторонам его индивидуальности, разумеется, в самой элементарной и примитивной форме. Однако, несмотря на огромное расстояние, отделяющее эти робкие опыты от высших форм изобретательности взрослых, особенно в сфере научного и философского мышления, механизм изобретения все же обнаруживает родственные черты.
Весьма любопытно, что о детских изобретениях впервые заговорил давным-давно Лейбниц: "Даже в упражнениях детей найдутся такие вещи, которые остановят на себе внимание величайшего математика. По-видимому, намагниченной стрелкой мы обязаны их развлечениям, ибо кому была бы охота обращать внимание на то, как она вертится! Установлено также, что мы обязаны детям воздушным аркебузом, который они мастерят из простой трубочки гусиного пера, которым они протыкали с обеих сторон ломтики яблока, а затем насильственно сближали между собою обе образовавшиеся яблочные пробочки и сжатием воздуха выталкивали одну из них, задолго до того, как один искусный рабочий (Норманн) вздумал подражать им en grand"* (см. изд. Erdmann, 1840, стр. 175: "Discours touchant la methode de la certitude et de 1'art d'inventer").
Лейбниц, однако, не дает психологического анализа детской изобретательности. Таковой мы находим у современных психологов.
Жан Поль Рихтер приводит примеры изобретенных детьми изречений (возраст 6—7 лет): "Каждая ночь поражает нас ударом, днем мы выздоравливаем. Когда пульс бьется быстро — бываешь болен, когда медленно — здоров; так и облака: когда быстро плывут — к дурной погоде, когда медленно — к хорошей. Самые глупые большею частью любят наряды, так и с насекомыми — они самые глупые и пестрые зверьки". В новейшее время собран большой материал по детскому творчеству в области рисования. Гораздо менее сделано по вопросу о детском творчестве в области языка.
Royce в статье "Psychology of invention" ("Psychological Review", 1898) прежде всего указывает на то, что в первоначальной подражательной стадии процесса приспособления ребенка к окружающей среде, когда у него складываются привычки, возможно индивидуальное изменение привычки — независимая вариация в интеллектуальной привычке. Происхождение способности к изобретению связано биологически с происхождением изменений в привычке. Спрашивается, при каких же условиях замечается тенденция к изменению привычки и к изобретению? Опыт "пластичен", привычки могут быть изменяемы в самых разнообразных направлениях. Можно, например, научиться писать ногой. Положим, привычка А связана с обстоятельством, при котором она обычно проявляется, В, но если вместо обстоятельства В дано некоторое обстоятельство р, то я реагирую измененным образом, скажем, q, которое стоит к р в таком отношении, как В к А. Форма отношений сохраняется, но
48
содержание изменяется (этот процесс Стэут называет relative suggestion*). Ребенок производит ряд пробований (try, try, try again), причем благодаря руководящей роли сознания происходит сознательное уточнение. Благоприятная случайность может содействовать удачной индивидуализации привычки, но отнюдь нельзя взваливать здесь все на случайность. Кроме благоприятной наследственности имеет значение поощрение, общественная поддержка индивидуальной инициативы. Дети, воспитывающиеся в закрытых учебных заведениях, где подавляется индивидуальная инициатива, проявляют меньшую изобретательность, чем дети, растущие на свободе, например в деревне. По мнению Ройса, в процессе изобретения нужно отметить контраст с рутиной; затем на почве этих контрастных действий намечается в известном направлении смутный идеал, определяющийся точнее во время работы, а затем контраст превращается в углубленную форму сходства: ребенок проявляет свое искусство (skill) путем сведения контраста к некой углубленной форме сходства. В главе "Творческая мысль" мы увидим, какое значение имеет чувство аналогии, предвосхищающее это вскрытие углубленных сходств. В этом смысле пишет Вольф: "Facultatem observandi rerum similitudines ingenium appellamus"** (Psychologia empirica, § 476). Такой мотив привел, например, к философии Платона или к математическим концептам нуля и отрицательных величин. Ройс пробовал воссоздать этот процесс в его примитивной форме в психологической лаборатории, проделывая ряд опытов в таком роде:
- Нарисовать на десяти карточках нечто из прямых и кривых "ни на что не похожее" и не похожее одно на другое, бросая карточку в сторону, не стирая, делать каждый раз все единым движением, как можно скорее, 10 рисунков в 2 минуты.
- Надо после показывания 10 карточек с нарисованным рисовать непохожее — "Geist, der stets verneint"***.
3. Надо сравнить оригинал и позднейшее и нарисовать еще не
похожее ни на то, ни на другое.
Болдвин в книге "Ethical and social interpretation" отмечает также ряд пробований, подражательных воспроизведений, но с известными уклонениями от оригинала, как исходный пункт для изобретательности, а также наряду с личным фактором указывает и на социальный: изобретение удовлетворяет ребенка, когда он убеждается, что оно годно для других, одобряемо ими. Он приводит следующий пример. Девочка начинает строить из кирпичиков церковь, затем к фундаменту А присоединяет линию В, потом С. "Что ты делаешь? Я никогда не учил тебя строить церковь с двумя поперечными линиями". "О, нет, я делаю животное с головой, хвостом и четырьмя ногами". Ребенок зовет всех домашних в комнату, чтобы показать свое изобретение.
Рассмотрев пробуждение призвания у философов, мы должны прежде всего отметить, что: 1) У большинства из них замечается ingenium praecox — первые попытки творчества относятся в среднем к 13—15 годам. 2) Их интересы всегда многообразны — не замечается преобладания исключительно только одного интереса. 3) Главнейший из их интересов как раз соответствует наиболее сильной стороне в будущем философском творчестве. 4) Эти интересы нуждаются в поддержке со сторо-
49
ны общества в социальном признании, что было отмечено нами в предыдущей главе.
Раннее пробуждение призвания у одаренной натуры может быть задержано неблагоприятными условиями развития или не быть подмеченным окружающими, но, вообще говоря, оно очень часто замечается. "Закон ускоренной деятельности, — по словам Чемберлена ("Дитя", т. I, стр. 55), — присущ детскому возрасту и даровитым натурам". Он напоминает поэтому слова Шопенгауэра: "Каждое дитя до известной степени гений, и каждый гений до некоторой степени дитя". Он приводит статистические таблицы по данному вопросу, составленные Дональдсо-ном и другими (кстати сказать, составленные довольно топорным способом), и замечает: "Музыкальный талант созревает настолько рано, что лишь в пяти случаях из ста было основание предполагать отсутствие заметных проявлений способности в детстве; из живописцев, ваятелей и зодчих по крайней мере 3/4несомненно проявили талант до 15 лет; то же можно сказать о трех из каждых четырех поэтов и приблизительно то же относительно романистов, 5/6 ученых, историков и критиков и 2/3 философов можно с уверенностью предсказать раннюю зрелость в детстве" (ib., стр. 61—62). Все эти цифры далеко не точны благодаря недостаточно широкой базе для подсчета, но показания американских антропологов и психологов в общем вполне совпадают с результатами, полученными мною. Селли, как указывает Чемберлен, в статье "Гений и ранняя зрелость" устанавливает следующее положение: "Скороспелость гения замечается в раннем обнаружении себя", "но раннее проявление гениальности вполне совместимо с удлиненным и даже поздним развитием". Это положение, по-видимому, подтверждается и в области философии, например в применении к Платону, Аристотелю, Декарту, Лейбницу, Канту, Гегелю и Спенсеру. Наши великие писатели неоднократно описывали эти первые порывы творческого духа в ребенке, это радостное предвосхищение каких-то великих прекрасных, смутно чуемых возможностей. У Пушкина, Толстого и Достоевского отмечено это расширение духовного горизонта, пробуждение творческого Эроса, прилив внутренних молодых сил, вера в свою "звезду". Напомню пушкинские стихи: "В начале жизни школу помню я"; замечания Толстого о зачатках творчества у крестьянских детей; и следующие слова Достоевского в "Неточке Незвановой"1: "Бывают такие минуты, когда все умственные и душевные силы, болезненно напрягаясь, как бы вдруг вспыхнут ярким пламенем сознания, и в это мгновенье что-то пророческое снится потрясенной душе, как бы томящейся предчувствием будущего, предвкушающей его. И так хочется жить, так просится жить весь ваш состав, и, воспламеняясь самой горячей, самой слепой надеждой, сердце как будто вызывает будущее, со всей его тайной, со всей неизвестностью, хотя с бурями, с грозами, но только бы с жизнью".
1 Сочинения, 4-е изд., ч. II, стр. 177—178.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
КРИЗИС СОМНЕНИЙ XVII. Сомневающийся и скептик
Муки сомнения — одно из самых тяжелых состояний человеческого духа. Это состояние знакомо почти всякому. Оно может иметь своим объектом самые разнообразные предметы, как самого конкретного, так и самого абстрактного характера. Сомнение есть состояние мучительного колебания нашей мысли между утверждением и отрицанием, касающимися подлинности какого-нибудь факта или истинности какого-нибудь отношения между мыслями. Факт, являющийся объектом сомнения, может быть физического или психического порядка, истинность отношения между мыслями может касаться житейской, научной или эстетической области, но везде характерным является колебание нашего сознания между двумя (или несколькими) возможностями, которое сопровождается болезненно неприятным чувственным тоном. Нередко высказывалась мысль, будто философские сомнения, которые переживаются некоторыми скептиками, проповедующими невозможность достоверного познания, лишены этого трагического оттенка. В 1909 г. французский психиатр Соллье в книге "LeDoute" категорически высказывал эту мысль, выражая уверенность в спокойном академическом характере философских сомнений, в противоположность драматическому оттенку серьезных сомнений не только у лиц, страдающих болезненными формами сомнения, но и у нормальных сомневающихся. Анализируя кризис сомнений в процессе изобретения, мы покажем, что подобный взгляд совершенно ложен и что именно в области философии кроется настоящая трагедия сомнения.
"Сомневающийся" и "скептик" не одно и то же. У первого объекты сомнения конкретного характера, у второго — абстрактного; один сомневается в своих успехах в жизни, в верности своей любовницы, в точности такого-то воспоминания; другой — в основах познания, в реальности материи, "чужого Я", Бога, в возможности общеобязательной морали, в ценности красоты в искусстве и т. п. Таким образом, скептицизм касается наиобщих предпосылок нашего знания и нашей деятельности. Он подвергает сомнению самую возможность философии, если под задачей философии понимать прежде всего стремление привести человеческое знание к стройному единству, свободному от внутренних противоречий и согласующемуся с данными мира опыта. Было бы большим заблуждением сказать, что люди, которые "миры продумали", ища решения этих проблем, не знали мук сомнения, но что их знает любой
51
обыватель, озабоченный узким кругом своих личных интересов. Бесспорно, могут быть случаи, когда скептик не есть сомневающийся, т. е. теоретик скептицизма может не страдать сомнениями. Это мыслимо в трех случаях: 1) При скептицизме дилетантов, которые забавляются философским скептицизмом от нечего делать — это представители бойкой "Kaminphilosophie"*. 2) Есть в истории философии такие эрудиты, которые, изучая противоречивые мнения различных философов, в конце концов увлекаются спортом искания противоречий в человеческих мнениях. Но здесь мы имеем перед собой уже не философа-творца, но комментатора, экзегета, который действительно может быть весьма далек от мук сомнения. (Об этих двух видах сомневающихся см.: "Законы мышления и формы познания", 1906, стр. 202.) 3) Наконец, не надо забывать, что сомнения есть не только эмоциональное состояние, но и познавательное. В основе всякого сомнения лежит вопрос, проблема, и можно не только страдать сомнением, но и применять его как метод. Этим издавна пользуются математики в виде так называемого reductio ad absurdum**. Вот два треугольника, их основания и углы при основании соответственно равны, равны ли треугольники? Усомнимся в том, что они равны. Тогда, налагая один на другой так, чтобы основания совпали и углы совпали сторонами, поставим вопрос о том, совпадут ли вершины. Тут могут быть три возможности: треугольники совпадут, или вершина первого упадет внутри второго, или вне второго; но последние возможности тотчас же отпадают, и мы приходим к заключению, что треугольники равны. Таково методическое сомнение, которое часто применяется философами для твердой установки истины. Таким именно путем Декарт установил свое "Cogito, ergo sum"***. Разумеется, в подобном случае не может быть речи о муках сомнения, ибо здесь мы имеем дело уже с решенною проблемою, и только в способе ее изложения философ намеренно вводит элемент сомнения, чтобы тем победоноснее на глазах читателя его устранить. Но за вычетом упомянутых случаев мы найдем следы глубоких переживаний сомнения не только у философов-скептиков, но и вообще у большинства крупных мыслителей. Раскрытие этих душевных перипетий, однако, чрезвычайно трудно. Дело в том, что скептицизм, возникши однажды в древности, отлился в известное миросозерцание, которое создало вслед за собой непрерывность литературно-философской традиции. Главные принципы скептической философии через Цицерона, через Секста Эмпирика передавались из поколения в поколение. Августин, Монтень, Паскаль, Бэйль, Юм, Ницше образуют линию непрерывного наследования этих начал, и часто бывает трудно определить, что в мировоззрении послепирроновского скептицизма есть подлинно пережитого и что представляет лишь новую вариацию старой темы. Отсюда и в чувствовании философа может быть подмечен налет сопереживаний скорее эстетического, чем взаправдашнего характера. Особенно заметно это, как мы увидим ниже, у Монтеня, для которого скептицизм — "мягкая подушка", molle oreiller. Другое обстоятельство, затрудняющее нашу задачу, это недостоверность и неполнота биографического материала. О древних скептиках, их внутреннем мире мы почти ничего не знаем. В новой философии мы имеем более богатые биографические и автобиографические данные, но и здесь воз-
52
можны ошибки. Казалось бы, автобиография — самый надежный в данном случае источник, но мы увидим на примере блаженного Августина, как нередко спорны показания философа о самом себе, о своих внутренних исканиях, особенно если факты, излагаемые в автобиографии, имели место много лет раньше ее написания.
XVIII. Психические особенности скептика
Какими критериями можно выделить в истории философии скептиков от представителей других школ? Вопрос, казалось бы, праздный, ибо ответ самоочевиден: тот, кто утверждает, что мы не можем с уверенностью установить ни одной истины и что мнения, друг другу противоречащие, равно вероятны, и есть скептик. Но дело-то в том, что история человеческой мысли не дает нам примера абсолютного скептицизма без каких-нибудь смягчающих обстоятельств. Скажут ли, что Пиррон был абсолютным скептиком. — однако и Пиррон признавал некоторые знания, полезные для жизни, за ценные, следовательно, и он не проводил скептицизма до конца. Абсолютный скептицизм предполагал бы полное воздержание от высказываний и от поступков, т. е. смерть. Поэтому мы наблюдаем у знаменитых скептиков наличность известных противовесов теоретическому сомнению: или они допускают вероятное знание, полезное для житейского обихода, хотя и не имеющее никакой научной ценности; или они в религиозной вере находят выход из неразрешимых противоречий научной мысли; или они опираются на традицию, на обычаи предков в своем поведении; или, разочарованные в могуществе разума, они бросаются в объятия мистики, т. е. прислушиваются к голосу "сверхразумных" откровений чувства и здесь находят "тихую пристань" после бурных сомнений в области научных исканий. Так как и сомнение, и вера, и знание находятся в известной дозе у всех философов, то разграничение между скептиком и нескептиком сводится к перевесу скептического элемента над догматическим. Мало того, вера некритическая, слепая, конвульсивная характерна именно для скептиков. Вот почему нам представляются заведомо бесплодными споры о том, был ли Паскаль скептиком или нет, — спор, одно время сильно занимавший французских историков философии. Раз абсолютный скептик есть фикция, то, понятно, легко доказать, что Паскаль не был скептиком, но то же легко проделать и с остальными мыслителями, которым приписывается такое имя. Психология скептика, кроме наличности упомянутых мучительных колебаний, определяется совокупностью психических признаков, из которых важнейшими, по-моему, являются следующие:
I. Стремление к разнообразию в философском познании, тенденция
концентрировать внимание на различном, индивидуальном, текучем, из
менчивом и, наоборот, неспособность концентрировать внимание на
постоянном, устойчивом, универсальном, единообразном.
II. Наклонность к сближению реального и нереального, сна и дейст
вительности, изменения в "чувстве реального" в смысле его ослабления
по отношению к реальному и усиления по отношению к невзаправдаш
нему.
53
- Ненасытная потребность свести к еще более очевидному то, что для других самоочевидно, то, что Лейбниц назвал superrogativum*.
- Конвульсивная приверженность слепой вере, обычаям и традиции.
- Иногда парадоксы воли в виде почти одновременного влечения и отвращения в отношении к тому же объекту. Эти черты читатель найдет в приводимой ниже характеристике кризисов сомнения у различных философов.
В развитии философских сомнений можно отметить три периода. Первоначально сомнение отсутствует, затем наступает момент его зарождения. Прежняя точка зрения на мир оказывается неудовлетворяющей, сначала сомнение может касаться какого-нибудь частного вопроса, но мало-помалу оно, как малая искра, разгорается в пожар, охватывающий все. Затем наступает перелом в этом кризисе — открывается внезапно путь к преодолению мук сомнения или в виде научного опровержения, или в виде акта веры1:
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко
И верится, и плачется,
И так легко, легко...**
Весьма любопытно, что этот переворот, даже момент озарения, напоминающий процесс религиозного обращения, нередко остается в памяти философа. За таким переломом уже наступает уверенная разработка проблемы познания в новом направлении. Здесь мы имеем дело с тем циклом психофизических процессов, которые Авенариус в своей "Критике чистого опыта", § 805, назвал проблематизацией и депроблематизацией.
Подобный процесс можно наблюдать: 1) В обыденной жизни. Нас начинает мучить сомнение по поводу какого-нибудь интересующего нас обстоятельства, и вдруг догадка озаряет нас, и сомнение сменяется уверенностью. Энгельмейер в книге "Теория творчества" дает следующую иллюстрацию этому явлению. Красавица Эболи (в "Дон-Карлосе" Шиллера) мучится сомнениями, кто владеет сердцем Карлоса, — и вдруг догадка молнией озаряет ее душу: любимый ею Карлос любит именно ее, свою мачеху, но старается подавить в себе безумную страсть. 2) В искусстве. Художник Михайлов никак не может создать в воображении подходящий для своей картины образ гневающегося человека. Вдруг ему попадается один из многочисленных его старых набросков гневающегося, который, как и другие, не удовлетворял его, но теперь стеариновое пятно на брошенном в корзину рисунке внезапно подсказывает ему нужные изменения экспрессии — и долго не вытанцовывавшаяся задача решена (этот пример из "Анны Карениной" также имеется у Эн-гельмейера). 3) В науке. Ученые нередко отмечают в своих воспоминаниях момент, когда долго не удававшаяся задача оказывалась в один
1 Знаменитый физик Роберт Бойль так описывает кризис сомнений, из которого он нашел выход в религиозной вере, которая укрепилась в нем после изучения Библии в еврейском и греческом подлинниках: "Демон воспользовался моей меланхолией, наполнив душу ужасом, и внушил сомнения в основных истинах религии".
54
прекрасный день, благодаря внезапной счастливой интуиции, решенной. (Этой творческой интуиции посвящена в настоящем исследовании IV гл. II т.)
Есть возраст в жизни человека, когда глубокие душевные перевороты особенно часто имеют место. Это период юности, период "бури и натиска", эпоха "опрокидывания Монбланов и Казбеков", по выражению Писарева. В эту эпоху происходит глубокий перелом между старыми и новыми верованиями. Быстрое завершение физического развития, ряд новых неведомых чувств, с одной стороны, старые наивные привычки мысли — с другой, все это создает ту неуравновешенность, которая нередко замечается у подростков и которая так гениально описана у Достоевского в "Неточке Незвановой" и "Подростке". В последнем произведении великий психолог особенно ярко обрисовывает колебания нравственного чувства у подростка. С одной стороны, загрязненное воображение подталкивает его на грязные проделки, с другой — в нем зарождаются порывы героизма и великодушия, вместе с новыми чувствами расширяется круг социальных симпатий, возникают эмоции, направленные на всечеловеческое, на сверхличное. Старбек ("Psychology of religion", 1899) объясняет перелом душевной жизни после кризиса сомнений следующим образом: если мы обозначим физиологические процессы, соответствующие новым верованиям, через АВ, соответствующие старым верованиям через ВС, то борьба между противодействующими силами — старым мировоззрением и нарождающимся новым — может быть графически выражена в следующих трех схемах.
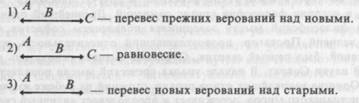
Из них ясно, что кризису сомнений, его наиболее острому моменту соответствует тот случай (2-й чертеж), когда борющиеся силы, старое и новое, оказываются приблизительно равными. Джэмс в "Многообразии религиозного опыта" для религиозного обращения дает другое объяснение. Он полагает, что у человека, наряду с его сознательным Я, имеется еще сублиминальная область, т. е. совокупность душевных состояний, лежащих ниже порога сознания. Это "подсознательное Я" может развиваться, расти и при известных условиях вторгнуться в жизнь сознания, овладеть ею и, наконец, стать в ней господствующим началом. По моему мнению, гипотеза Старбека более научна, чем гипотеза Джэм-са. Дело в том, что самонаблюдение показывает нам принадлежность и старых, и новых верований тому же единому сознанию. Гипотеза сублиминальной душевной жизни опирается на допущение абсолютно-бессознательной душевной жизни, а такое предположение самопротиво-речиво, ибо психическое состояние есть только другое слово для состояния сознания, поэтому здесь пришлось бы говорить о бессознательных
55
состояниях сознания, что нелепо. Удивительно, что Джэмс в учении о сублиминальной душевной жизни противоречит своим же психологическим взглядам. В "Principles of Psychology" он приводит 10 аргументов против допущения бессознательной психики (см. мое исследование "Э. фон-Гартманн". — "Русская Мысль", 1906).
Но кризисы сомнения встречаются не только в юности, но и во всех возрастах. Есть натуры, которые всю жизнь ищут прочного мировоззрения, но неустойчивость их душевного склада не приводит их ни к какому надежному результату. Чехов в одном рассказе ("В пути") мастерски изображает нам именно такой тип. Ночью на станции 45-летний интеллигент-вдовец с девочкой дочерью встречает молодую барышню, с которой дружески беседует, и, как это часто бывает, в порыве откровенности выкладывает незнакомке всю душу — рассказывает ей свою жизнь. Чеховский герой всегда чем-нибудь увлекался, во что-нибудь страстно верил, но скоро терял свое верование и заменял его другим. Эта смена стоила ему немало жертв: "Я веровал не как немецкий доктор философии — не цирлих-манирлих — не в пустыне я жил, а каждая вера гнула меня в дугу — ломала мне душу и тело". В конечном итоге — даром прожитая бесплодная жизнь.
В истории философии есть непрерывный прогресс, только его не так легко подметить, как прогресс в области положительных наук. Этот прогресс имеет не линейный, а скорее, как указывал Лейбниц, спиралеобразный характер. Изживается известный цикл мыслей, но затем возвращение к исходным пунктам этого цикла уже осуществляется в другой плоскости. Вот при каждом таком переходе "в другую плоскость" мы замечаем в истории философии кризис сомнений. Древнейший период греческой философской мысли завершился появлением софистов, из которых великий Протагор, провозглашавший относительность всех наших знаний, был первый скептик. Софистов сменяет основатель европейской науки Сократ. В начале упадка греческой мысли появляется Пиррон. Один из величайших отцов церкви, стоящий на рубеже языческого и христианского миров, переживает и преодолевает античный скепсис. В конце эпохи Возрождения во Франции перед появлением Декарта философский скептицизм носится в воздухе. Монтень, Шаррон, Санхец, позднее Паскаль являются его выразителями. На рубеже новой и "новейшей" философии, накануне великой философской революции Канта, появляется Юм, которому кенигсбергский гений обязан "пробуждением от догматической дремоты". Наконец, в последнее десятилетие минувшего века властитель дум Ницше является несомненным симптомом нового поворота спирали, еще большего углубления и обогащения человеческой мысли новыми духовными сокровищами.
XIX. Скептицизм в истории философии
В былое время скептицизм возбуждал интерес исключительно самим философским своим содержанием. Его пытались критиковать, опровергать. В настоящее время нас он интересует не только с этой точки зрения его философской значимости. Мы хотим постигнуть духовный облик
56
скептика, не только гносеология, но и психология скептицизма занимает нас в настоящее время. Отчего люди делаются скептиками? Нет ли для этого каких-либо побочных причин, лежащих в стороне от логических оснований знания и кроющихся в эмоциональной стороне сомневающегося? Ведь для человека, признающего возможность достоверного знания, скепсис есть самообман, наваждение. В чем же кроются его чары? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно присмотреться к духовному обличью великих скептиков.
К сожалению, о величайшем из них, о Пирроне, мы знаем очень мало. Он жил, по-видимому, между 365—275 гг. до Р. X., был родом из Элиды, участвовал в походах Александра Македонского. С последним обстоятельством связана любопытная подробность, которую историки скептицизма (Рихтер и Брошар) считают весьма вероятной. Во время своих азиатских странствий Пиррон познакомился с пессимистической философией индийских гимнософистов, и если пессимизм лежал в его натуре, то это соприкосновение с индийской отравой мысли еще более усилило в нем природный наклон мышления. Здесь приходит в голову полная аналогия с Шопенгауэром, который, пессимист от младых ногтей, нашел подтверждение своих мрачных дум в только что изданных в начале XIX в. английских переводах индийских философских учений. "Поколения человеческие подобны листьям в лесу, ветер сдует листья на землю, и снова ими оденется лес, лишь только пробудится весна, так и род человеческий — одни растут, другие погибают" — вот любимые Пирроном гомеровские стихи. Знание абсолютно невозможно. Скептик подобен Апеллесу, который хотел, изображая на картине лошадь, нарисовать пену — это не удавалось ему, и он с отчаяния бросил в картину губкой, смазанной краской. Получился как раз искомый эффект пены. Таков же скептик в поисках за знанием; он убеждается, что оно ни чувственным, ни интеллектуальным путем недостижимо. Ему остается один отчаянный выход — интеллектуальное самоубийство — воздержание от всяких суждений но как раз этот отчаянный шаг и приводит его к примирению с жизнью, к благополучной атараксии. "Меня ничто не поддерживает, — говорит Пиррон, — а тем не менее я стою непоколебимо". Итак, отказ от знания и бесхитростная жизнь, близкая к природе, — вот что составляет последнее слово античного скепсиса, в котором легко усмотреть резиньяцию отчаяния. Подобная атараксия недалека от спокойствия могилы. но как раз этот отчаянный шаг и приводит его к примирению с жизнью, к благополучной атараксии. "Меня ничто не поддерживает, — говорит Пиррон, — а тем не менее я стою непоколебимо". Итак, отказ от знания и бесхитростная жизнь, близкая к природе, — вот что составляет последнее слово античного скепсиса, в котором легко усмотреть резиньяцию отчаяния. Подобная атараксия недалека от спокойствия могилы.
Если у Пиррона просвечивает продиктованная отчаянием покорность судьбе, любовь к року (amor fati, по выражению Ницше), то другой скептик, его ученик Тимон, был натурою иного типа. Тимон, по-видимому, прикрывает свой скептицизм отчаяния маской протеста, негодования, иронии. Ему принадлежат "силлы", ряд сатирических сцен, где он изображает философов в аду, их бесплодную логомахию в самом карикатурном виде, но является среди них Пиррон и своим словом водворяет блаженное затишье
Исповедь Августина представляет собою удивительный памятник духовных исканий. Этот страстный, мятущийся человек, погруженный в чувственную жизнь своих соплеменников, с юности задумывается над проблемой зла. Она у него idee pivotale* всех его нравственных, фило-
57
софских и религиозных исканий. Девятнадцати лет из "Гортензия" Цицерона он почерпывает сведения по истории философии. Затем следует почти десятилетний интерес к манихейству, где его более всего поразило признание за злом значения самодовлеющей реальности. После значительных успехов в ораторском искусстве, после тяжелых личных переживаний (потеря близкого друга) уже по переезде в Карфаген он углубляется в занятие науками: математикой, эстетикой. Эти занятия сопровождаются разочарованием в манихействе: оно не дает решения проблемы зла, и "мир" остается в пределах этого учения "неприемлемым". По получении кафедры риторики в Милане Августин знакомится с академическим скепсисом. Одновременно с этим он встречается с епископом миланским Амвросием, который раскрывает перед ним новую перспективу к преодолению философско-религиозных противоречий. Далее знакомится он с новоплатонизмом, с Плотином. Психологически вполне понятно, почему Августин ухватился именно за это учение, — оно в вопросе о реальности зла диалектически противоположно манихеизму, — там добро и зло, Ормузд и Ариман, два реальных начала мира, здесь зло — Schein, видимость; но за порывами мятущегося духа у Августина чувствуется душевная пустота. В нем разгорается глубокий душевный кризис, который он описывает как внезапный переворот в сторону христианства; последним толчком в этом направлении были слышанные им рассказы о героических подвигах христианских аскетов. Августин глубоко потрясен непоколебимой верой, которая царит в душе последних в противоположность его духовному смятению. Эти муки сомнения завершаются следующею сценой "обращения", как его рисует Августин.
Мучимый своими сомнениями, Августин в решительный день переворота удалился от своего друга Алипия в глубь своего сада и долго, распростершись под смоковницей, молился. Вдруг он услышал за оградой сада детский голос, напевавший слова: "Возьми, прочти". Он встрепенулся, стал думать, не случалось ли ему ранее слышать такое восклицание в детских играх, но не мог припомнить: "Тогда его осенила мысль, что это — знамение свыше. Он вспомнил, как Антоний, вошедши в церковь, когда читался стих из Евангелия: "Пойди и продай имение твое и раздай нищим, и приходи и следуй за мной", принял это за знамение, к нему обращенное. Августин поспешил к месту, где сидел с Алипием и где оставил книгу посланий апостола Павла, и, раскрыв ее, увидел слова: "Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пировани-ям, ни пьянству, ни сладострастию, ни распутству, ни ссорам, ни зависти. Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти". Прочтенное даровало Августину мгновенный выход из мук сомнения — бесповоротным решением принять христианство (см.: Герье. "Блаженный Августин", 1910, стр. 56).
Если верить этому описанию, то дело представляется чрезвычайно просто: нисхождение благодати вызвало в Августине мгновенный, хотя и подготовлявшийся переворот в сторону христианства, что и побудило его вскоре принять крещение (387 г.). Между тем исторический анализ исповеди Августина показывает нам, что мотивы его "обращения" были гораздо более сложны, чем он их представляет. С переворотом его были связаны различные обстоятельства (отказ от кафедры риторики, обет
58
целомудрия и принятие христианства). Мы знаем, что в эпоху описываемого кризиса и после у Августина еще преобладал интерес к новоплато-низму, что значение рассказа об аскетах крайне преувеличено и что Августин, писавший исповедь 14 лет позднее кризиса (386—400), невольно исказил всю картину своего переворота, придав ему, сообразно своим новым христианским убеждениям, мистическую форму нисхождения благодати, сопровождавшегося бесповоротным принятием христианства. Так и теперь стараются представить кризис Августина католические богословы, наперекор показаниям научных историков (Гарнак, Рейтер, Герье и др.). Здесь невольно вспоминаешь слова Достоевского о том, что "психология — палка о двух концах".
В очень интересной книге Carra de Veau "Gazali", 1902 (Bibliotheque des grands philosophies, v. 9) сообщается следующее. Родившийся в 450 году* Махомед Эль-Гацали был сыном бедного работника, необразованного, но весьма уверовавшего в науку. В детстве он обучался в школе. Он изучил право и продолжал блестяще начатое обучение в Джьорджьяне. Однажды, возвращаясь по окончании занятий на родину, он был ограблен на пути разбойниками, которые отняли у него все имущество, в том числе и все его юридические глоссы и комментарии. Он догнал их и стал умолять вернуть ему его юридические глоссы. "В этом мешке находятся книги, я нарочно покинул родину, чтобы списать их, усвоить и приобрести знания". "Как можешь ты говорить, что обладаешь знаниями, — возразил, смеясь, один из разбойников, — если нам достаточно было отнять их у тебя, чтобы ты их лишился?" Он возвратил Эль-Гацали книги, и последний, рассказывая об этом эпизоде, усматривает в нем урок, данный ему Богом. Достигнув места назначения, Гацали успешно продолжал свои занятия и выступил на литературном поприще. В 488 г., пользуясь славой знаменитого оратора и преподавателя, он вдруг почувствовал потребность отдаться мистическому созерцанию. Он оставил свою деятельность, бросил семью и стал вести одинокую и аскетическую жизнь. Не переутомление работой и не опасность преследования со стороны правительства, но мотивы интимного характера, приводимые ниже, побудили его сделать такой шаг. В книге "Муккид" он рассказывает о себе, что с детства он ощущал жажду всезнания. Религиозные верования, опирающиеся в глазах ребенка всецело на авторитет родителей и учителей, казались ему лишенными достоверных оснований. Достоверность же он понимает чисто психологически, как такое состояние духа, в котором последний столь прочно связан со знанием и удовлетворен им, что ничто не может оторвать его от этого знания. Он предается различным сомнениям, тому, что называется сенсуальным скепсисом, а затем и скепсису интеллектуальному. Останавливается он и на сопоставлении сна и действительности: не есть ли жизнь сон, а смерть — пробуждение от него? Окажется ли наше знание по пробуждении таким же, каково оно теперь, в состоянии сна? Это истинное пробуждение может быть предвосхищено мистическим экстазом и просветлением духа, которое ниспосылает Бог. Это просветление дает духовную опору не только морали и эстетике в жизни, но и основным предпосылкам знания. Де-Во сомневается, чтобы этот документ был точным изображением духовных исканий, скорее это литературный лейтмотив, встречающийся, хотя и не в такой отчетливой форме, у араб-
59
ских мистиков. Это обстоятельство не исключает того факта, что связь скепсиса и мистики здесь очевидна и что мистика была для Эль-Гацали и других нередко средством к освобождению от скепсиса.
Античный скепсис Пиррона был вызван в большей степени практическими, чем теоретическими интересами. Не жажда всезнания, опирающаяся на вполне достоверные начала, играла здесь роль основного мотива, а стремление к невозмутимости духа.
Точно так же и средневековый скепсис Эль-Гацали был тесно связан с морально-религиозными потребностями. Быть может, даже Эль-Гацали лишь эмоционально сопереживает известный литературный лейтмотив. Его поверхностный скепсис, так похожий по внешней форме на doute methodique* Декарта, глубоко отличается от последнего тем, что мистическая настроенность у него была сильна и до кризиса сомнений, которые были лишь преходящим состоянием духа, не повлекшим за собою никакого развития научно-познавательного интереса, но лишь укрепившим мистические и апологетические тенденции его духа. В его полемике против философов сказалось, несмотря на всю связанность мысли теологическими предпосылками, его изумительное диалектическое мастерство.
XX. Монтень. Паскаль. Юм. Ницше. Ренан
Если муки сомнения у Августина бесспорны, какова бы ни была природа пережитого им кризиса, то скептицизм Монтеня представляется нам явлением чисто литературным. Конец XVI в. особенно способствовал распространению скептицизма, благодаря тому пресыщению эрудицией несистематической, беспорядочной, какая была характерна для эпохи накопления знаний без их концентрации. Монтень — типичный продукт этого переходного времени. Сам человек высокообразованный, любивший пестрое многообразие мнений, эстетически смаковавший литературно-философские контроверзии, он проповедует отрицание науки и замену ее благоразумною docta ignorantia**, преданностью политическим и религиозным обычаям страны. Он говорит о трех родах невежества — невежество наивное простолюдина, неполнота знаний ученого и сознательное невежество, docta ignorantia, пресыщенного мнимым знанием, убедившегося в тщете наук и непознаваемости истины. Монтень рассказывает, как однажды во время кораблекрушения все люди на корабле трепетали от ужаса, один гусь с философским спокойствием продолжал есть горох. Монтень, поскольку он о себе рассказывает, весьма подходит под психологический тип скептика, только мук сомнения у него не замечается никаких. Он ярко характеризует в себе тенденцию к разнообразию, непостоянству во мнениях и настроениях1. ("Я подобен старой бабе, которая зараз ставит свечку и Георгию Побе-
1 "Мой взгляд на все так беспорядочен, что натощак и после еды я чувствую себя другим. В чудную светлую погоду при хорошем здоровье — я порядочный человек, мозоль на большом пальце ноги делает меня раздраженным, нелюбезным, необщительным" и т. д. ("Essais", ch. XII, p. 301).
60
доносцу, и дракону, которого тот хочет заколоть".) Как древние скептики, он сближает сон и действительность1, реальное и кажущееся. Как они, он отрицает самоочевидность аксиом познания. Но для него неустойчивость мнений скорее привлекательна, чем мучительна, он импрессионист познания. Эта легкость и беззаботность Монтеня и заставляет относиться к его заявлениям о себе подозрительно, трудно провести границу между литератором и человеком. Если Монтень действительно переживал кризис сомнений, то лишь в юности. В "Essais" он энергично подчеркивает тот единственный выход из теоретических сомнений, какой он усматривает: традиционная вера в религии и верность существующему политическому строю и обычаям страны. Причем эта вера должна быть совершенно слепой: "христианам представляется случай проявить веру, когда они наталкиваются на нечто невероятное. Оно тем более согласно с разумом, чем более противоречит человеческому разуму" (Essais, ch. XII, p. 211). Человеческий разум не может овладеть истиной, все порожденное им шатко и спорно. В наказание нам за нашу гордость и дабы показать нам наше жалкое состояние и бессилие, Бог произвел смятение и беспорядок при столпотворении Вавилонском.
Я должен мимоходом отметить здесь еще никем не указанное совпадение в формуле, определяющей отношение веры к знанию, у Монтеня и Канта. Кант: "Я упразднил знание, чтобы дать место вере". Монтень: "Aneantissant son jugement pour faire place a la foi"* (p. 221). Разумеется, аналогия здесь чисто внешняя, ибо Монтень имеет в виду слепую веру в учение церкви, а Кант — сознательную веру в нравственный закон. Монтень хватается за веру конвульсивно: чем более велика нелепость, в которую мы должны верить, тем выше наша вера. В своем традиционализме Монтень граничит с оппортунизмом, напоминая нашего скептика и "романтика реакции" Конст. Леонтьева. Как Монтень прославлял невежество турок и ставил их "мудрое незнанье иноземцев" в пример французам, так и Леонтьев находил, что невежество народа — гарантия его морального здоровья и его живучести, и, прославляя Китай, говорил: "Россию нужно заморозить".
В Монтене литератор поглощает человека, у Шекспира же в "Гамлете" мы видим подлинную трагедию сомнения. Я упоминаю об этом не относящемся непосредственно к истории философии обстоятельстве, потому что влияние Монтеня на Шекспира, как показал Фосс, несомненно; сохранился экземпляр "Опытов" Монтеня с автографом Шекспира, и некоторые мысли "Гамлета" целиком взяты у Монтеня. В этом смысле Гегель метко оценил философское значение великой трагедии2.
1 "Бодрствуя, мы спим и, спя, бодрствуем. Я не так ясно вижу во сне, но и явь
представляется мне всегда не совсем ясной и не без дымки. Кроме того, сон в своей
глубине усыпляет порою сновидения; но наша явь никогда не бывает столь явственна,
чтобы окончательно очиститься от грез и рассеять их: грезы — сны бодрствующих
— сны, худшие настоящих снов. Если принять во внимание, что наш разум и наша
душа, воспринимая фантазии и мнения, зарождающиеся во сне, снабжают поступки во
сне таким же одобрением, какое они проявляют наяву, почему не усомниться нам
в том, не представляют ли наши мысли и действия наяву только другого рода сон, не
есть ли явь лишь разновидность сна?" (344).
2 Кризис сомнений Юлиуса Банзена, пессимиста, последователя Шопенгауэра,
описан в превосходной статье А. А. Гизетти "Забытый мыслитель" — "Вопросы
философии и психологии", 1907.
61
Если в глазах Монтеня загадка бытия не представляла ничего мучительного и он к вопросу "быть или не быть" относился с беспечным равнодушием (in utrumque paratus), то для Паскаля (1623—1662) это был вопрос жизни и смерти. В детстве уже великий математик, в юности создатель теории сочетаний, исследователь конических сечений, теории рулетки, изобретатель счетной машины, позднее выдающийся физик, производящий опыты по вопросу о vacuum, основатель гидростатики, этот пламенный дух, этот Брандт*, которому нужно или все, или ничего, мучительно ищет выхода из скептицизма, самого радикального, и страстно хватается за церковную веру, которую стремится оправдать, защитить со всеми ее случайными историческими и бытовыми особенностями. Он сомневается в реальности внешнего мира и других людей, сомневается в Боге и в то же время горячо стремится к вере. Самая высота религиозно-нравственного идеала, который рисуется ему, повергает его в ужас своею недостижимостью. Везде ему мерещится грех — в познании — libido sciendi, в жизни чувств — libido sentiendi, в жизни воли — libido dominandi, сладострастие познания, чувствования и властвования. Выход из сомнений он видит в слепой вере в церковную догму, в безусловном смирении ума перед нею. Глубина Паскалева трагизма, мне кажется, заключается именно в том, что у него нет цельной, вполне искренней веры, что он хочет взвинтить себя до такой веры, которая для него уже невозможна. Это видно, например, из того, что для доказательства бытия божия он прибегает к знаменитому пари. Орел или решка — Бог существует или нет? Вопрос теоретически абсолютно неразрешим, но мы должны решить его практически, ибо "nous sommes embarques — мы самой судьбой посажены на корабль жизни, и вопрос для нас практически сводится или к потере, или к приобретению бесконечного блаженства. Если Бога нет, беда будет невелика от нашего ошибочного верования, если он есть — мы в бесконечном выигрыше. Рассуждение это, достойное врагов Паскаля иезуитов своею жалкою казуистикой, нашло впоследствии через Бэйля, Локка и Руссо отголосок в 4-й антиномии Канта. (См.: Renouvier. "Introduction a la philosophie analytique de l'histoire", глава "Le pari de Pascal".) В жизни Паскаля были два переворота в сторону религии — два "обращения" — одно в 1646 г., когда ему было 23 года, другое в 1654 г. (31 год). Последнее связано с поразительным документом, который был предметом насмешек Вольтера, — это "амулет" Паскаля. Паскаль всю жизнь носил на груди листок бумаги, на котором описывается его второй кризис обращения. Вот начало этого документа, живо рисующего перед нами ту радость, то нравственное облегчение, которое нашел этот измученный сомнениями человек в слепой покорности церковной вере:
"L'an de grace 1654.
Lundi, 23 Novembre jour de St Clement.
Depuis environ 10 '/* du soir jusque environ 11 1/2.
Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes et des savants.
Certitude, certitude, sentiment, joie, paix, grandeur de Tame humaine.
Renonciation totale et douce.
Soumission totale a C. et a mon directeur"**.
62
Лелю делает анализ этого произведения с психиатрической точки зрения, совершенно минуя жизненную драму Паскаля. Для нас эти психиатрические подробности не представляют интереса.
Отца новейшего позитивизма Давида Юма, по-видимому, не только нельзя заподозрить в муках сомнения, но многие вообще склонны не считать Юма скептиком. И действительно, при чтении сочинений Юма мы находим курсив его мышления на понятиях обычая и веры. Уверенность в законосообразности природы, правда по Юму, покоится на привычке, на известном ассоциационном механизме нашего сознания, который, благодаря привычке, стал нашею второй природой. Однако то обстоятельство, что таково последнее слово юмовской философии, нисколько не исключает не только наличности скептического элемента в его учении, но и настоящих мук сомнения, а также наличности других душевных черт, которые мы считаем характерными для сомневающегося. К своему успокоению в области познания на культе привычки Юм пришел после тяжелой внутренней борьбы. Кризис сомнений был пережит им в юном возрасте (1734 г.), именно когда ему шел 23-й год. Об этом кризисе мы узнаем из одного письма Юма к врачу, где он описывает свой душевный перелом и сравнивает его с кризисом "обращения", как его описывают французские мистики. В этом замечательном письме к врачу Юм указывает прежде всего на то, что он по окончании колледжа в Шотландии продолжал с величайшим увлечением заниматься самообразованием, читая преимущественно сочинения философского и литературно-критического характера. К 18 годам его умственный горизонт весьма расширился. Обязательное занятие юриспруденцией не увлекало его. Описывая далее свою беспомощность в попытках систематизировать свои многочисленные наброски и размышления и свой крайний упадок энергии, Юм пишет дальше: "Мне случалось читать в сочинениях французских мистиков и наших фанатиков, как они, описывая историю своих переживаний, отмечают апатию и психическое угнетение (coldness and desertion of spirit) как часто возобновляющееся настроение, причем некоторых из них оно мучило вначале целые годы. Ввиду того что это умонастроение ревнителей благочестия (this kind of devotion) всецело зависит от силы экзальтации (passion) и, следовательно, от жизненных духов, мне часто приходило в голову, что есть известная аналогия между их душевным состоянием и моим". (Boston. "David Hume", 1846, v. 1, p. 30—39.) Вероятно, отражение этих лично прочувствованных мук мы находим в описании того Stimmungssolipsismus*, который он дает в заключительной главе "Трактата". Тенденция к сосредоточению внимания на изменчивом и разнообразном проявляется у Юма в том, что он разлагает все познание на элементы пестрых психических импрессий: субстанция физического мира распыляется на сумму конкретных чувственных впечатлений, Я превращается в "связку перцепций", восприятие времени и пространства в minima visibilia и minima tangibilia** пространства — в слияние воедино прерывной совокупности чуть заметных ощущений и минимальных временных промежутков, заполненных ощущениями. Самоочевидность геометрии вызывает в нем сомнения. Все здание человеческой мысли сводится к единичным кирпичикам ощущений и идей, склеенных между собою внешним цементом привычки и веры.
63
В каком смысле можно говорить о Ницше-скептике? Ведь он всю жизнь был проповедником определенного философского учения. В юности он увлекался Шопенгауэром, и данью этого увлечения явилось "Рождение трагедии". Потом он увлекся позитивизмом и дарвинизмом, чтобы, наконец, выступить со своим "Заратустрой". И тем не менее скептическая струя проходит через все его творчество, как трещина, вносящая коренное раздвоение во все построения его мысли, и в этом подлинная трагедия всего его творчества. В этом отношении прежде всего выделяется скептическая струя в области познания. Ницше протестует уже в юношеском труде против сократовской претензии постигнуть бытие разумом и даже разумом исправить его. В книге "Человеческое, слишком человеческое", в которой самое название есть перифраз протагоровского "человек — мера всех вещей", Ницше подчеркивает относительность и сомнительность наших знаний, их головокружительную пестроту. Он полагает, что овладеть единством в познании мира невозможно, что наш мозг в своих усилиях овладеть действительностью окажется бессильным; как Монтень, он доказывает вред знания для жизни. Он пророчит скорую утрату для человечества самого интереса к познанию. Самоочевидные истины он вовсе не считает ни истинными, ни самоочевидными, а просто верит в них, признавая их практическую пользу. И все это он думает в период своего интереса к позитивизму.
Область красоты была всегда особенно близка и дорога Ницше, и тем не менее он является характернейшим представителем эстетического скептицизма. 1) Искусство — порождение известных метафизических верований, мы эти верования утратили, потому и наслаждение искусством становится для нас невозможным. 2) Художник — отсталое существо, он живет самообманом, который не может быть терпим нами, раз он нами осознан. 3) Наслаждение искусством связано тесно с верой во вдохновение творца, но мы не верим в мистическую и метафизическую природу вдохновения, и обаяние искусства пропадает для нас. 4) Наконец, искусство умирает. Мы видим еще свет от только что закатившегося солнца, но самого солнца мы не видим. Последняя грустная мысль напрашивается на сопоставление с печальным раздумьем Милля, который в эпоху крайнего угнетения духа опасался, что музыка, ввиду ограниченного количества тонов, может быть исчерпана.
Такая же трещина проходит у Ницше по его метафизике и этике последнего периода. С одной стороны, он стремится взамен старых скрижалей завета дать новые, произвести переоценку всех ценностей, с другой — и тут же рядом он проповедует обесценивание всех ценностей. Соответственно первому стремлению, он рисует идеал будущего Сверхчеловека, который будет относиться к теперешнему человеку, как последний относится к обезьяне; с другой стороны, он развивает идею вечного круговорота, согласно которой все в мире через огромные периоды буквально повторяется, и, следовательно, каждый человек прикован к своему случайному существованию бесконечной повторяемостью бытия; отсюда одно — покорность року, amor fati, т. е. та же пирроновская резиньяция отчаяния. Заратустра часто нуждается в маске, чтобы прикрыть ею выражение горьких чувств на своем лице. С идеей
64
вечного круговорота у Ницше связано воспоминание, которому он придает большое значение. Это — тоже своего рода "обращение" в новую веру после периода сомнений. Это обращение относится к августу 1881 года. Мы будем разбирать его в IV главе II тома "Творческая интуиция".
Ренан в своей прекрасной автобиографии "Souvenirs d'enfance et de jeunesse" дает нам удивительную по тонкости психологического анализа историю духовного развития и всех этапов в эволюции своего скептицизма — философского и религиозного. Он замечает указанную нами выше смешанность своего происхождения и видит в ней одну из главных причин своей двуликости. Описывая яркими художественными красками свое тихое детство в глухой Бретани, он отмечает то таинственное и величественное впечатление, которое на него производила обрядовая сторона религии. Жадно воспринимая малопонятные проповеди, он испытывал, слушая их, нередко сильное волнение, некоторые подробности представлялись ему особенно загадочными, его поражала фраза "Mors ascendit per fenestras"* — эта смерть с крылами бабочки, проникающая через окна, неотступно его преследовала. Услышав, что один святой в XVII в. сравнивает женщину с огнестрельным оружием, поражающим на расстоянии, он строил самые безумные гипотезы, отказываясь представить себе, каким образом женщина может быть похожа на пистолет. Его детская вера была наивной и крепкой и в маленькой семинарии в Issy, где он получил начатки схоластического образования, ничем не была существенно поколеблена. Когда по поводу некоторых сомнений, все же возникавших в душе юноши, г. Готтефрей торжественно сказал ему: "Vous n'etes pas Chretien!"**, Ренан почувствовал ужас. В семинарии в С. Сюльпис и позднее в С. Никола он все более и более углублялся в изучение богословских, философских и исторических наук. Его догматические верования постепенно ослабевали; наряду с ними у него начало складываться какое-то миросозерцание, напоминавшее не то пантеизм, не то позитивизм, но в силу какой-то юношеской непоследовательности он не ощущал его несовместимости с христианством. Весьма замечательно в кризисе его сомнений то, что самые иррациональные, но абстрактные догматы он без труда допускал. "Моя вера, — пишет он, — была разрушена не схоластикой, не философией, а исторической критикой" (258). Божественная книга не может заключать в себе противоречий; между тем историко-философский анализ натолкнул Ренана на множество совершенно очевидных и неустранимых фактических несообразностей. Честная и благородная душа Ренана не вынесла гнета этих противоречий, и в сентябре 1845 г., он решил порвать с церковью. Свое душевное состояние при выходе из С. Сюльпис он описывает следующим образом: "Вся вселенная произвела на меня впечатление сухой, холодной пустыни. С той минуты, как только христианство представилось мне неистинным, все остальное являлось в моих глазах пустым, безразличным, лишенным всякого интереса. Крушение моей жизни создавало во мне чувство пустоты, похожее на то, которое испытываешь после припадка болезни или под впечатлением разбитой любви" (330).
Этико-религиозный скептицизм остался у Ренана на всю жизнь, но в области теоретической мысли он примыкает к позитивизму. Как у Монтеня, его скепсис хорошо уживается с политическим консерватизмом и традиционализмом. Но с его скепсисом также сочетается и эстетический мистицизм, совершенно чуждый Монтеню.
XXI. Кризис сомнений у нескептиков
Мы рассмотрели ряд жизненных драм, которые переживались скептическими натурами. Но, вчитываясь в произведения философов, которые по общему духу своих систем (подобно Августину) были весьма далеки от скептицизма, мы находим и у них или прямые указания на "кризисы сомнения", или описания подобных кризисов, свидетельствующие о том, что им и лично были знакомы такие состояния духа: Лейбниц, Кант, Гербарт, Фихте, Карлейль, Гегель, Ардиго и др. могут служить тому иллюстрациями.
В 1697 г. Лейбниц пишет: "Большинство моих взглядов наконец установилось после двадцатилетнего размышления, ибо я начал размышлять очень молодым, когда мне не было еще 15 лет. Тогда я гулял целые дни в одной роще, чтобы сделать выбор между Аристотелем и Демокритом". В другом месте он пишет: "Уже ребенком я познакомился с Аристотелем, и даже схоластики не отпугивали меня, и отнюдь я не сожалею об этом. Но и Платон также, а равно и Плотин доставляли мне некоторое удовольствие, не говоря уже о других древних писателях, к которым я обращался. Выросши из школьного возраста, я набросился на писателей нового времени и теперь помню об одной прогулке в Розен-тале (парк близ Лейпцига), когда размышлял (delibere), должен ли я придерживаться учения о субстанциальных формах или нет. Но механизм одержал верх и побудил меня к изучению математики, в глубины которой, впрочем, я проник позднее во время моего общения с Гюйгенсом в Париже. Когда же я принялся изыскивать последние основания механизма и законов движения, я убедился в том, что этих оснований невозможно найти в математике и что мне необходимо обратиться вновь к метафизике, а последняя привела меня от материи к формам, к энтелехии" (см. письмо к Bemont de Monfort, op. ed. Erdm., p. 702).
Философское развитие Канта, если его представлять себе в грубых контурах, заключает в себе три стадии: догматическую, скептическую и критическую. От увлечения лейбнице-вольфовской философией и Ньютоном Кант переходит к изучению Юма, и затем наступает стадия самостоятельного творчества. В половине 60-х годов Канта мучили две проблемы после того, как Юм пробудил его от догматической дремоты: предупреждение ужасного разрушения всех наук, угрожающего со стороны скептицизма Юма, и моральная проблема нравственной свободы и ответственности. В письме к Гарве 1798 г. Кант пишет, что 1769 г. имел большое для него значение, пролив "свет" на занимавшую его проблему. Каков был внутренний переворот, пережитый Кантом, об этом можно только догадываться. Мне кажется, что здесь нам косвенно дает указание одно место в "Антропологии", где Кант относит окончательное
66
образование характера человека к позднему возрасту (30—40 лет). По мнению Канта, такой переворот имеет характер мгновенного или по крайней мере кратковременного взрыва, "Explosion", за которым следует бесповоротная решимость идти по новому пути. Что для Канта такое морально-религиозное обращение имело, как для Августина, характер чего-то мистического, это можно видеть из его "Религии в пределах только разума" (стр. 47).
Духовное обличье Гербарта рисуется в форме типичного догматика, а между тем один интересный документ, оставшийся от этого "скучнейшего господина", как называл его Шопенгауэр, указывает нам, что Гербарт пережил трагедию сомнения. От Гербарта остался клочок бумаги, на котором написано следующее: "В одно прекрасное утро, летом 1791 г. (ему было 20 лет), я стоял на скале на берегу реки Заале. Два шага, только два шага отделяли меня от бездны. Течение реки мутно, как мое самочувствие; светлый солнечный луч — чуждый мне элемент. К чему ношу я в груди образ чистой человечности?" etc. (см. брошюру проф. Алексеева о педагогике Гербарта и Штрюмпелля).
Гегель в своей "Феноменологии" дает описание эволюции человеческого духа (и тут у него есть глава "Несчастное сознание"). Стоическое стремление самосознания к независимости от данного приводит к скептицизму. В душе сомневающегося движущийся хаос — противоречие теоретического и практического, единичного и всеобщего. Несчастное сознание — это сознание о себе как двойственном и противоречивом существе. В нас происходит как бы раздвоение личности. Гегель олицетворяет старое Я (греховное) и новое как бы в две личности, между которыми происходит мучительная борьба, которая находит себе примирение только в высшем начале разумности.
Руссо описывает кризис религиозных сомнений, пережитый им в юности, следующим образом: "Страх ада меня часто еще волновал. Я спрашивал себя, в каком я состоянии. Если я умру в данный момент, буду ли я осужден? В вечном страхе, задыхаясь в этой жестокой неизвестности, я прибегал к самым смешным средствам, за которые я охотно осудил бы всякого другого человека, так поступающего. Я выдумал такого рода предсказания, чтобы успокоить мои тревоги; я говорил себе — я брошу этот камень в дерево, если попаду, то это залог спасения, если не попаду, то это залог осуждения. Говоря так, я попадал в середину дерева, но это было нетрудно, так как я выбирал большое дерево и становился близко. И тогда я не сомневался более в своем спасении" (Confessions, I, b. 6). Пьер Жане приводит это признание Руссо в качестве иллюстрации того вида психастенических сомнений, который он называет манией предсказания или выпрашивания судьбы, когда под гнетом сомнений мы отдаем себя во власть случая (П. Жане. "Неврозы", 1911, стр. 38—40).
У Фихте есть труд, в котором он как бы описывает развитие собственной философской мысли: "О назначении человека". Это сочинение распадается на три части: "Сомнение", "Знание" и "Вера", и в первом отделе Фихте очень живо и ярко рисует те муки, которые переживает сомневающийся при мысли о тяготеющем над ним роке физических законов. Ему рисуется судьба человека в виде чувства зависимости,
67
испытываемого от внешней среды (что впоследствии так образно передал Шнейдер в картине, изображающей скованного человека во власти жабообразного чудовища Земли); вместе с тем здесь изображается мучительное чувство солипсического одиночества. В двух последующих частях Фихте изображает постепенный выход из этого плачевного состояния установлением своей идеалистической метафизики (знание) и подкреплением ее моральной верой.
То, что Фихте описывает художественно (хотя и, очевидно, на основании личного опыта), то Карлейль от имени героя "Sartor resartus" рассказывает о себе самом. Он почувствовал в себе зарождение сомнений на 19-м году (род. в 1795 г., следовательно, в 1814 г.). Эти сомнения, как и у Фихте, были морального характера. Взгляд на вселенную как на машину не мирился с глубокими моральными настроениями, взлелеянными еще с детства в суровой среде шотландских кальвинистов. Механическая картина мира, несовместимая со свободою "Я", ужасала его, как кошмар, и он уже был близок к самоубийству, как вдруг в июне 1821 г. в нем произошел духовный переворот, который он описывает следующим образом: "Чего же ты, собственно, боишься? Зачем ты вечно ноешь и жалуешься и крадешься боязливо, дрожа, как негодный трус? Презренное двуногое! В чем заключается самое худшее, что может тебя постигнуть? В смерти? Ну что же! Пускай и смерть, и адские муки, и все прочее, что только может причинить тебе человек или дьявол, да разве не можешь ты вынести все, что бы то ни было, и попрать ногами самого сатану в то самое время, когда он станет пожирать тебя. Пусть приходит ад, я встречу его и стану с ним бороться! И вот в то время как я об этом подумал, словно пламенный поток пронесся через мою душу, и я навсегда отряс от себя низкое чувство страха. Во мне была такая сила, какой я и не подозревал. С этих пор природа моей скорби изменилась, это был уже не страх и не ноющая боль, а негодование и жестокое огнедышащее упорство" (Гензель. "Карлейль", 1903, стр. 35). Описанный здесь переворот пережит Карлейлем по дороге из Эдинбурга в Портобелло, а не в Париже, как сказано в романе.
Фриз, учившийся в 1792—1795 гг. в богословской семинарии в Niesky, рассказывает о зарождавшихся в нем сомнениях следующее. Лектором по философии был Гарве. "На лекциях вскоре зашла речь о воображении и суеверии. Это быстро и решительно изменило все мое религиозное мировоззрение. Я вдруг увидел, что моя благочестивая, молитвенная настроенность была лишь игрою фантазии, которою я сам развлекал себя, но она потеряла для меня всякую ценность. Таким образом для меня потускнело все значение культа". "К этому присоединилось еще то обстоятельство относительно учения об искуплении, что как только я начал оценивать его с этической точки зрения, так стало ясно, как божий день, что вина, которую может за меня искупить другой, не есть подлинная вина, грех: освобождение от вины или должно быть достигнуто собственными силами, или оно является мнимым... Таким образом, для меня рушилось все положительное религиозное учение, с которым я до сих пор имел дело, однако это отнюдь не поставило меня в затруднительное положение. Ни на мгновенье я не утратил сознание значения религиозной жизни и никогда не усомнился в существовании Бога
68
и бессмертия". См. биографию Фриза Генке (Henke). Фризу в это время было 21—22 года.
Итальянский философ Роберто Ардиго (род. в 1828 г.), вышедший из крестьянской семьи и воспитанный в детстве в глубоко религиозном духе нежно любившей его матерью, сделался священником, углубился в изучение богословия, но позднее, увлекшись естествознанием и философией, пережил глубокий кризис религиозных сомнений, приведший его к разрыву с церковью и к самостоятельной творческой работе мысли в духе позитивизма. С пути богословской апологетики он неожиданно для самого себя свернул на путь свободомыслия: "Кончилось тем, что сомнения, приходившие ко мне со всех сторон уже в прежние годы, сомнения, с которыми я непрерывным размышлением и занятиями боролся и которые в течение долгого времени считал побежденными, встали предо мною, но, к моему крайнему удивлению, уже не в виде сомнений, а как законченные убеждения и неоспоримые истины. Удивительная вещь! До этого дня я стремился прочно держаться моей религиозной веры, а между тем в глубине моего сознания, без моего ведома, под системой религиозных идей, бывших плодом столь усиленной и долговременной работы, развилась законченная позитивная система. Новую систему я нашел, к моему величайшему изумлению, совершенно готовой и непоколебимо прочно стоящей в моем сознании как раз в тот самый момент, когда, сидя на поляне под кустом в маленьком саду, разведенном мною около дома каноника, я заметил, как последнее размышление порвало последнюю нить, связывавшую меня с прежней верой. Тогда мне пришло в голову, что я никогда в жизни, в сущности, не верил и что никогда не делал ничего другого, как старался развить в себе чисто научные тенденции". (Цитата взята мною из книги Геффдинга: "Современные философы", 1907, стр. 46—47.) Здесь заслуживает внимания близость кульминационного пункта в кризисе сомнений не только к благополучному выходу из них, но прямо к самому моменту зарождения оригинальной философской концепции, что объясняется глубиною и продолжительностью предварительных философских размышлений, хотя они и предназначались первоначально для чисто богословских целей апологетики. На это обстоятельно указывает сам Ардиго ("La morale dei positivisti", II, 3, 2).
Иногда религиозные сомнения в юности проявляются в резкой ико-нокластической форме. Так, Джордано Бруно во время пребывания в монастыре С.-Доменико, где он перечитал массу книг (с 15 лет), усомнился в троичности лиц Божества, убрал из кельи образа св. Екатерины и св. Андрея; усомнился в божественности Христа и в реальности пресуществления. Вл. Соловьев в порыве отрицания в юности выбросил из комнаты все образа в сад. С. Симон в 13 лет усомнился в религиозных истинах и заявил отцу, что он отказывается причащаться, убеждая отца в бесполезности насильно заставлять его это делать, ибо он все равно не в состоянии вложить в этот обряд какую-либо искреннюю внутреннюю религиозную убежденность. Когда его в наказание заключили в карцер в С.-Лазаре, он подрался со сторожем, ранил его, вырвал у него ключи и убежал. У князя С. Трубецкого, по словам проф. Лопатина, религиозные сомнения пробудились в 16 лет, в V классе гимназии. Эти сомнения
69
имели для него очень большое значение. Они только усилились, когда он прочел Бокля и некоторые сочинения Г. Спенсера. Для него наступила пора религиозного отрицания, которое он, со свойственной ему горячностью, выражал пугающим окружающих нарушением правил религиозного благочестия. В VI классе он читает "Логику" Милля, Дарвина, О. Конта в изложении Милля. Миросозерцание его — смесь эмпиризма и материализма. В VII классе он знакомится с Куно Фишером, который производит на него огромное впечатление, вызывает в его душе переворот и влечение к немецкому идеализму; в это же время он читает "Критику" и "Пролегомены" Канта. Знакомство с Соловьевым в VIII классе вызывает в нем поворот к христианству. (О первых шагах в образовании личности и миросозерцании философа см. статью проф. Л. М. Лопатина в "Собр. сочинений кн. С. Н. Трубецкого".)
Мы видели, что у А. А. Спира (Шпира) религиозность проявилась в очень раннем возрасте в интенсивной форме и что он в юности возымел намерение поступить в монастырь. В последний год пребывания его в юнкерской школе, когда это намерение еще не покинуло его, в нем были пробуждены религиозные сомнения товарищами, познакомившими его с сочинениями Вольтера. Юноши потешались, говоря, что "поп променял молитвенник на Вольтера", и бедный юноша (18 лет), ошеломленный новизною впечатлений, возмущенный до глубины души, переживал те жестокие муки, которые испытывает человек, видя поругание своей святыни. Он вознамерился опровергнуть Вольтера и для этой цели стал, с одной стороны, изучать его, а с другой — богословские сочинения на русском и французском языках. "Вместе с тем он усилил свои посты и молитвы, но ничто уже не помогало: яд анализа, раз запав в его душу, продолжал в ней делать свое разрушительное дело". Он отказался от мысли поступить в монастырь и почувствовал, что его религиозные убеждения не имеют под собою твердой почвы (см. биографию, приложенную к "Очеркам критической философии", 1901).
Спир нашел выход из своих сомнений, с одной стороны, в занятиях сельским хозяйством и необычайном проявлении деятельной любви к крестьянам, которых он освободил и наделил землею; с другой стороны, он решил всецело отдаться философии, которой он и посвятил всю свою остальную жизнь (см. биографию Спира Брикнера в виде предисловия к переводу его сочинений "Очерки критической философии", 1901).
Бросая общий взгляд на кризис сомнений у философов-нескептиков, следует отметить ряд характерных черт этого кризиса: 1) В большинстве случаев он падает на переходный возраст или время ранней юности. 2) Нередко возникает на почве религиозных сомнений. 3) Часто имеет бурный и мучительный, но скоропреходящий характер. 4) Имеет благотворные последствия для дальнейшего развития философской изобретательности не только в интеллектуальном отношении, знаменуя собою разрыв с традиционным и наивным образом мыслей и заимствованным извне догматическим строем миропонимания, но и преобразуя всю аффективно-волевую сторону личности, обогащая ее состав, содействуя одновременно и ее самопознанию, проникновению в глубины сердца, и ее широте перевоплощаемости в другие души, способности становить-
70
ся на весьма различные, нередко прямо противоположные точки зрения. В этом смысле глубоко прав знаменитый натуралист Гексли, когда он говорит о том благе, которое приносит своим посещением ученому и философу в их творческих исканиях "благодетельный гений сомнения".
Кризисы сомнения в духовном развитии философа следует отличать от духовных кризисов, где муки сомнения в собственном смысле отсутствуют, но где имеется только сильная подавленность духа. Поэтому нельзя отнести к кризисам сомнения ни переворота в области чувствований, пережитого Миллем, ни кризиса, описанного Пристли. Я остановлюсь немного на последнем.
Пристли, воспитывавшийся, как мы видели, в духовной среде, был ребенком слабого здоровья. В этом обстоятельстве, подобно Мэн-де-Бирану, он усматривает нечто благоприятное для самоуглубления: "Я не думаю вообще, чтобы физическая сила сопровождалась тою чуткостью духа, какая благоприятна для благочестия и умозрительных целей (speculative pursuits)". Воспитываясь в суровой обстановке, он в своих одиноких размышлениях пережил однажды тяжелый кризис: "Я чувствовал подавленность духа, о которой я теперь вспоминаю с ужасом, хотя я не мог упрекнуть себя ни в чем существенно греховном: я нередко приходил к заключению, что Бог отверг меня и что судьба моя подобна судьбе Фрэнсиса Спира, которому, по его убеждению, было отказано в спасении. Я помню, какое потрясающее впечатление произвело на меня чтение в подобном состоянии описания человека в железной клетке в "Pilgrim's progress" (см.: Thorpe. "Essais on historical chemistry", 1912, p. 34—35).
XXII. Значение скепсиса для философского творчества
Если подвести баланс в оценке той роли, которую играет скепсис в процессе философского изобретения, то, мне думается, он выразится в следующих минусах и плюсах:
I. Для всякого человека, убежденного в возможности и реальности научно-философского знания, скептицизм представляется проявлением болезни воли. Он вырастает или на почве ослабления воли, упадка живого познавательного интереса, или на почве конвульсивности волевой деятельности, когда борьба противоположных сил парализует в духовной лаборатории мысли всякую изобретательность. Но скепсис может развиться и в натуре, одаренной вполне здоровой волей, хотя и не приспособленной по своему складу к философскому творчеству. Причина, обусловливающая развитие скепсиса, лежит как в интеллектуальной области, так и в аффективно-волевой: 1) В интеллектуальной области главная причина его лежит в глубоком несоответствии между процессом накопления знания и процессом его концентрации. Поверхностный универсализм всякого дилетанта и узкая специализация одностороннего специалиста создают благоприятную почву для развития скептических тенденций, особенно в переходные эпохи (Возрождение и Монтень, конец XIX в. и Ницше), когда процесс накопления специальных знаний отстает от процесса углубленного и осознанного философского их
71
синтеза. 2) В дисгармонической корреляции аффективно-волевых наклонностей лежит другая причина скептических тенденций. Она имеет своим последствием своеобразный интеллектуальный импрессионизм, который развивается, как мы видели, на почве смешения рас или у натур с болезненно-переутонченной физико-психической организацией. Разные социальные изменения, так сказать смещения культурных пластов, соприкосновение и духовное взаимопроникновение социальных и национальных групп особенно благоприятствуют развитию скепсиса у таких натур. Ницше метко обозвал конец XIX в. "веком сравнения", когда так ускорился в человечестве обмен духовными ценностями между различными народами в пространстве (путешествия, конгрессы, переводная литература, народные университеты и т. п.) и возникла углубленная ассимиляция ценностей прошлого, благодаря сильному развитию историзма, — недаром тот же Ницше писал о чрезмерности истории в нашей культуре, о том, что перевоплощаемость в прошлое чересчур-де подавляет творческую самодеятельность современного человека (см. статью проф. Н. И. Кареева: "Ницше о чрезмерности истории"). 3) Скептицизм, подрывая убежденность в могуществе человеческого разума, хватается или за философию веры (фидеизм), или за философию чувства и сверхразумного созерцания {интуиционизм или мистицизм). Скепсис и мистика — два сапога пара, и это можно отметить на всем протяжении истории скептицизма и мистицизма, вплоть до самых новейших их представителей. В этом отношении весьма любопытна брошюра Landauer'a "Skepsis und Mystik" (1903), который указывает (стр. 102) на связь скептицизма с мистикой у самых последних немецких интуици-онистов: "Война всем существующим религиозным общинам и всякой научной системе, так как все они требуют признания определенных понятий и определенных связей между понятиями в качестве интеллектуально правильных!" "Es ist aber unmoglich, dass ein Mensch etwas richtig begreift!"* (Johannes Wedde).
Вся мистическая философия Бергсона с ее "финессами и деликатесами" тонких психологических анализов и диалектической изысканностью изложения есть порождение того безвыходного скептицизма, во власти которого очутился Бергсон. Подобно Канту, Гербарту, Когену и другим философам, он испытал кризис сомнений вследствие невозможности найти рациональный выход из парадоксов бесконечности. Но в то время как другие философы находили из этого кризиса в конце концов рациональный выход, Бергсон признал за человеческим рассудком полное бессилие преодолеть загадку непрерывного, и он, чтобы решить ее, вступает на путь интуиции. Из такого же скептического бессилия преодолеть противоречия бесконечного выросли философия веры (фидеизм) Ренувье и прагматизм Джэмса. Последнее особенно ясно видно из его последней книги "Introduction to philosophy", переведенной мною в 1923 г.
Расплывчатость и шаткость терминологии, пренебрежительное отношение к системному философскому строительству при наличности иногда искусных диалектических построений отдельных доказательств, неумышленное, но упорное стремление воздействовать на эстетическую внушаемость читателя, подмена решающего аргумента ярким образом,
72
сравнением или ложной аналогией — вот обычные дефекты скептика-мистика. "Постулятивный" метод, введение необоснованных предпосылок и настойчивое требование покориться им, апелляция к моральному чувству и практическому смыслу читателя, призыв к действию вместо "слов", стремление застращать читателя грозными перспективами, которые открываются перед "неверующим" в тот или другой "практический постулат", и до утомительности назойливое повторение тех же неубедительных аргументов в слегка измененной форме, являющееся средством самовнушения и внушения, — черта, напоминающая политических агитаторов и церковных проповедников, — вот основные недостатки в мышлении скептика-фидеиста.
II. Если теперь обратимся к плюсам скептицизма, то они представятся нам в следующем виде: 1) Кризис сомнений является, как временное, переходное состояние духа, не только не вредоносным, но прямо благодетельным моментом в процессе философского развития, так как знаменует собой решительный разрыв с традицией, церковно-религиозной или иной. 2) Сочинения скептиков являются всегда прекрасным стимулом для философской любознательности. Скептик не умеет решать проблем, но его внимание до чуткости изощрено по отношению к тому, что действительно достойно глубокого размышления. Сочинения скептиков нередко богаты многоцветными мыслями, тонкими психологическими наблюдениями, многозначительными контрастными сопоставлениями мыслей и фактов. Поэтому они непременно будят философскую мысль от догматической дремоты. 3) Изучение великих скептиков одного за другим имеет огромное воспитательное значение для зрелого философского ума. Перевоплощаясь в душу скептика настолько, чтобы вполне его понять, но не настолько, чтобы взаправду заразиться его идеологией и его чувствами, мы делаем себе прекрасную прививку интеллектуального яда, который сообщает нам на долгое время иммунитет от заболеваний в области творческой мысли. Наконец, 4) скептицизм носит в себе изрядную дозу великой иронии над резонерством, самомнением и тупым педантизмом догматиков. Опасность оказаться в смешном положении всегда угрожает догматику, и ему приходится быть настороже под угрозой стать объектом беспощадно-меткой насмешки скептика. Духовная подвижность скептика, его искусство подмечать односторонности человеческого духа являются драгоценным средством против самодовольного пошехонства замкнутых в себе и лишенных дара перевоплощаемости метафизиков. Произведения скептических умов — драгоценное литературное наследие. "Силлы" Тимона Флиунтского, только что превосходно переведенные на русский язык проф. Г. Ф. Церетели, "Диалоги в царстве мертвых" Лукиана, "Les systemes" Вольтера, где один за другим выступают в смешном виде догматики метафизики, блестки остроумия Монтеня, бичующая ирония Паскаля, тонкий юмор Юма, забавные разоблачения предрассудков философов у Ницше и "трагическое в свете мирового юмора" у Банзена — все это незабываемые страницы, которые могут действовать самым отрезвляющим образом на косность догматической мысли.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ТВОРЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
XXIII. Память и оригинальность
На первый взгляд может показаться, что исключительная память и крупная оригинальность несовместимы. Исключительная память имеет "механический" характер — она удерживает и существенное, и несущественное в том же пространственно-временном распорядке — ее функция restitutio ad integrum*. Изобретательность же предполагает непременно комбинационную способность, т. е. диссоциирование цельных случайных комплексов образов и мыслей и приведение в контакт между собой до сих пор обособленных психических элементов. Но чисто механическая память без интеллектуального момента различения существенного от несущественного есть предельная воображаемая фикция, а чистый интеллект, свободно комбинирующий независимо от границ, полагаемых психофизическим механизмом ассоциаций, есть другая такая же фикция — "чистая чувственность" и "чистый рассудок". Механизм воспроизведения не есть граммофон, но объединен единством сознания, сообщающим всем входящим в него элементам более или менее ясное или смутное чувство принадлежности одному "я", — таков кантовский закон аффинитета (сродства) представлений, возвышающийся над законами ассоциации представлений. Самое несовершенное сознание отдает одним представлениям известное предпочтение перед другими и выбирает из среды других; одни представления, независимо от его воли, в силу интенсивности и повторяемости, удерживаются лучше, чем другие, поэтому любое сознание в известной мере сортирует представления и не есть пассивная фотографическая пластинка. Когда мы говорим о людях с чудовищной от природы и притом механической памятью, мы говорим это cum grano salis**, не в абсолютном, а в относительном смысле слова. Эрудиты, описательные историки, практические полиглоты, классификаторы-натуралисты — у всех у них память отнюдь не вполне механическая: в ней есть элемент рациональный, они могут обладать в известной мере комбинационным даром, ясностью понятий и т. д., и лишь по степени они отличаются от интеллектов с более сильно развитой способностью к абстракции и к диссоциированию. Научное творчество распадается на бесчисленное множество градаций одаренности в смысле преобладания памяти, мышления, фантазии и т. д. И этого никогда не надо забывать. Человек, не способный к обобщениям и изобретательности одного масштаба, может быть вполне способен к обобщениям и изобретательности другого, гораздо меньшего масштаба, между тем,
74
как собиратель и сортировщик фактов, он может быть индивидуальностью чрезвычайно ценной.
После этих предварительных замечаний можно сказать, что память не есть нечто несовместимое с оригинальностью' при условии, если она в умственном развитии ученого организована, если ее развитие урегулировано при помощи интеллекта, т. е. выбор фактов, подлежащих запоминанию, обусловлен известными методологическими приемами, с которыми ученый подходит к изучению действительности. В этом и заключается разница между памятью неорганизованной (memoire brute) и памятью организованной, как выражается Дюга в статье "La memoire brute et la memoire organisee" (Revue philosophique, 1894, II). Он приводит в качестве образчика человека с сильной, но неорганизованной памятью (из Abercombry) д-ра Лейдена, который мог запомнить с одного раза буквально текст целого парламентского акта, и в то же время, чтобы припомнить какой-нибудь отдельный пункт в документе, ему надо было воспроизвести все с начала до искомого пункта. Тэн рассказывает об историке-математике, который говорил: "Я мог бы создать систему, ведь для этого нужна лишь известная доля изобретательности, и, быть может, я способен на это не в меньшей степени, чем кто-нибудь, но, спрашивается, к чему?! Ведь моя система окажется необоснованной, и зачем мне терять время, чтобы в конце концов одурачивать себя фразами?" Он ограничивался изданием документов и умер, работая над изданием сочинения одного арабского математика X в., каковое, по его расчету, должно было отнять у него пять лет работы (Paulhan. "Analystes et esprits synthetiques", p. 66—67).
Случаи феноменальной механической памяти нередки, и история сохранила нам ряд имен лиц, обладавших исключительным даром запоминания и воспроизведения (Фемистокл, Митридат, Сципион, Пико-делла-Мирандола и др.). Но ко многим сообщениям такого рода все же надо относиться, как к анекдотам, не проверенным надлежащим образом. Так, например, существуют бесчисленные рассказы об удивительной памяти коронованных особ. В таких рассказах нередко нужно отнести известную долю за счет придворной лести, а другую долю — за счет наклонности высокопоставленных лиц выдавать себя за сверхчеловеков. Вот образчик легковерного отношения к анекдотам о памяти царей и королей: "Джиббон сказал, что все королевские фамилии в Европе выдавались своею памятью на лица и на собственные имена. Маркиз де Буайе сказал, что Густав III, король шведский, обладал исключительной
1 Можно пойти еще дальше и сказать, что оригинальность совместима с очень слабой памятью. Ломброзо приводит многочисленные примеры амнезии у гениальных людей. Но эти примеры или свидетельствуют о временном болезненном состоянии мощной от природы памяти, или свидетельствуют не о слабости специальных форм памяти для той или другой сферы творчества, а о житейской рассеянности, забывчивости на факты, касающиеся внешней обстановки, а такая рассеянность есть оборотная сторона исключительной силы концентрации интеллектуального внимания и специфических форм памяти. Может ли, например, служить примером слабости памяти анекдот об Ампере, который, написав формулу на спинке фиакра, побежал за экипажем, когда последний сдвинулся с места, или рассказ о Джойа, который в азарте сочинительства написал одну главу не на бумаге, а на своей конторке, и т. п. ("The man of genious", англ. перев., стр. 34).
75
силы памятью — "явление, часто наблюдаемое у принцев крови и являющееся как бы шестым чувством, дарованным им природой". Принц де Линь пишет de Cogny из Киева про русскую императрицу Екатерину Вторую: "Она приняла меня, как будто я виделся с нею не шесть лет, а шесть дней тому назад. Она мне напомнила тысячу разных разностей, которые могут помнить только монархи, ибо у монархов память всегда великолепная" (см. Journal of Speculative Philosophy. 1871, vol. V. Henckle. "Remarkable cases of memory").
Dugas в статье "Les memoires extraordinaires" приводит многочисленные примеры "механической" памяти. В организованной памяти характерно то, что обладатель ее умеет не только систематически запоминать, но и систематически забывать благодаря концентрации внимания и повышенному интересу к тому, что нужно. Это обстоятельство, как указывает Тэн, характеризует изумительную память Наполеона. Сам Наполеон говорил, что различные предметы и дела были расположены в его голове, как в шкафу: "Когда я хочу прервать занятие одним делом, я закрываю один ящик и открываю другой" ("Мемориал").
"Классификации, делаемые натуралистами, можно рассматривать как мнемотехнические системы", — говорит Дюга, а Джэмс замечает: "Философская система, в которой все вещи нашли бы себе рациональное объяснение и были бы связаны между собою причинной связью, представляла бы собою совершенную мнемоническую систему, которая давала бы возможность при наибольшей экономии сил достигать наиболее богатых результатов" (В. Джэмс. "Психология для учителей").
Я остановлюсь еще на одном примере исключительной механической памяти, так как он представляет не только большой психологический, но и общефилософский интерес. В упомянутой мною выше американской статье Henckle (1870) подробно описан случай памяти на собственное прошлое, которому я не знаю аналогичного во всей европейской психологической литературе. Быть может, этот случай есть от начала до конца чистейший "bluff'*, но его надо рассказать во всяком случае, ибо он наводит на некоторые поучительные соображения, даже как мысленная возможность. Однако с известными оговорками случай не представляет ничего явно неправдоподобного. В Пенсильвании 10 сентября 1817 г. родился некто Daniel Mac-Cartney. Генкле познакомился с ним в июне 1870 г., т. е. когда ему было уже 53 года. Мак-Картней от рождения имел плохое зрение, в 13 лет был подвергнут неудачной операции глаз. Только в 1862 г. он обнаружил в себе возможность читать крупную печать на расстоянии двух вершков от глаз, следовательно, его духовное развитие было на тридцать с лишком лет затруднено слепотой. Занимался он всю жизнь физическим трудом, посещал публичные лекции, собрания методистов и таким путем продолжал сохранять духовные интересы. Мак-Картней утверждает, что он может определить за 42 1/2 года жизни (от 1 января 1827 г.), какой был день недели в любой из истекших 10 000 дней, какая была погода и какие были в этот день события, известные ему. До 1 января 1827 г. он помнит много дней, но не все, у него есть пробелы. Генкле, пользуясь "Ohio House Journal", где имеется календарь за много лет, предлагал ему вопросы. Весь этот разговор, занимающий около печатного листа, воспроизведен в журнале в упомянутой выше статье. Я приведу для образчика начало разговора:
76
В. Какой день 8 октября 1828 г.?
О. (Через 2 секунды). Среда. Было облачно. Накрапывал дождик. Я снес обед моему отцу туда, где он таскал уголья.
В. Февраля 21-го 1829 г.?
О. Суббота. Утром было облачно, но к полудню погода прояснилась. Земля была слегка покрыта снегом. Дядя, живший в соседстве с нами, продал лошадь за 35 фунтов.
В. Октября 13-го 1851 г.?
О. Понедельник. Погода была "подобрее", довольно приятная погода. Я оставался всю ночь на понедельник у брата, а на другой день отправился в Карлингтон в депо пилить дерево, и т. д.
Мак-Картней угадывал дни в безошибочном соответствии с показаниями календаря, кроме тех случаев, когда в календаре имелись опечатки. Он был в то же время хорошим умственным счетчиком и знал множество географических названий. Генкле спрашивал его, каким путем он воспроизводит дни своего прошлого. Мак-Картней объяснил. Когда ему называют дату, то он прежде всего вспоминает, что он делал 1 января данного года, а затем мысленно пробегает важнейшие обстоятельства каждой недели данного года до назначенного ему числа. Таким образом, у него имеются опорные пункты, с которыми ассоциативно связаны крупнейшие события данного года.
К этому еще следует добавить, что слепота при феноменальной пластичности природной памяти могла естественно побудить Мак-Картнея сознательно направить его внимание на его собственное прошлое и события, доступные ему не из книг, а из окружающей жизни. Интеллигентность описанного лица, по-видимому, очень невысокого уровня. Читатель увидит ниже в главе "Три пути философии изобретения", почему я так долго останавливаюсь на этом исключительном случае. Приведенный случай далеко отстоит от случаев феноменальной памяти ученых; в последней, даже в крайних случаях ее проявления, все же существенную роль играет выбор фактов и сопутствующая работа мысли.
В этой интересной анкете три обстоятельства нужно принять во внимание, прежде чем поддаваться изумлению по поводу того, что Мак-Картней, по-видимому, обладает тем, что Бергсон называет "souvenir pur"* — целостным воспоминанием своего прошлого, целостной интуицией всей своей жизни. 1) В приведенном разговоре Мак-Картней не делает ни одной ошибки, он ни разу не запинается, не говорит, что забыл или не уверен в точности воспоминания. 2) Генкле сознается, что он не проверял, верно ли приурочивал Мак-Картней те или другие факты своей личной жизни, да это и невозможно было сделать. Равным образом, экспериментатор не проверил показаний испытуемого о погоде, что, я думаю, можно сделать по метеорологическим таблицам и календарям данной местности. Проверке поддавались также указания испытуемого на исторические события дня. 3) В данном случае, если даже вполне признать его аутентичность, нет никакой целостной интуиции прошлого, но лишь конспективное кинематографическое приближение к ней как абсолютно недостижимому пределу. Если предположить, что Мак-Картней воспроизводит из событий каждого дня десять важнейших
77
фактов (на самом деле гораздо меньше), то его интуиция прошлого образует прерывный хронологически-упорядоченный ряд в 100 000 фактов и 10 000 дат, а отдельное звено в этом ряду он воспроизводит не сразу непосредственно, но при помощи "souvenirs cliches", т. е. обычных законов ассоциации.
Чрезвычайно интересный случай представляет научное творчество Ф. Ф. Соколова как иллюстрация того, как сверхчеловеческая, но неорганизованная память создавала препятствия для широких обобщений и яркой изобретательности у человека, несомненно крупно одаренного от природы не только механической памятью. Я воспользуюсь данными весьма интересной биографии Ф. Ф. Соколова, составленной проф. С. А. Жебелевым.
Ф. Ф. Соколов обладал феноменальной памятью на исторические события, обладал совершенно исключительными знаниями в области греко-римской истории, литературы и древностей, причем наряду с необычайной объемностью эта память отличалась также чрезвычайной точностью и сподручностью (Gedachtnisdisponibilitat). Ф. Ф. Соколов непрестанно поддерживал и упражнял ее десятки лет чтением главным образом источников. Он не расставался с древними авторами даже в трамвае или поезде в качестве Reiselecture*. Его одушевляло стремление прочесть и узнать о древних все; он жалеет, что ему не удалось усвоить многого, "несмотря на все мое желание узнать все, что только можно узнать о древностях греческих и римских". Поставив себе подобную неосуществимую вследствие неисчерпаемости явления задачу, проф. Соколов искусственно задержал развитие своей памяти на низших ступенях обобщающей деятельности. В его курсе и особенно в некоторых его трудах были и обобщения, весьма часто удачные, но узкоспециальные. Его память не была механической, но и не достигла той высшей формы организованности, при которой возможны широкие обобщения, во всяком случае, кроме памяти, тут было проникновенное знание всего материала, относящегося к древнему миру. Профессор С. А. Жебелев приводит один замечательный документ, небольшой листок с обозначением 60 тем для специальных статей, — оказывается, что здесь, кроме заглавий, ничего не было, никаких черновиков и заметок: "Ф. Ф. держал весь материал в голове и по тщательном обдумывании его и наведении необходимых справок писал свои статьи прямо набело, почти без всяких помарок" (см.: "Ф. Ф. Соколов (1844—1909)", стр. 28). При таком фактопоклонстве у Соколова была всегда известная доза скептицизма в отношении к широким обобщениям, но также необыкновенный критический дар при установке исторического факта, чувство действительности и умение быстро ориентироваться в специальном вопросе. Соколов своими познаниями вызывал в учениках своего рода "священный трепет". "О чем, бывало, ни спросишь у Ф. Ф., на все у него готов ответ, будь то вопрос из древней истории или вопрос из области древней литературы. Ответ давался быстро, причем лишь в редких случаях Ф. Ф. говорил, что о том-то и о том-то нужно справиться у такого-то писателя или посмотреть такую-то надпись; обыкновенно и соответствующее место из писателя или надписи либо подробно излагалось, либо даже приводилось в доподлинном виде" (ib., стр. 12).
78
XXIV. Память у философов
Мне думается, что такая память, столь ценная для историка, несовместима с дарованием философа. В духовном развитии последнего она должна преобразоваться, получить иную форму, что, как мы увидим ниже, и действительно наблюдается. Не раз указывалось, что способность к зрительной конкретной памяти и наблюдательность находятся в антагонизме со способностью к абстрактному мышлению. Я думаю, что это утверждение приемлемо лишь с большими оговорками.
Природная память философов, по-видимому, не менее значительна, чем память вообще даровитых людей. Между тем мы часто слышим от философов жалобы на плохую память, например Руссо, Монтень, но здесь имелась в виду не та или другая специфическая память ученого, а забывчивость на житейские мелочи и рассеянность в практической обстановке. О вреде механического чтения для философов я уже говорил выше. Вот что пишет Малебранш о подобного рода чтении в процессе развития памяти: "Очень полезно читать, когда размышляешь над прочитанным, когда стараешься путем некоторого усилия своего ума найти решение вопросов, поставленных в заголовке глав, прежде чем приступить к чтению, когда приводишь в порядок и сопоставляешь идеи вещей одни с другими". И он думает, что "люди, обладающие большою памятью, обыкновенно не способны хорошо судить о вещах, которые требуют большого внимания". Действительно, возможны случаи, когда внешняя эрудиция философа, одаренного от природы сильной памятью, может несколько подавить в нем значительное философское дарование. Такой случай мы встречаем в биографии Уиллиама Гамильтона, который с ранней юности всю жизнь много читал и коллекционировал обширную библиотеку. Монк указывает на то, что эрудиция его, выигрывая в широте, проигрывала в точности и до известной степени подавляла в нем творческий размах. Прежде чем писать по какому-нибудь вопросу, Гамильтон обращался к такому множеству авторов и делал столько выписок, что работа вскоре выходила за пределы надлежащих размеров, он обескураживался и в отчаянии не доводил до конца усилия воли, если только внешняя необходимость (например, составление лекций) не вынуждала его выпускать труд в свет. Несомненно, читай он меньше, он создал бы больше. Формально-логическая дисциплина ума у Гамильтона не была органически связана с запасами знаний: "Он имел наклонность постоянно отыскивать формально-логические промахи у противников, нередко упуская из виду суть их аргументации" (см.: Monck. "W. Hamilton", 1882, p. 12—13).
Однако рассуждения Малебранша верны лишь по отношению к неорганизованной памяти. Лейбниц не обладал сильной зрительной памятью. Но "он читал много и отовсюду делал выписки, а также записывал свои мысли по поводу почти каждой достойной внимания книги на маленьких листках, но, записав их, откладывал их в сторону и больше к ним не возвращался, так как обладал удивительной памятью". Следовательно, не зрительной, а моторной, слуховой или моторно-слуховой, подобно Пуанкаре, у которого была выдающаяся память (особенно на линии, на фигуры, на формы), но преимущественно моторная и слуховая. Бэкон,
79
по словам Ramley*, поручал секретарям делать выписки из древних авторов; прочитав их на ночь, он утром, после обдумывания ночью, прямо писал. Паскаль и Гуго Гроциус обладали, как указывает Гамильтон, ссылаясь на биографию этих философов, феноменальной памятью (см. "Lectures on Metaphysics", 1859, p. 225).
У Канта, как предполагает Эйкен, была исключительной силы зрительная память ("Bilder und Gleichnisse bei Kant"). По словам Боровского, Кант обладал редкой конкретной и словесной памятью (Sach- und Wortgedachtniss), достойной изумления силой внутренней интуиции и представления. Он сохранил эту способность до 70 лет, цитировал поэтов, излагал исторические факты с величайшей точностью. Он однажды так описал англичанину Вестминстерский мост, что тот принял его за приехавшего из Лондона архитектора. На целом ряде философов можно видеть, как сильная в детстве механическая память преобразуется впоследствии в менее сильную, но более организованную. Совершенно аналогичное явление отмечает Бине в своем интересном труде "La psychologie des grands calculateurs et joueurs d'echecs" (1894) у знаменитых умственных счетчиков, — они очень рано проявляли свое дарование, но, по мере дальнейшего развития, одни делаются выдающимися математиками и теряют отчасти свою способность к умственному счету (где играет важную роль механическая память), а другие остаются феноменальными счетчиками (следовательно, сохраняют и механическую память), а вне этой специальности обнаруживают посредственную интеллигентность. Фихте ребенком обладал изумительной слуховой механической памятью. То же мы наблюдаем у Шпира, который щеголял перед гостями умением цитировать буквально любое место учебника. Спенсер рассказывает, что у него в детстве была изумительная память на пространственные отношения — он мог великолепно чертить на память карты, но позднее утратил эту специальную способность. Джон Стюарт Милль, несомненно, в детстве обладал изумительной конкретной памятью, ибо он к шести годам овладел греческим языком, а к одиннадцати — латинским и, благодаря исключительным условиям воспитания, получил полный круг высшего образования до 15 лет. Однако впоследствии, в зрелом возрасте, он отнюдь не обнаруживает сильной памяти на конкретные детали. Бэн пишет о нем: "У Милля не было много памяти на какие бы то ни было конкретные подробности; он прочел массу книг по истории, беллетристике, путешествиям и рассказам о приключениях, но нельзя поручиться за точность факта, сообщаемого им письменно или в разговоре. Он равно не умел воспроизводить конкретные факты ни в виде иллюстраций доктрин, ни в целях пояснительного указания. В юности он был отлично начитан в греческих и латинских классиках, но редко когда ему удавалось сделать на память удачную цитату. Путем непрестанного упражнения и постоянных справок он накопил в памяти запас фактов по социологическим и политическим учениям. Эти последние находились постоянно в распоряжении его памяти" (см.: A. Bain. "John St. Mill", 1882, p. 142).
Литтре пишет об Огюсте Конте: "Память Конта была чудовищна... Он массу читал в юности; после этого периода он не читал заново, не перечитывал книг: однажды приобретенный запас был ему достаточен для разработки произведения, при которой нужно было охватывать
80
зараз (avoir present a l'esprit) необъятное количество фактов из области точных наук и истории. Сила памяти послужила Конту могущественным дополнительным средством силе концепции. Вот как сочинялся им каждый из томов "Курса позитивной философии". Он обдумывал тему в голове, никогда ничего не записывая, от целого он переходил к отделам, от этих отделов к деталям. За общим планом следовал специальный план для каждой части. По окончании этой разработки, сначала общей, потом частной, он говорил, что том его готов. Это так и было, ибо, принимаясь писать, он, ничего не упуская из виду, подыскивал все идеи, составлявшие конструкцию его труда, в надлежащей связи и в надлежащем порядке".
XXV—XXVI. Память и интеллигентность
Как уже замечено выше, нельзя утверждать, что у великих людей может быть слабая память, но лишь временные патологические амнезии. Римский-Корсаков совершенно забыл, что уже оркестровал одно произведение. Якоби, как любезно сообщил мне академик В. А. Стеклов, упоминает в "Лекциях по механике" об одном вопросе, забыв, что у него уже было написано на ту же тему исследование. Фарадей проделывал заново выполненные им уже ранее эксперименты. У Канта после 70 лет произошло значительное ослабление памяти. Все эти патологические случаи несомненно ровно ничего не доказывают против защищаемого нами положения, что для философского творчества не менее нужна сильная память того или иного типа. В раннем возрасте (от 8 до 13—14 лет), мы видели, у философов проявляется унаследованная пластичность мозга, т. е. анатомо-физиологическое свойство, от которого зависит механическая сторона памяти. Позднее пластичность ослабевает, но развивается внимательность и интеллектуальная сторона памяти, причем, как указывает Biervliet, внимательность развивается быстрее, чем убывает прирожденная пластичность (см. Biervliet. "La memoire", 1902, p. 117—118).
Американский психолог Болтон пытался уяснить связь между силою памяти (механической) и одаренностью. Он предложил группе школьников воспроизводить на память ряд цифр, которые были показаны перед процессом воспроизведения. Всех испытуемых он разделил на три группы по общей успешности их в занятиях (учащиеся вполне успешно, удовлетворительно и неуспевающие — А, В, О, и, с другой стороны, он разделил их на три группы по успешности в запоминании цифр (хорошо запоминавшие, удовлетворительно и неудовлетворительно). Результаты опытов выразились в следующей таблице:
|
А |
В |
С |
А |
32,6 |
51,0 |
16,3 |
В |
21,4 |
58,2 |
20,4 |
С |
24,1 |
49,4 |
26,6 |
81
Горизонтальный ряд под буквою А обозначает процентное распределение учащихся по степени успешности запоминания в группе лучших учеников; ряд под буквою В — средних учеников, а ряд под буквою С — плохих учеников. Вертикальный ряд под буквою А образует группу наиболее успешно запоминавших из всех трех категорий учеников, ряд В — группу менее успешно запоминавших среди всех учеников и т. д. Рихард Бервальд отмечает, как мало лучшие ученики превосходят механической памятью остальных (см. его "Theorie der Begabung").
Бине определяет корреляцию между градациями интеллигентности и силы памяти у школьников следующим образом. Предполагая, что дети одного возраста, например 10-летние, но находящиеся в разных классах, один, скажем, в старшем, другой — в среднем, а третий — в низшем, представляют нисходящие градации интеллигентности, он всем 10-летним школьникам в учебном заведении задал выучить одно и то же стихотворение. Подлежащее заучиванию, заведомо понятное всем, оно было роздано в копиях по числу учеников. На заучивание (про себя) было дано 10 минут. Через этот промежуток времени листки были отобраны, и дети должны были воспроизвести заученное на память. Результаты опытов сводятся к тому, что дети-ровесники (10 лет) из старшего класса заучивают лучше своих ровесников из среднего класса, которые, в свою очередь, превосходят быстротою заучивания ровесников из младшего класса. Первая группа удерживает в тот же промежуток вдвое больше стихов и прозы (см.: A. Binet. "Les idees modernes sur lesenfants", 1910, p. 159—160).
Последняя известная мне экспериментальная работа о соотношении между силою памяти и интеллигентностью у мужчин и у женщин — это исследование Артура Котеса (Arthur Cotes. "Experiments on the relative efficiency of men and women in memory and reasoning". Psycholog. Review, 1917, N 2). Автор приходит к следующим результатам: 1) женщины явно превосходят мужчин в способности памяти удерживать и воспроизводить; 2) мужчины превосходят женщин, хотя и в менее значительной степени, в интеллектуальной работе (reason work); 3) оба пола отдают предпочтение работе памяти, но, относительно говоря, большее количество мужчин отдает предпочтение работе разума перед работой памяти. Само собою разумеется, что эти результаты, даже если признать постановку опытов правильной, нельзя еще возводить в универсальное психологическое обобщение. Исследования Стетсона над памятью у 500 белых (средний возраст 11 лет) и 500 черных (средний возраст 12 1/2 лет) детей в общественных школах в Вашингтоне показали, что у детей-негров память на 18% лучше памяти белых, причем в то же время память у негритянских детей была лучше их классных успехов, и разница эта была значительнее, чем у белых детей, хотя маленькие негры стояли в умственном отношении в общем ниже их (см.: Чемберлен. "Дитя", ч. II, стр. 193). Очевидно, в обоих случаях имеется расхождение между значительностью интеллигентности и силою механической, "неорганизованной" памяти.
Интеллектуальный момент выражается в том, что процесс запоминания ведется по известному плану: запоминаются не образы и слова, но мысли в известной логической системе, что само по себе служит рациональной мнемоникой в процессе заучивания и воспроизведения. От-
82
дельные факты и частные истины в процессе запоминания сортируются в известные ряды и группы, составные части которых легко могут быть диссоциированы и включены в новые группировки. Что мышление и интеллектуальное творчество есть комбинирование мыслей, а не просто образов, об этом как будто забыли до самого недавнего времени подавляющее большинство психологов. До сих пор еще нет обстоятельной психологии интеллектуальной памяти. К числу немногих работ в этом направлении принадлежит исследование Финкенбиндера, к которому полезно обратиться, чтобы дать себе ответ на такой вопрос: пользуются ли философы при работе интеллектуальной памятью как вспомогательным средством, чувственным материалом в виде образов, слов и эмоций, или возможна чисто интеллектуальная память, комбинирующая между собой одни элементы чистой мысли? В современной психологии мы находим два прямо противоположных ответа на поставленный вопрос. Бюлер в работе "Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgange" (Archiv fur d. g. Psychologie, XII, 1908, 24—92) утверждает, что существует необразное сознавание отношений, воспроизведение полного смысла сентенции может быть опосредствовано "чистою мыслью" без соучастия какого бы то ни было рода образов. Финкенбиндер в работе "Remembrance of problems and their solutions" ("The American Journal of Psychology". 1914. January) доказывает как раз обратное — непрестанное участие в процессе припоминания решения проблем чувственных образов (особенно зрительных), схематических образов одинаково при решении и конкретных, и абстрактных проблем, самых различных степеней ясности и устойчивости, и в связи с самыми разнообразными эмоциями — довольства, сомнения, смущения, отчаяния и т. д. Кто же прав в этом споре: интеллектуалист Бюлер или его противник Финкенбиндер? Я убежден, что на почве психологии, путем отдельных наблюдений или экспериментации, этот вопрос абсолютно неразрешим, как неразрешим, например, на почве психологии вопрос, существует ли душа "сама по себе", помимо чувственности. С философской точки зрения "чистая память", как и "чистая мысль", есть логически необходимый момент в процессе мышления, который так же неотделим от чистой чувственности, как общее от единичного — они необходимые корреляты. Можно бесконечно спорить, входила ли в Bewusstseinslage* испытуемого чистая мысль, ассоциированная, помимо чувственных образов, с другою чистою мыслью, или к этим нечувственным "актам" все же примешивались чувственные "психические подголоски"? Для нас подобная антиномия есть выдуманная головоломка. Попытка решить ее экспериментально ставит психолога в безвыходное положение.
Наряду с механическим и интеллектуальным моментами в процессе памяти следует еще подробнее остановиться на интуитивной стороне. Иногда мы схватываем памятью и удерживаем в сознании сложные целостные комплексы путем созерцания этих комплексов, причем моторный момент заучивания отодвинут на задний план. По-видимому, возможно развить в себе путем упражнения способность подобного удержания и конструировать при участии воображения в сознании це-
83
лостные картины внешнего мира или собственного прошлого. Бергсон, обративший внимание на интуитивное или мгновенное запоминание, рассказывает, как фокусник Робер Гуден упражнял своего сына в подобном запоминании: "Мы проходили с сыном, — пишет Гуден, — довольно быстро перед магазином детских игрушек или каким-нибудь другим, бросали при прохождении внимательный взгляд на витрину, уставленную разнообразными товарами. Пройдя несколько шагов, мы останавливались, вынимали из кармана карандаш и бумагу и записывали, соперничая друг перед другом, число замеченных нами при прохождении предметов. Нередко случалось, что сын мой записывал до сотни". При этом как бы моментальном фотографировании целостного впечатления исключалось, по возможности, всякое детальное истолкование составных частей образа (см.: Бергсон. "Интеллектуальное усилие", пер. Флеровой, стр. 10).
Такого рода целостное запоминание сложных образов, бесспорно, всегда ценно в самых разнообразных сферах научного знания, в математике, особенно в науке со сложно-конкретным содержанием. Для географа весьма ценно развить способность пространственной интуиции, для историка — временной, для натуралиста прежде всего важно уметь воспроизводить сложные формы объектов; для экономиста — схемы и синоптические таблицы и т. п. Подобное развитие интуитивной памяти и природную потребность упражнять ее мы находим у целого ряда ученых. Известный статистик и географ П. Семенов-Тянь-Шанский любезно сообщил мне о себе следующее: "В глубоком моем детстве над кроваткой моей висела немая карта Африки. Заинтересовавшись тем, что на ней изображено, я, со слов старших, усвоил географию Африки. В то время (когда мне было лет пять) моего отца посетил Леруа-Болье, и отец произвел надо мной такой опыт: он разостлал на полу эту стенную карту вверх ногами и посадил меня на нее. Леруа-Болье производил мне по-французски подробный экзамен по географии Африки, и я, ползая по карте, выдержал экзамен безошибочно, совершенно не подозревая в наивности о каком-либо своем успехе. Затем у меня появилось какое-то бессознательное стремление упражнять свою память, и я не нашел ничего лучшего, как с необычайной быстротой выучить наизусть длинный алфавитный указатель подаренной мне кем-то естественной истории, а затем с такой же легкостью усвоил по путеводителям железнодорожные станции".
По словам биографа Карла Маркса Лафарга, Маркс, узнав на лекциях Гегеля о существовании у детей целостного процесса запоминания сложных комплексов представлений (напр., ряда слов) и о возможности развить в себе такую способность, занимался подобными упражнениями, Шлиман в своей автобиографии рассказывает, что лет в 20 он остро почувствовал пробелы и недостатки своего образования и временное ослабление памяти, вызванное болезнью, в то же время он чувствовал неудержимую потребность в развитии именно интуитивной памяти, и он с поразительной легкостью запомнил наизусть чуть не всего "Телемака". Обладание интуитивной памятью, сочетаясь с высоким и разносторонним умственным развитием, даст проницательность. Профессор Б. В. Фармаковский подтверждает это яркой иллюстрацией — творчеством историка искусства Фуртвенглера. С одной стороны, при колоссальной работоспособности он обладал "верностью памяти", позволявшею ему
34
все время работы иметь в виду и пользоваться тем колоссальным количеством памятников, которые он видел и изучал (Фармаков-ский." Адольф Фуртвенглер". Некролог. "Гермес", 1908). С другой стороны, Фуртвенглер стремился к широким обобщениям и обладал мощным комбинационным даром — искусством сближать между собою обособленные и далеко отстоящие друг от друга диспаратные ряды мыслей и фактов. До Фуртвенглера, по словам проф. Фармаковского, в истории искусства не была достаточно тесно связана область изучения памятников пластики с литературными памятниками, не удавалось ясно определить, "какие из сохранившихся памятников возможно было бы ставить в связь с гем или другим художником, известным по текстам" (ib., 8). При необычайной силе памяти и тонко развитой наблюдательности Фуртвенглер оказался в состоянии придать всей истории античной пластики чрезвычайно яркий и осмысленный вид благодаря искусному комбинированию между собою данных, почерпнутых из текстов и из самих произведений искусства.
Об известном английском геологе Вильяме Смите, который в ранней юности заинтересовался землемерным искусством, а впоследствии стал знаменитым составителем геологической карты Англии, Смайльс пишет: "Смит обладал как бы особенной способностью проникать умственным зрением далеко под земную кору, для него, казалось, были открыты все фибры земли и весь ее скелет, вся земная организация как бы была им угадана... однажды он продиктовал Ричардсону различные слои земли в нисходящем порядке числом 33, начиная с мела и кончая углем, под которым слои тогда еще не были определены как следует. К этому он прибавил список более замечательных ископаемых, находящихся в различных слоях почвы. Все это было издано в 1801 г. Однажды Смит изумил Ричардсона, внезапно смешав всю коллекцию ископаемых и быстро восстановив их порядок по слоям (Смайльс. "Самодеятельность", 1868, стр. 185—190).
Остроградский обладал способностью совершенно исключительной "визуализации": он мог при чтении лекции охватывать в одной целостной интуиции весь сложный ряд доказательств: "Это был превосходный лектор, причем достоинство его лекций много зависело от расположения духа. Некоторые из слушателей Остроградского между прочим передают, что иногда он целую лекцию по механике или высшей математике читал, не прибегая к доске, если даже приходилось вводить и сложные формулы" (см.: Т. Трипольский. "Михаил Васильевич Остроградский", Полтава, 1902, стр. 66).
У историка многолетнее изучение жизни какого-нибудь народа и общего исторического процесса дает возможность мгновенного воспроизведения длинного ряда событий и хронологических дат в одной целостной интуиции, причем эти даты, разумеется, не вызубрены механическим повторением написанного на бумажке. Историк настолько вжился в изучаемые им явления, что может развернуть в конспективной форме длинную цепь событий в непрерывный образный или символический ряд. Здесь происходит нечто подобное демонстрации в кинематографе роста растений. Про Маколея его биограф пишет: "Однажды в столовой Британского музея сэр Дэвид видел, как Маколей вручил лорду Эбердин бумажный картуз (a sheet of fools cap), — четыре страницы были сплошь
85
исписаны в три столбца. Этот документ с еще сырыми чернилами представлял полный список "senior wranglers"* в Кембридже с датами их рождения и смерти и указаниями колледжей, где они учились, в течение ста лет, за которые их имена помечены в университетском календаре. Другой раз сэр Дэвид спросил: "Маколей, знаете ли вы ваших пап?" "Нет, — ответил знаменитый историк, — я всегда путаюсь в Иннокентиях". (I am always wrong with Innocents.) "Ну, а можете вы перечислить архиепископов кентерберийских?" "Всякий дурак сумеет вам перечислить задом наперед архиепископов кентерберийских". И он стал почти без передышки называть их, остановившись лишь раз, чтобы отметить курьезное созвучие имен Бэнкрофт и Сэнкрофт, пока сэр Дэвид не остановил его на Кранме-ре". В первом случае, т. е. при припоминании колоссального списка имен в календаре, мы, вероятно, именно имеем пример фотографической или интуитивной памяти, во втором — мгновенное интуитивное построение ряда, который, быть может, никогда прежде не воспринимался зараз и не заучивался. Маколей очень гордился своей феноменальной памятью и не любил, когда другие подчеркивали слабость своей памяти. В одной книге у него имеется пометка по адресу таких лиц: "Они, по-видимому, так рассуждают. Чем сильнее память, тем слабее изобретательность", the more memory, the less invention (см.: Trevelyan. "Life and letters of Lord Macaulay", 1876, II). Кондорсе в Eloge**, посвященной Эйлеру, рассказывает, что Эйлер обладал совершенно необычайной способностью к самым сложным вычислениям в уме. Занимаясь со своим внуком извлечением корней, Эйлер составил себе таблицу первых шести степеней всех целых чисел от 1 до 100 и запомнил ее в точности. Двое из его учеников один независимо от другого вычисляли до 17 члена довольно сложный сходящийся ряд. Результаты работы, произведенной обоими письменно, разнились на одну единицу в пятидесятой цифре. По их просьбе Эйлер проверил их вычисление в уме, и результат, полученный им при проверке, оказался верным (Introduction a l'analyse des infiniment petits, вступит, статья Кондорсе, 1786, стр. 35). Разумеется, в формировании подобных сложных интуиций играет существенную роль и конструктивное воображение, но даже при буквальном заучивании (при участии повторных двигательных процессов), как показали экспериментальные исследования Меймана, выгоднее путь от схватывания целого к усвоению частей, а не наоборот.
Вот еще интересный пример, на котором видно, как из интуиции собственного прошлого постепенно зарождается потребность написать автобиографию.
Приступая к написанию своей автобиографии ("Из дальних лет", 1878), Т. П. Пассек описывает, при каких обстоятельствах в ней зародилась мысль написать свои воспоминания. В 1860 г. она потеряла сына (ей было 47 лет); его смерть страшно потрясла ее, душевные страдания продолжались годы ("Я дотронулась до гроба... как я не умерла у гроба, не знаю"). И вот однажды летом в деревне, томясь от "праздного горя", она внезапно нашла выход из тягостного состояния. "Раз в половине лета, оставшись одна, прилегла я в гостиной на диване. Вокруг меня не было ни звука, ни движения, только из дальней пустоши доносилась песня и как бы удваивала тишину. Полуденное солнце, пробираясь сквозь занавесы, опущенные на раскрытые окна и двери балкона, напол-
86
няло комнату мягким полусветом. Гармония и глубокое спокойствие целого отозвались благотворно на больной душе моей. Я отдыхала и задумалась о былом. Образы, ушедшие в вечность, возникали перед моим внутренним взором и так радостно обступали меня, что мне жаль стало расстаться с ними, захотелось удержать эти духовные видения. Это возможно, думала я, и они не сны, они жизнь, моя жизнь, я облеку их в живые слова, и, помимо себя, они останутся со мною, спасут меня, воскрешат жизнь "из дальних лет", — и стала писать воспоминания. Картины прошедшей жизни последовательно выдвигались одни за другими и с каждым днем становились ясней и отчетливей, вместе с ними как будто ожила и я" ("Из дальних лет", 1878, стр. 32—33).
XXVII. Болезни памяти и философское изобретение
В заключение остановимся еще на одном обстоятельстве: загадочные болезни памяти — явления гипермнезии и парамнезии — послужили толчком к развитию, а может быть, и зарождению метафизических изобретений-догадок в духе мистического спиритуализма.
Уже в XVIII в. (а может быть, и раньше) было обращено внимание на то, что впоследствии было названо панорамическим видением умирающих. Наблюдения подобного рода были, насколько мне известно, впервые собраны Фехнером в III томе его книги "Zend-Avesta". Ввиду сравнительно малого количества описаний этого явления я приведу одно из наблюдений, собранных Фехнером, и покажу, какое он дает им истолкование в пользу своего учения о бессмертии души. Пастор Керн в 1733 г. (в Гальберштадте) рассказывает: "Иоганн Швертзегер после продолжительной и мучительной болезни почувствовал приближение смерти. Он причастился и в просветленном состоянии приготовился к смерти. Вскоре он впал в обморок, продолжавшийся около часа. Придя в себя, он ничего не говорил. Потом наступил второй обморок, продолжавшийся несколько дольше... Дня через два он впал в третий обморок, продолжавшийся четыре часа. Придя в себя, он велел призвать снова духовника и обратился к нему со следующими словами: "Ах, какую я выдержал борьбу!" Больной обозрел всю свою жизнь и все совершенные им грехи, даже такие, которые совершенно ускользнули из его памяти. Все предстало перед ним как бы совершающимся в настоящем. В заключение рассказа он сообщил, что слышал прекраснейшие звуки и видел несказанный свет, что привело его в блаженное состояние. Пастор отмечает поразительно бодрый вид у больного и необыкновенную просветленность взора. Больной сказал, что он через два дня умрет, что и случилось" ("Zend-Avesta, oder uber die Dinge des Himmels und des Jenseits vom Standpunkt der Naturbetrachtung", B. III. S. 27—29). Фехнер полагает, что подобные факты подтверждают его гипотезу, будто при наступлении физической смерти дух человека не уничтожается, но со всеми своими воспоминаниями включается в некоторое высшее сознание, в котором продолжает жить. Свидетельства, на которые ссылался Фехнер, могли бы показаться довольно сомнительным источником, если бы они не находили себе полного подтверждения в новейших наблюдениях
87
представителей экспериментальной психологии. Так, Бирвлит (Bibliotheque internationale de la psychologie experimentale, van Biervliet: "La memoire", 1893, p. 185) и Пиерон (Pieron: "Evolution de la memoire", 1910) указывают, что нередки случаи, когда в минуту внезапной смертельной опасности при сильном страхе (например, при утопании) происходит не ослабление, а внезапное усиление воспроизводящей памяти, и панорамически развертывается прошлое, начиная с раннего детства. Моя мать (англичанка), тяжело больная, за несколько месяцев до смерти однажды ночью спросонок встала с постели, пошла по комнате, упала и сильно ушиблась. Впоследствии она рассказывала мне, что в момент пробуждения после падения на ковер она вспомнила английские "nursery rimes"*, подобные нашим:
Раз-два — упала гора,
Три-четыре — прицепили,
Пять-шесть — кашу есть и т. д.
Three-four — open the door,
Five-six — lay the sticks,
Seven-eight — keep them straight... etc.
Это было ее первым воспоминанием детства, быть может, начало панорамического видения. Панорамическое видение прошлого в минуту смертельной опасности представляет не только психологический, но и общефилософский интерес, на что обратил впервые внимание Эггер в статье: "Le moi des mourants" (Revue philosophique, 1896, I, 26—28). Он приводит свидетельство одного швейцарского ученого (Гейма) о переживаниях туристов в горах в минуту падения, угрожающего смертью. Сам Гейм пережил подобное состояние и описывает его следующим образом: "Чтобы описать пережитое мною в течение нескольких секунд падения, мне пришлось бы вам рассказывать целый час. С необычайной точностью и ясностью передо мною проносились образы и мысли". Приведя далее некоторые мысли свои о средствах ослабить гибельную силу падения, он прибавляет: "Затем я обозрел все факты моего прошлого, проносившегося предо мною в виде неисчислимого количества образов". Ограничивая слово "все" добавлением "важнейшие", Эггер вполне принимает подлинность описываемого факта, что, однако, не дает ему повода придавать подобным явлениям метафизическое толкование в духе Фехнера.
Эггер описал панорамическое видение прошлого. Соллье (Revue philosophique, 1896) пробует дать ему психофизическое объяснение. По его мнению, здесь точнее было бы говорить не о реакции нашего "я" против смерти, но перед представлением об угрожающей смерти. При этом нужно принять во внимание различные случаи: 1) вызывается ли данное состояние воздействием преклонного возраста и прогрессирующего ослабления сил, 2) или влиянием продолжительной хронической болезни, 3) или неожиданным физиологическим нарушением равновесия, 4) или воздействием неожиданной случайности на совершенно здорового человека. При этом, сверх того, должно принять во внимание возраст, интеллигентность, эмотивность и степень развития чувства личности у наблюдаемого субъекта (son degre de personnalite). Соллье, как позднее и другие, отмечает, что в подобных случаях панорамический образ прошлого далеко не всегда возникает, а когда возникает, то в наблюден-
88
ном им случае вся картина прошлого рисуется в виде не развертывающейся панорамы, но в виде одновременной интуиции. Именно такое явление он наблюдал у одной дамы морфиноманки при наступлении обморочного состояния, угрожавшего смертью. Чувство блаженства, испытываемое в данном состоянии, сводится главным образом к потере осязательной и болевой чувствительности — последнее является причиной первого. В минуты, угрожающие наступлением смерти, наше внимание конвульсивно сосредоточивается на том, в чем мы видим источник опасности, и на нашем "я", и мы как бы перестаем чувствовать наш организм, напрягая в то же время зрение и слух. Тогда с особенной легкостью всплывают воспоминания, касающиеся самого существа нашей личности, в одном сложном образе.
Бирвлит в своей книге "La memoire" подтверждает описанное здесь явление. По его словам, Winslow и Rouillard приводят подобные же случаи гипермнезии при травматизме физическом или моральном, как выражается Бирвлит, — панорамическое видение прошлого при утопании и при лежании вдоль рельс под быстро мчащимся поездом, а также живые воспоминания 15-летнего мальчика об операции трепанации черепа, перенесенной на 4-м году, операции, о которой он ничего не помнил, но которая вспомнилась с мельчайшими подробностями обстановки в горячечном бреду.
Другое болезненное явление в области памяти — это парамнезия в форме так называемого "sensation du deja vu"*, когда в известный момент мне внезапно кажется, что все переживаемое мною уже "было когда-то, но только не помню когда". Это явление было давно подмечено художниками и тонко описано в ряде художественных произведений (Диккенс: "Давид Копперфильд", Л. Толстой: "Война и мир", А. Толстой: "По гребле неровной и тряской", Верлен: "Kaleidoscope", Лоти: "Roman d'un enfant" и т. д.). Вот как описывает это состояние Верлен в стихотворении "Калейдоскоп":
Dans une rue au coeur d'une ville de reve
Ce sera comme quand ou a deja vecu
Un instant a la fois tres vague et tres aigue,
O, ce soleil parmi le brume qui se level
O, ce cri sur la mer, cette voix dans les bois!
Ce sera comme quand on ignore des causes,
Un lent reveil apres bien de metempsychoses
Les choses seront plus les memes que l'autrefoi.
Dans cette rue au coeur de la ville magique,
Ou les orgues moudront les gigues dans les soirs,
Ou des cafes auront des chats sur les dressoirs,
Et que traverseront des bandes de musique,
Ce sera si fatal, qu'on en croira mourir**.
Есть многочисленные попытки объяснить эту иллюзию психологически. Наиболее глубокой и остроумной попыткой является попытка Бергсона, но мы не будем здесь разбирать ее, а отметим только, что эта иллюзия связана с временным понижением нормального для данного лица психического уровня и потому часто наблюдается в минуты чрезвычайной усталости или при психастении. Между тем парамнезия описанного рода давала повод к зарождению метафизической и мистической гипотез о "мирах иных", о которых душа как бы вспоминает
в некоторые исключительные моменты жизни. Вследствие этого она являлась как бы субъективным подтверждением, а может быть, и одним из мотивов для зарождения учения о переселении душ и о вечном круговороте. Мы не имеем никаких положительных данных утверждать, что идея переселения душ в своем первоначальном зарождении в древних религиозных и философских учениях возникла именно в связи с описанным явлением, и когда, например, Эмпедокл говорит, что он был растением, птицею, рыбою, мальчиком, девочкой и т. п., то мы не можем решить, есть ли это в его устах лишь отражение пифагорейского лейтмотива, или тут сыграли роль и известные субъективные переживания. Однако последнее допущение не лишено правдоподобия. Профессор С. Г. Елисеев рассказывал мне, что при посещении одного буддийского монастыря в Японии он при взгляде на видимую им впервые местность почувствовал на несколько секунд, что он как будто бы был здесь когда-то, и сообщил об этом переживании монахам; они с удовольствием выслушали его рассказ и тотчас сообщили ему свои религиозно-метафизические комментарии к этому явлению, объяснив проф. Елисееву, что его душа, очевидно, была здесь раньше в другом воплощении. Связь учения о метемпсихозе с парамнезическими переживаниями совершенно очевидна у Гердера, взгляды которого по данному вопросу опровергает Радищев в своем труде "О человеке, его смертности и бессмертии". Гердер пишет: "Das sind also Augenblicke der stissesten Schwarmerei und Sondernheit bei schonen milden Luftorten, bei angenehmen Augenblicken des Umgangs mit Personen die wir unvermuthet sind und sanft getauscht in uns oder uns in ihnen gleichsam aus einer friiheren Bekanntschaft fuhlen, Erinnerungen aus dem Paradiese... Die Palingenesie ist also richtig..." etc.* (см. мою работу "Философские воззрения Радищева", приложенную к Полному собранию сочинений Радищева, т. II, изд. Акинфьева). Идея "вечного круговорота", также древнего происхождения, в новейшее время высказана Бланки и Ницше и, я думаю, связана не только с философским образом мыслей обоих мыслителей, но и с миром их эмоциональных переживаний. Вынужденное одиночество у первого — тюрьмой, у второго — болезнью влекло за собою ту надломленность духа, при которой наблюдается описанное выше психастеническое sensation du deja vu, и не лишено вероятия, что оно сыграло известную роль в процессе образования их философских концепций.
Для того чтобы оценить надлежащим образом значение памяти в процессе научного изобретения, надо отрешиться от предрассудка считать память исключительно познавательным процессом. Недостаточно говорить об аффективной памяти как особом виде памяти. Нужно иметь в виду, что различные виды памяти у данного лица связаны генетически с различными его наклонностями, как унаследованными и инстинктивными, так и приобретенными и привычными. На глубокую связь памяти с инстинктами указал в замечательной статье Риньяно: "De l'origine et de la nature mnemonique des tendances affectives" (см. книгу "Essai de synthese scientifique", 1912, p. 85). Ho об этой стороне памяти, ее чуткости (sagacitas) мы будем говорить в связи с рассмотрением роли инстинктов в научном и философском творчестве (см. т. II, гл. III, IV и V).
|



