Эмманюэль Мунье
НАДЕЖДА ОТЧАЯВШИХСЯ
Москва «Искусство» 1995. 237 с.
Пер. с французского и примечания д-р филос. наук И.С.Вдовина.
Французский оригинал вышел в 1953 г.
Мальро - Камю - Бернанос - Экзистенциализм - От переводчика.
От издателя
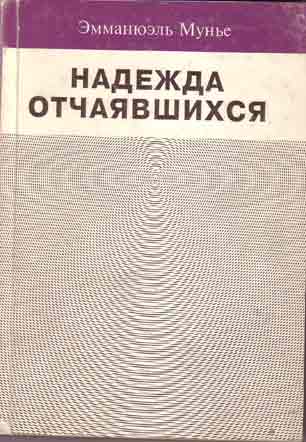 Передав своему издателю четыре очерка, которые составляют настоящую книгу, Мунье сам выбрал ее название. Очерки были написаны и опубликованы им в журнале «Эспри» в период с января 1948 года по январь 1950-го. Передав своему издателю четыре очерка, которые составляют настоящую книгу, Мунье сам выбрал ее название. Очерки были написаны и опубликованы им в журнале «Эспри» в период с января 1948 года по январь 1950-го.
Несмотря на то, что работа посвящена современникам Мунье, чье творчество продолжалось, когда Мунье уже ушел из жизни (если говорить о Бернаносе, то список его работ пополнялся посмертными публикациями), она не потеряла своего значения и сегодня. К чужому произведению Мунье относился не как литературный критик; он искал возможности для диалога, в котором мог бы участвовать на той и на другой стороне; его критические намерения были в высшей степени скромны — он хотел оставаться обыкновенным читателем.
Знаменательно, что в последние годы своей жизни, когда он достиг зрелости и тем не менее как никогда ранее мучился волнующими его вопросами, Мунье испытывает потребность в масштабных сопоставлениях. Какой большой путь пройден им начиная с 1931 года, отмеченного встречей с творчеством Пеги! Раньше он просто читал понравившееся ему произведение; теперь, избрав в качестве оппонентов своих современников Мальро, Сартра, Камю и уже умершего Бернаноса, он все что-то ищет и в то же время ищет себя; шаг за шагом исследуя опыт других людей, он стремится к самопознанию, которое нельзя обрести, усваивая лишь готовое знание. Это и есть свидетельство зрелости: выбор собеседников для продуктивного диалога продиктован не столько тем, что Мунье думал о них, сколько тем, что отделяло его от них. Подойдя к этой черте в своем личном развитии, чуждый какому бы то ни было доктринерству, но обладающий собственной позицией и собственными принципами, Мунье испытывает потребность вступить в спор со своими современниками (или почти современниками), с которыми, как он считает, по крайней мере по некоторым вопросам, он находится в непримиримом противоречии.
Здесь и выясняются глубинные причины того, почему очерки о Мальро, Сартре, Камю сохраняют свое значение, несмотря на то, что написаны они до того, как увидели свет «Голоса безмолвия», «Св. Жене», «Бунтующий человек». Дело в том, что критический метод Мунье — если это действительно метод, а не врожденная способность философа — был направлен на то, чтобы никакие взыскующие суждения не могли помешать ему видеть жизнь личности в ее постоянном движении. Прежде всего он стремится постичь ритм, устремления, порывы, свойствен-
==5
ные, по его убеждению, вечному страннику, каким является каждое человеческое существо, любая живая мысль. Несмотря на то, что Мунье шокировали политические взгляды Мальро, что он ощущал слабость и колебания Камю и говорил резкое «нет» позиции Сартра, он никогда не вел себя по отношению к ним как скандалист или заядлый спорщик. Безотчетно Мунье стремится найти у Мальро, Камю и Сартра то, что не позволяло бы видеть в них безнадежно отчаявшихся людей. Ему казалось, что в сердце каждого из них теплится надежда, и, опираясь на собственный опыт, он делал все возможное, чтобы укрепить ее. Для Мунье важно было увидеть другого человека, вглядеться в него, чтобы лишний раз восхититься в нем чем-то абсолютно личным, неотъемлемо присущим только ему, тем, что составляет тайну человека и сообщает ему его высшее назначение — жить на Земле. И если Эмманюэль Мунье вступает в спор с кем-нибудь, то лишь для того, чтобы в итоге прийти к доверительным отношениям со своими оппонентами; это великодушие философа является результатом неразрывной связи его критического ума с личным призванием; и здесь он в целом руководствуется двумя установками: никогда никого не лишать надежды и никогда никому не давать повод для безысходного отчаяния. Как же так получается, что очерки, написанные автором по велению сердца, могут следовать определенному замыслу? В каждом из этих очерков Мунье то уверенно, то сомневаясь ведет речь о надежде и видит, как она преодолевает границы, отведенные ей временем. Всякий раз Мунье держит пари и выигрывает его, и это подтверждается дальнейшей эволюцией автора, творчество которого он исследует (как, впрочем, подтверждает это и глубину предвидений Мунье). Содержание этого беспроигрышного пари, заключающегося от имени человеческой личности, постоянно обновляется, и оно не может не обновляться, поскольку речь идет о надежде, которая, по Мунье, имеет сверхъестественный характер. «Надежда отчаявшихся»: Мунье начинает свою работу не с того, что перед лицом современного мира и современной философии с ее атеистическими тенденциями, а также перед лицом всякого рода искателей приключений выдвигает собственные требования; он с самого начала открыто говорит в пользу надежды, которой живет современный человек, не надеясь на спасение, и даже вопреки вере в спасение. Он не будет, как это пытаются делать другие, осенять крестом надежду. Он, сам живущий надеждой, глубоко уверен в том, что ему есть чему поучиться у мыслителей, идущих иными, чем он, путями. Он испытывает радость, когда вселяет надежду в тех, кто решительно отвергает проторенные пути и обретает надежду вопреки собственному отчаянию.
О Мальро
АЛЬБЕР КАМЮ, ИЛИ ВОЗЗВАНИЕ К СМИРЕННЫМ
Смутные годы оккупации внесли много путаницы в литературные дела. «Посторонний» пришел к нам под сенью «Бытия и ничто», в результате чего Камю в общественном мнении долгое время воспринимался как писатель идей, как беспристрастный иллюстратор мира абсурда, который философы неоднократно пытались описать в своих многочисленных работах. Публика обожает писателей идей. Ей не так-то легко постичь момент зарождения мира (когда все столь неочевидно и лишено логики), описание которого дается в лирическом произведении или романе. Но предложите читателю доступные его разумению идеи, и он, ухватившись за них, — счастлив, что ему удалось приручить столь диковинное животное. В случае с Камю читатель довольно легко расстается с подобной иллюзией, поскольку после Жида мы не знали (если не считать вспыхнувшего яркой звездой «Брачного пира» и широких лирических полотен «Осадного положения») такой сознательный упрощенности, достигаемой постоянными усилиями, направленными на то, чтобы притушить всякий искусственный блеск и придать стилю предельную обнаженность, соответствующую описываемому предмету. Затем Камю предстанет перед широкой публикой как автор «Мифа о Сизифе». Для самого Камю «Миф о Сизифе» — это его «рассуждение о методе». От методического сомнения до своего рода cogito и моральных пролегомен — во всем этом чувствуются реминисценции классического мышления. Постоянно, хотя и подспудно, между строк, Камю связывает каждую последующую свою книгу с предшествующей и тем самым внушает нам мысль об особой, упорядоченной жизни его романов и театральных произведений. Происшествие, о котором речь идет в «Недора-
==73
зумении», вновь возникает в «Постороннем» в виде вырезок из газет, попавших на глаза Мерсо. В свою очередь, история, о которой повествуется в «Постороннем», включена в беседу, протекающую в «Чуме», и производит сильное впечатление на Котара. Мерсо, Марта, Котар, благодаря таким «перекличкам», выходят за рамки отдельных романов, вовлекаясь в трилогию абсурдного преступления, замкнутого в самом себе, как бред, и непонятного тем, кто в нем не участвует. Тем самым автор хочет убедить нас в том, в чем упорно пытается убедить и самого себя, измышляя не только персонажей, но и отношения между ними.
В то же время Камю вовсе не намерен быть просто иллюстратором идей. Он — художник и моралист, а с «идеями» не имеет дела ни тот, ни другой. Да и в самом деле, первые произведения Камю — это не романтизированная версия абсурда, а запечатленный средствами искусства моральный опыт. Но можно ли на этом основании утверждать, что в нем отсутствует идея? «Идеи — это оборотная сторона мышления», — говорится в «Мифе», а великие романисты непременно еще и философы, что отличает их от тенденциозных писателей. И в первых романах Камю, которые написаны под самым непосредственным влиянием «Мифа», отвлеченная идея, даже если она и служит в качестве первоначального толчка, затем постепенно растворяется в художественном описании. Другое дело, когда в Камю берет вверх моралист, пытающийся выразить те или иные ценности, — тогда его мысли отливаются в бесцветные, обобщающие символы и конструкции. Так было в «Осадном положении», которое своей неудачей во многом обязано подобному сдвигу. Мы вправе спросить себя: если мышление такого типа ближе к разгадыванию тайн человека, чем научное объяснение, то, может быть, ему удастся более полно раскрыть истину, имея дело с пейзажем, а не с теоретической формулировкой? От этого она не становится менее ощутимой,. и если мы не всякий раз
==74
можем ее выразить, то уж отыскать и высветить ее мы всегда в состоянии. И это имеет особый смысл, так как она своим присутствием создает благоприятную почву для необдуманных требований, ошибочных выводов, противоречивых ходов. Если Камю, оттачивая свою фразу, обращает ее острием к читателю, то делает он это, вероятно, с той же целью — чтобы избежать подобных ловушек.
Паскаль. Прежде всего Камю надо всячески остерегаться, чтобы Паскаль не подавил его. Камю, так же как Паскаль, стремится овладеть идеей, одолеть ее, чтобы затем направить в цель, заставив лететь со свистом, как брошенный с силой камень. И начинает он с того же: «Обуздать абстрактные силы». Эта тема отнюдь не нова. и она еще долго будет в ходу. Романтизм, Ницше, всевозможные философии существования — все они пробудили в интеллигенции слепую ярость, с которой она обрушилась на фетишизм Просвещения. Новым у Камю станет остраненность — опыт, получивший название трагического. Этот опыт пришел к нам из Германии и России, где он прозвучал во всю свою мощь, как преисполненный высокой патетики хорал. Хайдеггер и Ясперс идут вперед, влекомые едва мерцающим светом, зажженным еще Боэцием и Экхартом; Ницше заимствует у Лютера презрение и ярость, с какими тот обрушивался на разум. Шестов берет эстафету у Достоевского и восточных Иконоборцев. Камю, ступая на эту вздыбившуюся славянско-немецкую почву, переходит из мира света в мир тьмы. При этом он подвергает дух ночи неожиданному испытанию — светом разума. Такое мог сделать разве что Вольтер, если бы он знал Ницше и Ясперса, а одновременно и Декарта. Классик до мозга костей, почти пуританин, если речь заходит о разоблачении, классик, умеющий быть своевольным и в то же время подчиняться порядку, Камю несет в себе разорванность и ночь. Он, если хотите, Баррес, но только более скрытный и трагический, как никто другой. Он отвергает гармонию, которая ослабляет драматизм, но отвергает и ночь, «ту ночь,
==75
что нисходит на нас, если закрыть глаза, что подвластна одному человеку, ночь темную и беспросветную, которую порождает разум, чтобы тот затерялся в ней»2. Надеясь найти утешение в ясности, человек обожествляет разум; пытаясь осмыслить неразумие мира, он, обессиленный, устремляется к божеству. И в том и в другом случае он доходит до исступления — и в этом исступлении обретает спасение. Таким в начале 40-х годов предстает перед нами исполненный патетики позитивизм Камю. Короче говоря, он упрекает нас в том, что, занятые поиском «глубинного смысла вещей», мы разучились видеть сами вещи. «Мир не рационален и не иррационален. Он просто неразумен, и этим все сказано»3.
Такова на первом этапе — в ту пору совершенно непривычная — атмосфера творчества Камю: рационализм иррационального, мрачная философия просветительства. К этому миру, стенающему в заброшенности и отчаянии, к миру избыточно красноречивому, каким его обнаруживает современный опыт, Камю подходит как знающий свое дело режиссер-постановщик, решившийся на крохотной театральной площадке удержать в согласии посланцев ада и рая — чертей и ангелов. Бетховен испытывает влияние Куперена, и великий симфонист пишет менуэты. Речь, однако, идет не о том, чтобы лишить этот мир, утративший всякий смысл, трагического начала, как это сделал Анатоль Франс, представив целое поколение людей одержимых одной-единственной целью — скрыть свое чувство отчаяния под маской иронии. Сознательный скептицизм, характерный для всей нашей моралистической традиции, был скептицизмом требовательным. И Камю, воодушевленный экзистенциальным пафосом, уходит от легких решений. На закате ясного дня разума, среди порожденных ночью фигур, он видит не сову Минервы, а хмельного бога, который путает чувства и мысли. Он сознательно погружается в ночь, но ночь эта ничем не напоминает водную
==76
стихию, готовую поглотить его; ночь, силой его воображения, заполняет собой все космическое пространство, в котором ему предстоит путешествовать. В конце пути, в этой прозрачной ночи, похожей на сверкающий полдень, мы внезапно ощущаем прилив обжигающей нас страсти. Но в начале руководить нами будет дух размеренности и точности, равно как и дух борьбы с собственными заблуждениями.
Дух этот, как бы ни был он непритязателен, блюсти трудно. Рассудок рядом с ним кажется взбалмошной страстью. «Я хочу, чтобы мне было растолковано все или ничего»4. Увы, ничего: «Если бы хоть однажды мы могли сказать: это понятно, — сразу все было бы спасено». Но мы никогда не сможем произнести этих слов — и все опорочено. Отныне мы живем в мире возможного. Познать Вселенную, не имеющую для нас смысла, невозможно — будь мы ангелами или богами. Для человека, который не в состоянии подняться выше себя, познать мир — значит свести его (или возвысить) до своего уровня. Так ли уж велико это притязание? Вовсе нет, поскольку перед нами «ничто» и мы ничего не требуем от него. Если бы мы смогли отыскать в мире то, что взволновало бы нас, мы бы успокоились5. Мы обрели бы единство6. Но, взывая к миру, мы не получаем отклика. Надо, чтобы все в нем было от нас. Бог не обладает более определенностью, как не обладает ею и «абстрактный политеизм» гусселеровских сущностей. Стоит ли в таком случае рвать на себе одежды? Уступая иррациональному порьюу всеотрицания, когда разум мутнеет и сам себя отвергает, попытаемся ничего не преувеличивать и сохраним стойкость. Иррациональное всегда клерикально. Оно преувеличивает, чтобы ошеломить. Разум не вызывает сомнений, он не искажает, не приспосабливается, не мистифицирует: он просто-напросто ограничен и бесполезен7. Камю ни разу не повысит тона, не сошлется на злого гения, как это делал Декарт, не будет сыпать проклятьями в адрес богов, как это делали греки. О
==77
самых драматических истинах он говорит просто и строго, как если бы речь шла об аксиомах: за пределами разума нет ничего, но для разума нет ничего достоверного; я не знаю, имеет ли мир смысл, который был бы выше меня, но я знаю, что смысл этот мне недоступен, что мне не дано «пока что» познать его; единственное, что сегодня соединяет меня с миром, — это абсурд8. Камю следит за тем, чтобы все слова звучали ровно, чтобы они, не дай бог, не разбудили погрузившиеся в сон иллюзии и не вызвали к жизни неистребимые надежды. Строгое понятие абсурда как будто бы взято из юридической науки или из области архитектуры. Абсурд — это разрыв между духом, который испытывает желание, и миром, который не оправдывает возлагавшихся на него надежд; дух и мир сталкиваются друг с другом — и не могут соединиться9. Все это напоминает незадачливого лекаря, рекомендующего чрезмерно возбужденному пациенту сначала одно лекарство, которое угнетающе действует на его нервную систему, а затем другое — чтобы привести его в нормальное состояние. Абсурдность мира, как ее изображает Камю, не имеет ничего общего с навязчивой идеей экзистенциализма, которая неотступно следует за человеком, держа его в подавленном состоянии; она предстает старой как мир мудростью, с которой все мы сжились и которую, как 'только захотим мыслить трезво, заменит собой осмотрительный разум. Ограничение абстрактных возможностей — это не только ограничение разума и света, но и ограничение притязаний ночи. У Камю абстрактное не означает ни меры, ни познанного, оно, напротив, означает выход за пределы каких бы то ни было ограничений, за пределы всякой меры. Аналогии с греками здесь явно недостаточно, по крайней мере, если стоять на позициях старого гуманизма. И все-таки желание Камю не отказываться ни от волнующего разнообразия вещей в пользу какой-либо разумной системы, ни от законов, управляющих внутренней жизнью, соответствует устремлению греческой
==78
души, которая никогда не испытывала желания ни жертвовать порядком, ни воздерживаться от принуждения.
Остается только спросить себя, является ли изначальной эта трезвость отчаяния. Вслушайтесь в слова песни, приведенной в «Мифе», и песни, звучащей в «Яствах земных», которые, как представляется, на равных основаниях помещены в начале названных произведений. В «Яствах земных» раскрепощенное желание переполняет молитву и пьянит своей избыточностью. «Миф» рядит и судит, устанавливает границы, выносит решения, контролирует. В нем даже опьянение становится объектом суждения и руководством к действию. «Миф» — это книга о воле. Кант опекает Меналка. Мы отчетливо, до рези в глазах, видим, как в «Мифе» мысль сжимается до предела, как внимательно следит она за каждым своим движением, так что порой кажется, что она перестает быть естественной. Десятки раз1° она призывает себя к сдержанности, к отстаиванию добытых ею истин, к логике и связности. Подобное настойчивое внимание поражает нас в Калигуле: не пытается ли он претворить в действительность ту абсурдную диалектику, которую «Миф» стремится внедрить в мышление"? У Ницше абсурдное сознание действует как всесильный инстинкт, у экзистенциалистов оно обступает человека со всех сторон как неустранимая, онтологически укорененная необходимость. Для Камю оно — скорее моральное требование, чем жизненная очевидность или разумная достоверность, но требование это ненастойчивое и существует лишь благодаря волевому усилию, которое то возникает, то исчезает. В начале «Мифа» Камю говорит о хрупкой зоне наших надежд, которая, пока дух безмолвствует, окружает нас как некая стеклянная пленка, сквозь которую мы видим мир упорядоченным; но при первом же движении духа стекло разбивается, оставляя после себя искрящиеся осксяки. Так, вероятно, видится ему абсурдное сознание: прозрачная магма, сквозь которую звездам открывается отражение лишь нашего хаоса;
==79
каждое движение нашего тела или души гонит его прочь, как если бы какая-то более глубокая сила, нежели упорядоченный разум, его бесконечно отрицала. У Камю, который не любит всякого рода подчеркиваний в тексте, мы, тем не менее, встречаем курсивы, особенно там, где он хотел бы показать, что абсурд не зависит от воли человека'2. Ему часто случалось обманываться в делах фактических, так как же после этого он может быть уверен в том, что с такой силой утверждает? И так ли уж ясно и безмятежно его отношение к воле, на которую он ссылается? Раньше он придавал воле минимальное значение: воля нужна была ему только для того, чтобы поддерживать сознание13. Но вскоре он стал превозносить ее: воля — это основа творчества, исгинное достояние человека. Каждодневное напряжение, самообладание, терпение, упорство — таким вот вырисовывается при первом чтении словарный запас Камю-аскета, лежащий в основании «Мифа». Нельзя освободиться от впечатления, что он подспудно противоречит намерению Камю, заявляющему, что именно в абсурде он хотел бы найти непосредственное проявление опыта.
Это не просто незначительное затруднение, с каким столкнулся Камю при создании своей этики, — это ее самое непреодолимое, неискоренимое противоречие. Итак, абсурд является нашим уделом, свидетельствуя о неизбежном расхождении между жаждущим единства сознанием и лишенным сознательного начала миром, который не оправдывает наших надежд. Если это так, то зачем огорчаться по поводу того, что этот удел стал фактом нашего сознания? Зачем разум, похоронивший столько систем и религий, продолжает из поколения в поколение с неистовой энергией, которая свойственна одной лишь молодости, тешить себя надеждой? Зачем эта тяга к единству и согласию, которая оказывается сильнее всяческих кризисов и которую не унять никакими силами, пока она не добьется удовлетворения? В «Чуме» ответ на этот вопрос звучит так: «Микроб — это дело природы.
К оглавлению
==80
Все-же другое: здоровье, неподкупность, чистота помыслов, если хотите, — это результат воли, которая в своем движении не знает остановок. Честный человек — это тот, кто никого не заражает, кто не позволяет себе ни на миг расслабиться. А для этого требуется столько воли и напряжения!»14 В другом месте Камю определяет абсурд как «грех в отсутствии Бога»15. Стоило ли так иронизировать по поводу всевозможных религий и иррациональных сил, чтобы ввести (и какой ценой!) в мир, лишенный какого бы то ни было значения, это смутное понятие о природе, противостоящей природе, о бытии, для которого его собственное бытие является неизлечимой болезнью? Мы уже говорили в очерке о Мальро, что современный атеизм, пройдя период триумфа, сегодня находится на стадии лютеранства. В тот самый момент, когда подлинное христианство стремится уничтожить последние пережитки янсенизма и найти в собственной традиции обоснование смысла жизни и целостности истории, слово «грех» чаще всего слетает с уст тех, кто не знает, против кого бы согрешить. Само бытие — это космический грех, которого никому не удалось и не удастся совершить. Такая природа, будучи враждебной нам подделкой под природу, эта мать-мачеха, заменившая собой Матерь-благодетельницу Карлейля и Руссо, как и она, ощущает свою богопричастность, когда нам кажется, что мы приблизились к ней с помощью разума. Берегитесь иррационального — оно вновь набирает силу!
Что касается жизни, мы готовы говорить здесь о поражении абсурдистского позитивизма и о возращении его основных антиподов, имеющих с ним одну и ту же цель, то есть абстрактных сил, охваченных бредом неискоренимого отчаяния.
Воля начинается с желания господствовать — как над жизнью, так и над разумом. Камю отходит здесь от раннего Мальро и его героев, для которых признание
==81
абсурда было очевидной сдачей позиций перед пьянящей и неистовствующей жизнью; отойдя от Мальро, он оказывается ближе к Жиду и Сартру. Для них (подробно останавливаться на этом сейчас было бы некстати) признать безрассудство мира означало прежде всего устранить некоторые ограничения (что не помешает им позже признать другие ограничения), расширить человеческую свободу, которой надлежит действовать в условиях, когда заблокированы все возможности и когда господствует имморализм. Полное подчинение бесформенной Вселенной. Для Камю отныне на пороге мира, который говорит «нет», стоит мир абсурда: человек абсурда — это человек, говорящий сначала «нет», и только потом — «да», когда шаг за шагом он постигает то, с чем соглашается!6.
Абсурдный человек — 'человек не свободный, находящийся в осаде. Он не в состоянии прорвать эту осаду. У него нет будущего. Оран, замурованный в крепостных стенах, лицом к лицу со смертельной опасностью, отбивающий нападки своих сограждан, безнадежно отрезанных от мира и друг друга, пишущих письма, на которые никто никогда не получит ответа, «ведущих беседы со стенами», — таков удел человеческий. Оран — это не только город и его жители; это и молчаливые старики у гроба матери Мерсо, похожие на бессловесных и безликих судей; это и ритуал правосудия, и свидетели, которые вопреки своим намерениям буквально предадут его; это и безумие Калигулы, которое овладевает им до такой степени, что он гибнет; таков удел пленника — жить вне общества и без будущего17. И каковы бы ни были обстоятельства, какие усилия мы бы ни прилагали, чтобы вырваться из них, все равно «выхода нет». Неизбежная судьба перемалывает нас своими безотказно действующими жерновами!8. Как у Кафки, судьба — это бесконечно длящаяся судебная тяжба, которую затеял против нас мир: люди больны чумой, больны потому, что они все — люди, и за это они не несут личной ответствен-
==82
ности; все они — осужденные, которых ждет либо смертный приговор, либо оправдание!?.
Осужденный, посторонний («Я чужд самому себе и этому миру»20) — все, как у Кафки в его «Замке» или «Процессе», только теперь мир еще более враждебен и неумолим. У Кафки человек тоже находится в заточении, но его плен — это плен бесконечности. Судебный трибунал в «Процессе», хозяин в «Замке», Китайская стена — все подавляет своим могуществом, но стоит сдаться на милость победителям, как тут же возникают надежда, свобода, вера, наконец, как бы непрочны они ни были. У Камю каждый из нас окружен стеной. Путешественник из «Недоразумения» не осознает той силы, которая движет им и приводит к трагической развязке. Речь идет не о какой-то далекой метафизической силе: власть эта исходит от самых близких существ, от тех, чье кровное родство, общие воспоминания и инстинкты должны были бы остановить преступный замысел. Более того, когда эти тайные силы за миг до свершения преступления вынуждают мать и сестру Путешественника заколебаться, зовут удержаться от злодеяния, то от самой судьбы, как если бы она родилась в их сердцах, исходят слова, которые звучат как смертный приговор: «Как раз сейчас и восторжествовал порядок. — Какой порядок? — Тот, в котором никогда ни до кого нет дела»21. Точно так же Мерсо во время судебного разбирательства слышит голоса судей, свидетелей, присяжных заседателей как бы во сне: все говорят о нем такие странные вещи, что ему кажется, будто судят кого-то другого22. В этом мире одиночества каждый чувствует, как расточается его существование. Мерсо был как в тумане: он находил справедливыми и доводы прокурора, и доводы адвоката, но все это не имело для него никакого значения; ему больше досаждала жара, на него накатывалась скука, и в конечном итоге он засомневался в причинах, которые привели его к преступлению, и в чувствах, которые он испытывал, совершая его. Совсем не так, как у Ницше. Все эти
==83
персонажи, как кажется, оглушены и сражены необходимостью, идущей от мира, а вовсе не наслаждаются свободой, полученной благодаря ниспровержению морали, религии и представлений о мироздании. Смерть Бога возвестила не весну человечества, а наступление эры мрачного, трагического одиночества. Не только разуму, но и самой жизни не нашлось места в романтических откровениях.
Охваченная этими горькими ощущениями плоть взывает о помощи. Уже Мальро говорил об этом с нескрываемым ужасом: «Этого никто, слышишь, никто не может вынести. Можно жить с мыслью об абсурде, но жить в абсурде — нельзя»23. Между тем, признание абсурда — это не просто гипотеза, и не истина наряду с другими истинами. Оно — первейшая из всех моих истин24, основа моей рефлексии, cogito разбитого мира и моя единственная связь с этим миром, единственный принцип моей деятельности, единственный луч, освещающий мою судьбу. Для меня нет другого пути, кроме этого узкого, как бутылочное горлышко, прохода, и любая истина, которая придет ко мне, придет по нему, и напрасно желание разойтись с ней — ведь я сам застрял в этом проходе.
Однако — и здесь мы снова возвращаемся к парадоксу, который свойствен и жизни сознания, — я думаю только о том, как бы свернуть с прямого пути. Слово «уклоняться» у Камю имеет значение, противоположное паскалевскому «развлечению»25. Откалываться от мира, уклоняться от него, иллюзорно полагаясь на существование мира иного, — вот наш путь и наша жизнь. С точки зрения этической, природа и наши действия суть одно и то же. «Миф» и написан для того, чтобы мы не шли в обход. Неимоверно сложная задача: нами владеет дух ностальгии26, постоянно направляющий нас на трудный путь, ведущий к краю, к смерти. Он внушает нам ложные мысли, пытаясь научно обосновать наше бессилие перед лицом неизбежного конца. Абсурдный человек не стано-
==84
вится от этого благоразумным: воспринимая свои слабости как слабости, он тем не менее предпочитает мужество и разум иллюзиям, к которым прибегают те, кто надеется порвать сковывающие их путы.
Можно предположить, что наиболее логичным выходом из всеобщего состояния абсурдности было бы самоубийство. Все перипетии «Мифа» направлены на то, чтобы — и это хорошо известно — показать несостоятельность подобной логики. Согласно ей, — и в этом ошибка данной логики, — если мы не признаем смысл жизни, значит считаем, что жизнь не стоит того, чтобы ее прожить, что интерес к жизни и ценность жизни — это одно и то же. Опыт же абсурда свидетельствует прямо о противоположном27. Но чтобы понять это, надо дойти до самых его глубин.
Мы уже говорили о том, что здесь возникает аналогия с cogito. Декарт до последней ниточки распутывает клубок сомнений: не остается ни одной истины, какую бы он мог объявить более достоверной, чем все другие, и это еще один повод, чтобы усомниться в правомочности предписаний свыше. Но благодаря всепоглощающему сомнению, понятому в качестве акта мышления, рождается сам акт мышления, основанный на сомнении и это же сомнение отвергающий. Если я сомневаюсь, значит, я мыслю; если же я мыслю, значит, я существую, — все это полагается в едином акте сознания; попятное движение от «ничто» к бытию осуществляется таким образом, что мыслящее бытие удерживает «ничто», и оно совершает это не благодаря озарению, а через обновление мышления, через кардинальное изменение взгляда на обступающие его со всех сторон противоречия. В такие решающие моменты мышление бывает агрессивным, готовое ринуться в бой с оружием в руках. Мышление и не может вести себя иначе, когда сталкивается с абсурдом. У Камю есть понятие абсурдного cogito, но внутренний смысл его несколько смещен: сомнение, вместо того, чтобы признать существование «внутреннего света» (по-
==85
нятие, которое Декарт наследует от христианской философии), не поднимается до высот метафизики; оно угнетает человека, отвергающего не свое достоинство, а достоинство мира. Желание все перевернуть вверх дном и решимость одерживают победу над озарением. Не уклоняться не значит соглашаться. «Самоубийство — это примирение с тем, что ты конечен»28. Человек, лишенный надежды и смысла жизни, рассуждая о своем единственно возможном, полном ужаса будущем, окунается в него и начинает свой путь к концу, что лишает историю разумности. Камю не принимает абсурда. Не надо спрашивать, почему он так делает: все сколько-нибудь значительные его поступки, как и сама деятельность, ничем не застрахованы; и это придает силу его мышлению. Но если отойти немного в сторону, сразу становится очевидным, что бунт этот — скачок от абсурда к надежде, совершаемый вслепую. Но ведь именно в этом Камю упрекает экзистенциалистов. Когда речь идет об абсурде, то никакие ссылки на противоречивость мира не в состоянии заставить нас отказаться от него. И то, что делает Камю, не так уж и плохо. Когда он определяет бунт как решимость, которая одна только в состоянии помочь человеку сохранить свое достоинство перед лицом бесчеловечного мира, он убеждает; но когда он философствует на тему абсурда, его суждения уже не кажутся столь убедительными29. В следующем утверждении нет ничего кроме словесной игры: абсурд не в человеке, и не мире, он—в том, что человек и мир разрывают соединяющие их узы, что человек и мир противостоят друг другу; стало быть, абсурд — это противостояние, он имеет смысл только тогда, когда вызывает чувство неудовлетворенности30. Точно так же и противостояние, несовместимость, раздор — это еще не борьба. Да и сама борьба, фактическая борьба, не несет в себе своего оправдания, своей необходимости. В выборе Камю в пользу бунта прочитывается то же самое непреодолимое желание, какое содержится в духовном самоутверждении бытия,
==86
свидетельствующем против картезианского сомнения, то же расхождение между актом действия и условиями его осуществления, между человеческим уделом и противостоящим ему человеком. Но вместе с тем между ними лежит глубокая пропасть. Произвольная решимость у Декарта возникает в условиях интеллигибельной ясности, что дает человеку силы и поддерживает его во всей последующей сознательной жизни. У Камю решимость, вследствие собственной диалектики, бесплодна3! и не несет в себе надежды. Он лишает человека всяких моральных обязательств и ценностей, не обеспечивая ему непрерывного существования. В условиях всеобщего произвола его надо поддерживать силой, продлевать ситуацию абсурда вопреки нашим, казалось бы, естественным желаниям, обуздывать жизненный порыв так же, как он прежде обуздывал порыв духовный, бороться даже против самих слов, которые так или иначе напоминают о надежде: жизнь, если она питает надежду, это «неисправимо порочная жизнь»32, дважды порочная жизнь, коль скоро ей нечего противопоставить надежде и она заявляет о своей неспособности уничтожить грызущее ее сомнение.
Деятельности, которая не ищет для себя света, идущего от ею же искомых ценностей, остается только одно: посвятить себя, подобно кокетливой женщине, заботе о своей внешности. Стиль деятельности — будь он аскетическим или полным амбиций — берет верх над ее целью. Когда пылкая душа оказывается один на один с собственным одиночеством, Камю, как и Мальро, обращается к мифу о завоевателе. Только его завоеватель не бьется в отчаянии головой о стены, в которых замурован, стремясь разрушить их, как это делает завоеватель Мальро. Ограниченный личный опыт и бессмысленность любого завоевания побуждают его скорее к самопреодолению, чем к преодолению внешних условий33, — совсем в духе стоицизма (своей непреклонностью, сквозь которую порой просвечивает нежность, уроженец Алжира Камю
==87
чем-то напоминает испанца Сенеку). Это, вероятно, происходит потому, что Камю изучает опыт абсурдного существования, не имея четкого, однозначного представления о самом абсурде, и его рефлексия оказывается многоплановой, а мышление — лишенным строгой последовательности. Абсурд — это одновременно и проклятие человека, которое он должен постоянно преодолевать, и фундаментальное условие его существования, которое ему надлежит неустанно поддерживать, чтобы быть всякий раз в форме, и активный протест перед лицом самого абсурда. Опираясь на эти три значения слова «абсурд», человек может осудить самоубийство — эти свидетельство примирения с проклятой судьбой, но в то же время самоубийство, как и бунт, может стать попранием враждебных человеку богов.
Вместо того, чтобы покончить с собой, дабы избежать абсурда, я могу попытаться покончить с абсурдным миром, довлеющим над человечеством. Замысел грандиозен, и он может родиться в уме только сильных личностей. Таков, по существу, замысел Калигулы. Калигула, вопреки распространенному мнению, чужд жестокости. Если бы его замысел касался людей, ему, вероятно, стоило бы задуматься над тем, сколько страданий он может им принести, и если бы он вдруг попытался воплотить его в жизнь, то делал бы он это с мастерством художника. Но замысел его касается мира и только мира, который собственным небытием наносит оскорбление своим жертвам. Он всегда существует отдельно от своих жертв. Но этот абсурдный мир готов со злобствующей иронией подавить его своей абсурдностью. Как только Калигула составит по своему усмотрению список жертв, он будет казнить их или миловать, также полагаясь только на себя, не подчиняясь никакому правилу, не руководствуясь никаким чувством. Им движет идея о возрастании абсурда, он — заодно с абсурдом и руководствуется логикой абсурда, устремляясь к бездне в надежде тем самым освободиться от него. Но, и охваченному
==88
безумием, ему никак не разрушить своего образа, который по-прежнему строит гримасы, отражаясь на полированной поверхности зеркала с таким упорством и неопровержимой назойливостью, как если бы это была сама реальность. И когда он ударом кулака разбивает зеркало, неизжитая тупость его жертв его же и уничтожает: абсурдный мир одерживает победу.
Убийство, как и самоубийство, не является выходом из создавшегося положения. Преступление не в состоянии разорвать этот порочный круг. «Преступление — это то же одиночество, даже если его бесконечно множить»34. Вероятно, было бы преждевременным заострять внимание на этой теме, которая несколько позже займет центральное место в творчестве Камю, изменив его смысл и сделав очевидным направление исканий автора. Вскоре после того, как на «Свадебном пиру» Камю поднял тост за опьянение жизнью, центром его внимания стала проблема смерти — не смерть как таковая, а смерть как данное конкретное явление. Смерть изображается им теперь не как фатальность, которой не избежать, и не как состояние покоя, принимаемое без всяких огорчений, а как акт, приводящий в возмущение, как акт, толкающий на преступление, который надо предупредить, разоблачить. Преступление в «Постороннем» и в «Калигуле», самоубийство в «Мифе» — это тупик, к которому ведут схожие пути. Из ощущения суетности мира индусы сделали заключение о том, что необходимо устранить этот мир и самим уйти из него. Камю, чье сердце билось в унисон с жизнеутверждающим Средиземноморьем, не мог из факта существования небытия выводить идею о необходимости отвержения мира. Что касается абсурда, то он принимал его не потому, что он абсурд, а потому, что принадлежит самой жизни.
Точно так же, как он отказывал в смерти абсурдному субъекту и отвергал иллюзию об устранении абсурдного мира, он не признавал за разумом надежды на обуздание мира с помощью абсурдного логоса. Объясняя абсурд,
==89
разум пытается свести его на нет. Но объяснение — это бессмысленное стремление к единству; абсурд свидетельствует о том, что единство в принципе невозможно. Доктрины, которые берутся объяснить то, что не имеет объяснения, лишают меня силы. Они лишают меня сил, источником которых является горестное осознание моей противоречивости. Речь идет о тех противоречиях, на которые я должен смотреть трезвыми глазами. Я, как и патриции перед Калигулой, «испытываю страх перед бесчеловечным лиризмом, рядом с которым моя жизнь — ничто». Я боюсь жить во Вселенной, где самая причудливая мысль может в мгновенье ока обрести плоть, войти в нее, как нож входит в сердце»35. Я хочу покоя, хочу унять мою тоску, абсурд же не только не успокаивает, а, напротив, разжигает во мне тревогу и лишает надежды.
Еще более коварной является иллюзия абсолюта. У христианина неутолимая тяга к абсолюту непосредственно связана со стремлением к совершенству: иллюзия есть не что иное, как результат действия абстракции. Иллюзия усиливает наше одиночество, отъединяя от людей, лишая нас «чувства общности», которое, если вслушаться в то, что говорит Камю, предстанет синонимом русского «сострадания» и христианского «милосердия». Революция имеет целью абсолютную справедливость, религия стремится к абсолютной истине, индивид — к вечной любви или воздаянию; все эти устремления отделяют нас от обездоленных и отчаявшихся наших собратьев, поскольку наша жизнь ограничена и относительна, а чувство братства — это нечто весьма неопределенное36.
Абстракция противоположна счастью. Одерживая победу, она сеет повсюду бедствия, которые истощают сострадание, превращая его в пустой звук, а любовь лишают личностного начала: чтобы заставить абстракцию свернуть на другой путь, надо некоторое время идти за ней следом37. Но не стоит ждать, пока она остановится, первое, что необходимо предпринять, так это бежать от
К оглавлению
==90
нее любой ценой. Вот почему Камю, как бы он, в конечном итоге, ни превозносил величие, относится с подозрением как к героизму, так и святости; кстати, он не отличает их друг от друга. Вообще служить абстракции менее хлопотно: легче бездумно отдать свою жизнь за нее или пойти на убийство, чем служить человеку, особенно побежденному, которому одинаково чужды и искренность и ложная амбициозность. Порядочность дается много труднее, чем героизм, но только она одна, своей скромностью и долготерпением, способна бороться с духом полезности. У Камю героизм уступает место и счастью: под счастьем он подразумевает не удовлетворенность и безмятежность, а «великодушие»38 личности, включающее в себя жизнелюбие, сердечную простоту и любовь к людям.
Когда абсолют со всеми содержащимися в нем ценностями терпит поражение, его влияние тем не менее продолжается, о чем свидетельствует вера в невозможное: это, как представляется, и есть единственная ценность, существующая в мире, лишенном смысла39. Такова мучительная страсть Калигулы; «Этот мир, такой, как он есть, невыносим. Мне нужна луна, или счастье, или бессмертие, что-нибудь, пусть безумное, но что не от мира сего»40. Обладание властью имеет в себе такую же цель: она дает шанс достичь невозможного. Но, разворотив все, что стояло на пути его страсти, Калигула так и не получает желанной луны. Это — тот же прорыв сквозь ограничения, к чему стремятся ищущие приключений герои Мальро, то же страстное желание Жоржа Батайя обосновать мистику, не взывая к помощи Бога. В конечном итоге, все терпят поражение, разве что человек отказывается от невозможного, чтобы преобразовать его в возможное (таков тайный смысл и «Надежды», и «Удела человеческого»). Невозможное невозможно.
В мире, герметически замкнутом и бесплодном, нет места мысли о спасении. Мысль эта может быть только
==91
претенциозной и досадной иллюзией, плетущейся в хвосте других иллюзий. Мысль о конечности убивает жизнь. В тот момент, когда я наделяю жизнь целью, я, сообразуясь с ней, прерываю ход жизни и начинаю жить неподлинно, становлюсь напыщенным и оттого нелепым, как самый что ни на есть добропорядочный функционер; вместе со странницей-свободой я убиваю «все великолепие и безвозмездность, свойственные человеческой жизни»4!. Уже в «Брачном пире» утверждалось, что безвозмездность ничего не отторгает от жизни человека, а, напротив, добавляет к ней нечто42. «Миф» идет в этом отношении до конца: «Единственная мысль, которая не была бы ложной, это бесплодная мысль. В абсурдном мире ценность жизни измеряется ее бесплодностью»43. Позже, все более подпадая под влияние Жида, Камю придет к мысли о служении людям. Однако для него быть рядом с людьми, делить с ними тяготы нищенского существования вовсе .не означает содействовать их спасению. Спасение — это абстракция, прямо противоположная соучастию. Так, вслед за героем и другим персонажем — священником Камю обращает свой взор к более скромному идеалу
— к целителю. Не случайно в «Чуме» именно доктора Рие он выбрал в качестве бесстрастного регистратора событий. В конечном итоге, именно его взгляд на бедствие оказывается самым разумным. «Для меня слова о спасении человека, — отвечает он священнику, — звучат слишком громко. Я не заглядываю так далеко. Меня интересует здоровье человека, прежде всего здоровье». Но подобная скромность имеет смысл лишь до поры до времени: настает день, когда человек терпит поражение. Однако чувство солидарности Камю «с людьми не ослабевает — с теми людьми, которые, будучи не в состоянии обрести святость и принять обрушившееся на них бедствие, пытаются стать целителями»44.
==92
Все иллюзии имеют одно общее имя: надежда. «Абсурд
противоположен надежде»45.
Вера в загробную жизнь — это самый распространенный и самый вредоносный символ надежды46. Но этим не исчерпывается значение термина «надежда». У атеиста есть несколько слов для ее обозначения — гуманизм например, которому чужда мысль о несчастье47. Надежду надо не просто изгнать, но и лишить ее всяческой привлекательности. Символ этот говорит не о восторженном согласии с жизнью, а о греховном преступлении против жизни48: он убивает жизнь, превращая ее в небытие, в иллюзию. Надо отлучить человека от надежды и научить его искать удовлетворение, если речь идет о настоящем, — в бесплодном самопознании, а если о прошлом — в бессмысленных воспоминаниях49; надо научить его смело ступать в «ад настоящего». Произнеся эти устрашающие слова, Камю тотчас же торопится смягчить их: он начинает с подозрением относиться к самим бедствиям, к чрезвычайным ситуациям, поскольку в такие минуты самообладание может покинуть нас и мы станем всеми силами отрицать сам факт бедствия, вместо того чтобы, как это и подобает человеку, взять на себя ответственность. Лишиться надежды не значит отдаться во власть отчаяния50. Когда Камю говорит об отчаянии, он поясняет смысл этого слова, с тем чтобы избежать его неправильного истолкования, как, например, поступал Прудон со словом «анархия» (an-archie — «без-властие»): стремясь отмежеваться от утопистов, он отвращает человека и от пустых утешений — единственно для того, чтобы вернуть его к «лиризму формы и цвета», чтобы напомнить ему о неистощимых щедротах его сердца. Здесь мы имеем дело с прямо противоположной трактовкой того, о чем говорят мистики: «Ах! Если бы люди церкви знали, — восклицал св. Хуан де Ла Крус, — какие блага и духовные сокровища они теряют, когда не могут противиться тому, что не имеет ценности! Да и
возможно ли удовлетворить страстную жажду отведать
==93
всех земных яств, откушав постной похлебки?» Чувственная жизнь для них проста и непритязательна, духовная жизнь трудна и напряженна. Для Камю все наоборот: то, что пребывает по ту сторону чувственного, принадлежит миру абстракций. «Суровый и изнурительный путь к ясности» — это не путь абстракции, это путь, уводящий от христианского аскетизма, от обольщения вечностью и идеалами. Тот, кто ступает на этот путь, сразу же расстается с ложной умиротворенностью ради подлинных удовольствий. Но, расставаясь с нею, он оказывается в мире повседневности, который меняется от осознания человеком своего одиночества и заброшенности51, подобно горным цветам, чья окраска густеет в разреженном горном воздухе, или звездам, которые начинают светить, когда гаснет яркий свет дня. Смерть, безвозвратная смерть, настигающая нас в конце жизненного пути, сразу лишает ценности все иллюзорные цели, которые извращают и обезличивают жизнь, освобождает ее от всего лишнего, не заслуживающего внимания, и безжалостно высвечивает каждый момент нашей жизни, который уже не повторится никогда52. Таким образом, отказ не является отречением, совсем наоборот: под видом методического «нето он бесконечно говорит жизни «да»53. Познание бессильно, объяснение бесполезно. Абсурд имеет целью не объяснять, не выносить решения, а испытывать и описывать. Он начинается там, где кончается мышление, а мышление кончается, как только обнаруживает свое бессилие. Неспособное ни возвыситься над реальностью, ни объединить ее, мышление в состоянии только повторять реальность или — с помощью поэтов и художников — поэтически воспроизводить ее. Ограничение способности к абстрагированию открывает простор для господства телесного. «Только исповедующие иронию философы способны создавать захватывающие произведения»54. Страсть к абсурду, которая поначалу «приводит в возбуждение больше, чем что-либо другое»55, которая воспламеняет сердце, заставляя его учащенно биться,
==94
страсть эта становится неуемной. Мышление, отказывающееся от своей функции объяснения, дает возможность вещам очевидным засверкать всеми своими красками56. Человеческое усилие не направляется более на обманчивые поиски невозможного. Оно оказывается «лицом к лицу перед самым что ни на есть возможным миром». Отныне оно становится каждодневным приключением57, и желание располагается не в верхнем его регистре, а в сфере самого что ни на есть возможного. Камю продолжает расширять поле своего анализа, то добиваясь побед, то впадая в отчаяние. Он говорит теперь о моральном измерении качества, количества, напряжения. Он предпочитает скорее рассуждать о многосложности мира, чем о его щедротах или великодушии. Его язык, на первый взгляд весьма отвлеченный, призван удерживать в памяти чувств то самое «нет», которое лежит в основании «да», не поддаваясь горячечным порывам радости или отчаяния, которые заставляют человека выходить из себя. Это — последняя грань, перед которой останавливается моралист, отвергающий какую бы то ни было дисциплину. Камю рисует жизнь, одновременно полную смирения и великолепия, утрат и обретений, которая протекает изо дня в день и сама собой вновь возобновляется; для души, руководствующейся разумом, не знающей ни сожалений, ни огорчений, она вся «состоит из настоящего», отдельные моменты которого надежно сцеплены друг с другом; и если душа испытывает огорчения, то неявно, как нехватку чего-то, как это бывает в предчувствии счастья. Она отворачивается от необъятных просторов вечности и, как Гете, восклицает: «Мое поприще — это время!»58 Деятельное существо — это не чудовище, которое на протяжении столетий отвергалось христианством; это — модель самого человека59; он господствует в тленном мире, и из того факта, что все однажды должно погибнуть, делает единственно верный вывод и действует в соответствии с ним: привести к равновесию противоборствую-
==95
щие силы и прожить с пользой каждый день. Он — модель абсурдного мира, в нем соединились герой и святой, а вместе с последним — и художник, творения которого бесполезны и не имеют будущего60.
Теперь мы в состоянии дать окончательный ответ на вопрос о самоубийстве. Отныне проблема решается прямо противоположным образом. Раньше вопрос стоял так: должна ли жизнь иметь смысл, чтобы ее прожить? Теперь, напротив, речь идет о том, «что она будет прожита темлучше, чем меньше в ней смысла»6!. Диалектика самоубийства определена своего рода метафизикой настоящего, того, что происходит в данный момент, исчерпывающей себя этикой, которую не без труда удается отыскать у Камю. Диалектика эта не нова и не оригинальна; но она на это и не претендует. Тем, кто бросает Камю подобный упрек, он отвечает: все идеи по-своему убоги, и это не их вина; любое послание, сведенное к идее, обнаружит свою плачевную ущербность. Единственным критерием здесь является искусство, которое с помощью художественных средств преображает эту мрачную землю и которое, как говорил Ницше, дано нам для того, чтобы мы не погибли от вида неприукрашенной истины; Оно не понуждает нас «ставить опыты», которых требует от нас мышление62 и результаты которых представляют собой бесполезные абстракции: оно зовет к напряженной и свободной жизни. Одно наше тело, может быть, противится абстракциям и упованиям на будущее и бьется в закрытую дверь настоящего, повинуясь толчкам собственной крови; оно одно, вероятно, и есть истина, не смешанная с настоящим, чистая страсть, которая не ослабела под воздействием разума, единственное, что, как представляется, от начала и до конца является акгуальным63.
У всех этих торжественных гимнов есть одно слабое место: кому дано хоть когда-нибудь познать жизнь с той ее стороны, где она празднует победу? Объяснить жизнь (или управлять ею) в состоянии только тот, кто может
==96
понять причину ее поражения, притупления, пресыщения. Ее лирическая жилка непрочна и хрупка, и Камю сам охотно признает и даже подчеркивает это. Обращаясь к своим последователям, он говорит о всеобщем предательстве философов и писателей абсурда, едва не ставшем правилом, как и о предательстве тех, кто принимает посылки абсурдного мышления. Это предательство жизненных основ дал Камю самое тяжкое из всех предательств. Кьеркегор, видимо, совершал ошибку, когда говорил о теле как балласте, мешающем осуществлению надежд. Из того факта, что мир со всей очевидностью превышает меру человеческого, он делал вывод: мир выше человека. Из того факта, что разум ограничен по сравнению со своим объектом, он делал вывод: объект не должен иметь ограничений. Обнаруживая в этом ложное умозаключение, Камю избирает другой путь, который мы назвали абсурдным позитивизмом. Он заранее отказывает этой изначальной и неизбежной данности, которая ограничивает любую другую данность, .в возможности превратиться не только во что-то сверхъестественное, но и вообще во что-то иное, даже если речь идет о повседневном существовании. Камю обвиняет Шестова, Ясперса и Гуссерля в том, что они признают абсурд и магически — совсем как фокусники — преобразуют его; Бог-Слово или Бог-Ночь, небо, усыпанное звездами, или небо, заполненное сущностями, — это одно и то же. Всюду разрыв. Всюду философское самоубийство64. Всюду усиливающаяся проповедь «чистого горения жизни», а в результате — лишь холодный пепел примирения. Писатели абсурда во главе с Достоевским65 в своем предательстве идут за философами и переходят Рубикон, отделяющий абсурд от жизненных основ. Этот прыжок завораживает, но он не имеет оправдания, ибо смертельно опасен. Разве удивительно, что сам Камю теряет бдительность? Город, где свирепствует «Чума», — это место изгнания66, окруженное со всех сторон утопающим в роскоши миром, который ждет лишь момента, 4
==97
чтобы принять его в свои объятия. И если бедствие будет длиться, не затихая ни на минуту-, и город забудет о том, что мир существует, если журналист Рамбер расстанется со своей тщетной надеждой выбраться из него, чума сразу прекратится и Рамбер обретет счастье. Даже Камю не смог соблюсти до конца эту безрадостную дисциплину.
По правде говоря, ригоризм абсурдного разума — результат его произвола. Герои Камю ищут выход из создавшегося положения, но ищут вслепую: разве удивительно, что в конце пути нас ждет поражение? Мерсо пытается переломить свою судьбу: но единственное, на что он способен в ожидании смерти, так это лениво спрашивать себя, возможен ли сбой в ходе судьбы. Марта мечтает о чудесных островах, но мечта ее бесплодна и безысходна, и в итоге она оказывается способной лишь на то, чтобы время от времени совершать незатейливые преступления. Калигула размышляет о невозможном — не о сверхчеловеческом, а о безоглядном разрушении, о мире, где солнце садилось бы на востоке, где белое было бы черным67; это — старая мечта поэтов о кардинальном преображении мира при помощи разрушения самих его основ. И не удивительно, что Калигула не находит ничего иного, кроме невозможного. И, наконец, герои «Чумы», эти обычные люди, заняты только тем, что ведут изнурительную борьбу с постигшей их болезнью. Но разве эта отмеченная счастьем обыденность, эти сознательно вершимые добрые дела, дающие удовлетворение, не являются другой формой иллюзии, осмотрительным признанием надежды, слегка разбавленной абстракцией, воспоминанием, о котором говорил Эпикур? Самый прозорливый из этих обычных людей умирает, «уверенный в том, что жизнь без иллюзий бесплодна»68. Камю, вслед за христианскими спиритуалистами, признает бесплодность аскетизма, озабоченного только самим собой. Странно видеть современный мир, в котором под видом атеизма воспроизводятся, повторяются, слово в слово, все истины христианства. Возникающие здесь трудности
==98
могут на какое-то время придать аскезе абсурда суровое величие. Но эти выразительные средства не достигают цели: они скорее обнажают абстракцию, нежели скрывают ее. Сын Африки, избравший одиночество, поклоняющийся дисциплине, но страстно рвущийся вперед, Камю чем-то напоминает древнеегипетских столпников, часами монотонно перебиравших четки, в то время как в их сердцах кипели могучие, не имеющие выхода страсти. Одновременно на память приходят и другие, высочайшие. помыслы, те, что заставляют во имя святынь отказываться от помилования, искать славы на пути скромного, но горделивого и благочестивого служения Богу: Камю сталкивается с этими помыслами на полпути от Салавена (расстающегося с ними на мостовых Парижа) к аббату Донисану (позволявшему им одолеть себя). Дюамель или Бернанос — вот какой выбор предстоит сделать Камю. Или полный волнений, но безопасный путь, ведущий от безропотной жалости к поражению, которым чреваты все великие пути, сочувствие людским несчастьям, получающее удовлетворение в самом сочувствии и сопровождаемое звучным песнопением, тешащим самолюбие; или суровая битва с коварством дьявола, прельщающим великих людей ложным величием.
Итак, мы подошли к самому острому моменту. Надо более обстоятельно рассмотреть вопрос о глубинной бесплодности, которая у Камю стоит в одном ряду с напряженным опытом и великодушием. «Свадебный пир» — это многоцветная, сверкающая миниатюра; «Чума» — книга мрачная и тяжелая. В «Мифе» дано классическое описание парадокса. Мышление Камю от произведения к произведению становится все более содержательным. А что происходит с моралью? Соблюдается ли в ней принцип исчерпанности?
Итог абсурдного мышления известен: в опыте качество уступает место количеству. Эта операция уже имела
4*
==99
место в истории: ее осуществил Декарт по отношению к телесному миру. Начиная с Аристотеля предполагалось, что каждое тело имеет свое специфическое место, отведенное ему природой, и оно стремится вернуться в него, если волей случая вынуждено было его покинуть. Здесь действовал глубинный закон целеустремленности, наподобие того, что направляет нравственного человека к созданной им модели, а верующего — к Богу. Все пространство, таким образом, представляло собой количество, правда, количество, пребывающее в хаотическом состоянии: порядок учреждается здесь благодаря разумной божественной необходимости, которая одухотворяет движение. Этот полный смысла мир Декарт превратил в скопление совершенно безликих мест и слепых в своей необходимости движений, характерных для механических сред. Но он сохранил мир сознаний, поляризованных с помощью божественного света, как это было у св. Августина. Однако он не знал, какое место между этими мирами отвести этике. Ему казалось, что она тяготеет к безличностному миру, но господствующие в нем всепроникающие физические законы вступали в противоречие с некоторыми очевидными вещами. Его раздвоенность перешла и к его последователям. Никто никогда так и не смог превратить имеющее космический характер картезианство в моральное учение. Самые что ни на есть революционные моралисты, как и пришедшие им на смену имморалисты, лишь перемещали ценности из сферы божественного в сферу человеческого, из области духа в мир инстинктов. Наиболее радикальный из них — Ницше, всей силой своего темперамента отрицавший традиционные ценности только для того, чтобы предложить изуверившемуся в себе человеку страсти, столь же могущественные, как и у его предшественников. Лишь в наше время стали вводить безличностный физический принцип в сферу человеческого существования. Такова первая особенность мира Камю, или, по меньшей мере, такова предельная черта, к какой он последовательно и
К оглавлению
==100
неотступно стремится: мир, у которого нет более ни собственных устремлений, ни смысла; «прозорливое безразличие»6!·.
Космическая гибель ценностей влечет за собой общую разбалансированность человеческих существ и их образа действий70. Стиль «Постороннего» направлен на то, чтобы сделать это очевидным71: в нем промежутки между фразами соответствуют промежуткам времени, наполненным отчаянием; их сухость и краткость соответствуют бесчеловечным и не имеющим значения явлениям по ту сторону мира, которые внезапно заявляют о себе здесь, в этом мире; их механическое движение соответствует размеренному и не знающему жалости ходу судьбы. Слова: «ничего», «мне все равно», «какая разница» — без конца слетают с уст Мерсо. Когда его спрашивают о причине, приведшей к преступлению, он не знает, что сказать. И он, в самом деле, не знает. Случившееся кажется ему скорее забавным, чем преступным. В конце концов он говорит на суде: «Все вышло из-за солнца», и не понимает, почему в зале раздается смех. Действительно, Мерсо — ограниченный человек, можно даже сказать — тупой. Если говорить о Марте и Калигуле, то в их лице мы имеем персонажей более жестких и более умных. Но стиль действия не меняется. Две женщины содержат гостиницу, они как бы затаились в ней. Демонстрируя перед заезжими путешественниками свое «благодушное безразличие», они время от времени совершают убийства. Когда очередная жертва вызывает в них чувство гнева или жалости, они срывают зло друг на друге, как если бы одна из них совершила профессиональную оплошность. Они остаются равнодушными даже тогда, когда, заглянув в паспорт своей последней жертвы, понимают весь ужас содеянного. Трагедия имеет чисто объективный характер: она скроена по меркам обстоятельств, как если бы действующими лицами в ней были не реальные персонажи, а их тени или каменные изваяния. Калигула все и вея нивелирует: люди и их действия для него стоят друг
==101
друга. Нет никакой разницы в том, кого и когда он убьет: все совершится само собой. Что он — чудовище? Нет, он просто повторяет тайные причуды самого мира. «Я признаю, что все хорошо», — говорит Эдип, и эти его слова — священны72. Стало быть, все дозволено — таков вывод Ивана Карамазова. И все имеет свою цену. Кому по душе тяжелая жизнь? Не существует ни плохих, ни хороших условий. Жизненный опыт, его ценность зависят не от обстоятельств, а только от того смысла, который мы придаем им: «Нештатный служащий на почте — тот же завоеватель, если он думает, как все»73. Следовательно, никто не идет вперед, но и никто не отстает. «Нам никогда не изменить жизнь»74. Персонажи раннего Камю, кажется, совершают значимые (для читателя) действия только тогда, когда их воля и внешние обстоятельства достигают в своем взаимодействии равновесия, когда их поступки не имеют никакой цели. В такие моменты драма у Камю совсем и не драма, если иметь в виду насыщенность действия и его узловые моменты: лишенная напряженности и буквально распадающаяся на части, она протекает на краю бытия; опустошенный человек совершает действие на грани пустоты, как Калигула, увидевший свое отражение в зеркале. Мир, не имеющий ни конечной цели, ни будущего, — это однородный, монотонный мир, где все повторяется. В картезианской вселенной естественным образом господствует протяженное движение, имеющее постоянную скорость: никакие призывы, идущие от мира, не в состоянии повлиять на него; оно осуществляется как неустанное повторение непрерывных творческих импульсов, исходящих от Бога, который поддерживает это движение и тем самьм осуществляет свою волю, никак не проявляя своего замысла. Ницше, отвергая божественное единство истории, смог почерпнуть из этого имеющего космический характер представления лишь идею вечного возвращения, мысль о возобновляющейся волне, столь колоссальной по своим масштабам, что она дает возможность
==102
сохранять недоступное нам многоцветие абстрактного понятия длительности. Мир Камю подчинен той же самой схеме. Согласно ему, не трансцендентная воля Бога (которую он отвергает) поддерживает бытие человека и абсурдного мира перед лицом небытия, а безграничная и упорствующая воля человека, «вызвавшего к жизни абсурд»75. Героям, преодолевающим конечные пределы, родоначальником которых является Прометей, он противопоставляет героев, «начинающих все с начала», героев «монотонного и отчаянного повторения», которые, всякий раз возобновляя свое деяние, твердо знают, что им опять придется все начинать с начала; и вера эта сильнее их судьбы. Таков Сизиф, спускающийся с горы к своему камню, чтобы снова вкатывать его на вершину. Это бесконечное тщетное вкатывание экзистенциалисты обычно называют трансценденцией. Вслед за Сизифом — Дон Жуан, комедиант, завоеватель, вечный странник, и, наконец, врач, обреченный на монотонную работу, привыкший без передышки вести борьбу со смертью, которая обычно одерживает верх. Тем не менее все они счастливы, поскольку живут насыщенной жизнью и обладают ясным сознанием76.
Хотя однажды Камю и обмолвился о «трепетном безразличии мира»77, он не скрывает того, что его онтология годится для мира, где господствует черствость. Каменное безразличие, скорее досада, чем скорбь, овладевающая Мерсо у гроба матери, сродни отвратительному равнодушию Марты, с каким она совершает свои преступления и оценивает причиненные ею страдания («Я плохо понимаю слова: любовь, радость^страдание»), ее ненависти к «гнусным человеческим нежностям»; это — желание камня оставаться камнем78. Требуемая от творца твердость79 принадлежит к такого же рода вещам.
До сих пор, как представляется, безразличие выступало лишь своей негативной стороной. Однако у Камю оно является и свидетельством своего рода онтологической насыщенности. Оно имеет отношение к неким осново-
==103
полагающим формам бытия: в «Постороннем» мы постоянно сталкиваемся с безразличием повседневности; таково и глубинное желание, которое хоть однажды испытал каждый из нас, — не желание разрушать или созидать, а желание быть ничем, ни на что не походить, желание, которого не осуществить, поскольку «ничто», как и абсолют80, недосягаемо; таково и уподобление абстракции, к которому мы, борясь против нее8!, прибегаем, чтобы обнаружить ее присутствие в так называемых абстрактных силах.
Но существует и наивысшая степень безразличия. Большие беды отличаются своей монотонностью: чума, вспыхнувшая в Оране внезапно, как гром средь бела дня, безысходно и угрюмо топчется на месте, и так тянется изо дня в день; чума не дает повода для возвышенных чувств, она сопровождается банальными, обыденными желаниями, которые и выражаются как-то незаметно. Это потому, что во время общей беды каждый отдельный человек вынужден отказываться от всего сокровенного (здесь, может быть, кстати вспомнить барочный стиль в живописи) и разделять общие чувства, возникающие в ходе коллективной судьбы. Так, люди в осажденном городе существовали не каждый в отдельности, а все вместе, сообща, как некое целое, способное сохранить жизнь, и здесь уже речь шла не о выборе — надо было лишь слепо и упорно терпеть без надежды на успех; упорство заменяло собой чувство любви82: безразличие борцов всех времен и народов, израсходовавших свой запал, утративших надежду, озабоченных только тем, чтобы не затеряться в будничных делах. Знаменательно, что Мальро и Камю подметили следы этого высшего безразличия на лицах героев Пьеро де ла Франческо83 и на лице Христа, когда он предстал перед палачами. Здесь мы имеем дело с безразличием, свойственным целостной личности, с полным страсти хладнокровием, свидетельствующим о наивысшей мудрости; такое безразличие трудно выразить, поскольку оно по ту сторону того, что
==104
может быть выражено. «Мудрый человек, как и глупец, редко когда что выражает»84. Здесь «сходятся вместе всеобщая равноценность и жажда понимания»85; как еще точнее сказать, что безразличие отворачивается от вещей общего характера, чтобы в метафизическом порыве слиться с самой жизнью, дабы исчезли противоречащие смыслу явления?
Действительно ли они исчезают, а вместе с ними исчезают и наши представления о них, или мы сами не можем устоять перед их всесильным и противоречивым образом, когда совершаем восхождение? Этот неопределенный образ существует как бы между двумя мирами. В нем бессилие, бездеятельность соединены с горением, с желанием идти до конца, кипение страстей — с опустошенностью отчаявшейся души. Это — типично африканское явление, о нем уже повествуется в «Брачном пире». «Несомненно, надо много лет прожить в Алжире, чтобы понять, как земные блага могут изнуряюще действовать на человека. Тот, кто хотел бы чему-то научиться, что-то понять, стать лучше, наконец, ничего не найдет здесь для себя. Эта земля ничему не учит. Она не обещает никаких открытий. Она довольствуется тем, что может давать, а дать она может многое... Своеобразная страна, которая, предоставляя человеку пропитание, наделяет его вместе со своими богатствами и нищетой. Богатство ее принадлежит области чувств, и воспринять его может только чувственно богатый человек; не удивительно, что богатство это соседствует с самой крайней бедностью». «Обжигающая и бесчеловечная нагота» этих «мест, где нет ни души, где не найти пристанища», свидетельствует о том, что там, где всего в изобилии, процветает безутешность, что в мире «крайняя нищета всегда соседствует с великолепием и богатством». Нагота эта зовет освободиться от всего внешнего, стать самим собой, но одновременно напоминает и о яствах земных86. Десятки раз из-под пера Камю рождаются образы людей, в которых слиты воедино лед и пламень, черствость и
==105
великодушие, безразличие и страстное горение87. Может быть, эти контрасты и являются подлинным нервом творчества Камю, тем драгоценным камнем, скрытым под зеркально чистой водной гладью его произведений, который ждет того, чтобы его извлекли наружу?
Можно ли раскрыть тайну творчества Камю? Ницше в образах пламени и льда искал нечто вроде абстрактной и внечеловеческой чистоты мышления. Другие в полном смятении стремились, как это делал Бретон в своем «Втором Манифесте», «уничтожить бытие, обращаясь к внутреннему миру человека и представляя его скорее пламенем, чем льдом». Камю не склонен к такого рода опоэтизированию противоречий; для него оно — романтическая причуда восторженного ума. Он не устраняет противоречий, а обостряет их, приводя к короткому замыканию пульсирующие в них токи. Его мир — это не мир поэта, где субстанции смешиваются между собой, переходя одна в другую; это — мир моралиста, где одни позиции противостоят другим, бросают друг другу вызов и тем самым выводят за пределы простого морализирования. Эта постоянная напряженность, этот сухой и вместе с тем расцвеченный всеми цветами радуги мир заставляют вспомнить св. Августина и Хуана де ла Круса. Они свидетельствуют о том, что все есть ничто — todo y nada. Нет более непритязательных людей, чем актер или Дон Жуан, которые хотели бы, чтобы их было бессчетное множество: выбирая бытие, умножающее себя, они должны тем самым выбирать в качестве бытия «ничто»88. Так нашептывает мистик, облачившийся в тогу моралиста. Но пусть это не смущает моралиста: здесь нет никакой ловушки, за этими словами не кроется желание сделать Камю христианином вопреки его воле. Сегодня мы хорошо знаем, что атеиста также прельщают пути мистического откровения. В интересах истины необходимо подчеркнуть, что слово «непритязательный», которое так часто выходит из-под пера Камю, само раздваивается: с
==106
_одной стороны, оно означает вызывающее раздражение банальное и противоречивое целомудрие, с другой — оно наделено более глубоким смыслом, который присутствует в работах Камю и который уводит далеко за пределы фатальности, проповедуемой писателем, держа в постоянном напряжении.
Если говорить о двойственном характере безразличия, то мы сталкиваемся с ним уже тогда, когда речь идет о навязчивой идее невинности. Идея эта также лежит за пределами этики. Первоначально она скрыто сосуществует с комплексом виновности. Персонажи Камю ощущают себя загнанными в ловушку, поскольку их неотступно преследует смутное чувство вины89. Вера в собственную невинность возникает тогда как протест, как реакция на это давление. В случае с Котаром все ясно: сначала он безотчетно ведет тяжбу против того, чего не знает, как ведет ее личность, не ведающая за собой вины; затем он обвиняет весь свет, он хочет, чтобы все пошло прахом, чтобы погрязшее в грехах человечество понесло наказание. На этом уровне за утверждением о коллективной вине таится не что иное, как тщательно скрываемое намерение заявить о своей невинности: последняя предстает в качестве алиби, и никак иначе. Для Камю это совсем не уловка. Как под лучами африканского солнца исчезают все полутона, точно так же, по-видимому, насыщенная жизнь, и только она одна, смывает всю грязь и полагает себя во всей своей полноте, не нуждаясь ни в каком оправдании. Мы любим женщин и любим цветы, сердце наше невинно, невинны и наши желания90. Сама жизнь свидетельствовала о невинности Дон Жуана. Только смерть смогла сделать его виновным, вина настигла его тогда, когда он лишился жизни. «Все дозволено» вовсе не означает, что ничто не запрещено: необходимо существование чувства ответственности9!. Но Камю не хочет связывать вместе эти две вещи: ответственность и виновность92. Мы все еще находимся там, где действует алиби: вместо того, чтобы во всех
==107
грехах человеческих обвинять Вселенную, человек, неотступно преследуемый навязчивой идеей вины, приписывает ей абсолютную невинность, чтобы тем самым обеспечить алиби и своим естественным поступкам. И здесь Руссо выступает в роди Виньи. Но и на этот раз все эти красивые оправдания опрокидывает возмущение против кары, против наказания смертью. «В юности, — признается Тару, — я жил мыслью о своей невинности, то есть без всяких мыслей»93. Это значит, что он жил не задумываясь. Мысль о невинности человечества рушится, как только на сцене появляется палач. «Мы все виновны», — утверждает Тару вслед за Салавеном и Толстым. Или все заражены, — что одно и то же. Вина становится тогда основой бытия. Непосредственное не является непременно непорочным и, может быть, надо идти дальше: «Микроб — он естествен. Все прочее: здоровье, честность и даже, если хотите, чистота — все это следствие воли, которая не должна давать себе передышки». В мире, где существует страдание, безразличие уже невозможно. Но если сделать такой вывод, то не обнаружат ли в этом случае свою абстрактность все анализы, проведенные Камю в ранних работах, сам его бунт против абстрактных сил, мысль о размеренно и бесстрастно протекающей в обычных условиях жизни, о неукротимом неистовстве той же жизни перед лицом неизведанного? А волевая решимость «Мифа» — не обернется ли она претенциозным и бесчеловечньм принуждением? В тот момент, когда согласие превращается в сочувствие, мир безразличия разбивается вдребезги. С этой точки зрения экзистенциальный позитивизм, который автор под видом молчаливой обнаженности факта пытается проводить в «Постороннем» или в «Недоразумении», звучит как призыв идти на прорыв. То, что он хотел бы сохранить как не имеющее никакого значения, вырывается за пределы отведенных ему границ, заявляя о своих проблемах, требующих неотлагательного решения. Бытию не свойственно сдерживать себя — в этом сущность любой
==108
религиозной истины. Логика «Мифа» разбилась о железные прутья клетки. У нас на глазах решетки этой клетки стали раздвигаться, уходя в бесконечность.
Столь требовательное отношение к надежде и миру ценностей не было, как представляется, бесполезным, — до такой степени они были опошлены. В ранних произведениях Камю, если говорить о его отношении к современности, проповедовалась своеобразная негативная теология, которая явилась также одним из отправных моментов для экзистенциалистского миропонимания. Любая сколько-нибудь радикальная рефлексия начиналась этим псевдонигилизмом; Декарт, но и Сократ; Кант, но и Паскаль. Псевдонигилизм был, по существу, переходным периодом — не только потому, что речь шла всего лишь об одном этапе длительного пути, но также и потому, что он смотрел далеко вперед и открывал дорогу к ценностям, которым принадлежит будущее. В 20-х годах Камю, находясь в плену абстракций, правда чересчур лиричных, если. можно так выразиться, склонен был к самым резким высказываниям, но вскоре он пришел к осознанию их ограниченности, однако не изменив своих резких манер, полученных в наследство от античного ригоризма. Предпочесть историю вечности, деятельность — созерцанию, конкретное — абстрактному значило «целиком и полностью расточать свою жизнь». Может быть, именно поэтому церковь была так сурова по отношению к актерам, к этим дерзким двойникам человека, которые буквально растрачивают (расточают) свою душу'14. Разразилась война, началось движение Сопротивления — чума, борьба. Камю на собственной шкуре понял, во что может превратиться целая страна.жизнь миллионов людей, сбившихся в кучу перед лицом беды, теряющих смысл своего существования, если им не остается ничего иного, кроме горестного и приводящего в отчаяние настоящего; он понял, что повторение, которое красной нитью проходит через «Миф о Сизифе», может обернуться «топтанием на месте» (эти слова он много раз
==109
употребит в «Чуме»). Значение данного опыта можно оценить на основе следующей фразы, написанной автором «Постороннего» в 1946 году: «Нет жизни, достойной этого имени, без надежды на будущее, на возмужание, на прогресс. Жизнь, ограниченная четырьмя стенами, это собачья жизнь»95.
Когда началась война, люди, подобно Камю, «не верившие в смысл мира», «разделяющие мысль о том, что все в мире равноценно, что добро и зло каждый определяет по-своему», пришли к выводу, что единственными ценностями в этом мире являются насилие и коварство, единственной задачей индивида — накопление сил, а единственной моралью — мораль победителя. Камю оказался безоружным перед этими мнимыми ценностями, обескураженный неожиданной сдачей позиций. Он признавал это в открытом письме, опубликованном в подпольной газете: «На деле, мне, обладающему, как я думаю, тем же самым мышлением, что и вы, мне нечего вам противопоставить, кроме властной тяги к справедливости, которая, в конце концов, я полагаю, столь же мало управляется разумом, как и самые неожиданные порывы страсти»96. Об этом отличии он будет говорить не раз: люди с легкостью предаются отчаянию — и получают удовольствие от того, что оно возрастает, — он противится этому; они возводят отчаяние в принцип — он отвергает его вместе с фатальностью; они взывают к богам — он восстает против богов. Но зачем он восстает? К чему на фоне всеобщего безразличия эти упрямые взбрыкивания и никому не нужные попятные движения? Но равнодушие Камю при всем его возмущении так и осталось бы его слабым местом, если бы у него не зазвучали тогда новые слова: ценность, смысл. «Будь все лишено смысла, вы оказались бы правы. Но в мире есть нечто, сохраняющее смысл»97. В «Заметке о бунте», написанной в период между «Письмами» и «Чумой», Камю, осмысливая военные годы, кажется, вновь призывает на помощь абстрактную диалектику. Диалектика эта, повсе-
К оглавлению
==110
местно борясь с безразличием, сама убеждает себя в том, что ей не дано прийти ни к какому окончательному суждению, которое не было бы абсурдным. Надо быть последовательным! Но в этом не имеющем исхода кружении, на которое обречена наша Вселенная, Камю во второй период своего творчества создает по ту сторону отчаяния еще одну вселенную, лишенную вечности, соразмерную человеку и предназначенную для человека, иными словами, возводит своего рода «относительный абсолют». Абсурд остается в ней в качестве метафизического пространства, окружающего хрупкое здание, где царствует мораль. «Я продолжаю думать, что мир этот не имеет высшего смысла. Но я знаю, что кое-что в этом мире имеет смысл, и это — человек, поскольку он один его взыскует. Мир, по меньшей мере, содержит в себе истину человека». Сделан первый шаг в сторону от абсурда: «абсурд исключает суждения ценности, а они тем не менее существуют»; «Я познал причины того, что раньше казалось всего лишь страстью»98.
Человек — но это еще слишком неопределенно, надо приложить немало усилий, чтобы слово «человек» обрело свой подлинный смысл. Его надо уточнить. В «Мифе о Сизифе» человек с его чувством братства к людям представлен как подлинное богатство". Но в иссушающем безразличии абсурда он, кажется, низведен до нуля; лишенный жизненно необходимого опыта, он взывает к тому, чего абсурдная рефлексия не приемлет ни за что на свете: к потустороннему. Вот, наконец, перед нами и результат бунта. Что это? Индивид, воспринятый другим индивидом и согретый его любовью? «Миф о Сизифе» уже сделал значительный шаг в этом направлении. Но индивид представлен в нем ничтожно малым, униженным и утратившим свои основания. Его еще предстоит отыскать. Здесь Камю обнаруживает свой неуемный темперамент анархиста, для которого чувство братства предшествует появлению индивида. Бунт по сути своей не
==111
может быть эгоистической акцией. Индивиду не свойственно защищаться в одиночку: в бунте он превосходит себя и устремляется навстречу другому (налицо моральная ценность, возрожденная с помощью метафизики). И здесь Камю совершает еще один шаг вперед, если иметь в виду то время, когда он намечал первые подступы к абсурду и говорил об очевидной бесплодности мира: «В опыте абсурда трагедия имеет индивидуальный характер. В бунте она осознается как явление коллективное. В нем она предстает как всеобщая одиссея»!00. Такое преобразование индивидуальных судеб в коллективную историю с наибольшей отчетливостью проявляется в периоды великих потрясений!01. Таким образом, в стихии бунта, который приходит на место абсурда, а не просто-напросто продолжает его, человек не является более абстрактной идеей — но он сразу становится ею, как только отворачивается от любви102. Человек непосредственно связан с конкретными людьми.
Но как собранное вместе отчаяние многих людей не приведет к надежде, так и совокупность мнимых ценностей не обернется истинной ценностью. Чтобы человек связал свою судьбу с другим человеком, надо, чтобы в нем он увидел нечто большее, чем повод для Математических подсчетов или теоретических рассуждений: это большее — достоинство человека, то, что возвышает его над обстоятельствами, что сообщает ему способность любить. Такова первейшая ценность, cogito любой ценности. Тем самым бунт дает нам право утверждать, что существует удел человеческий, хотя он и не явлен нам со всей очевидностью; вот почему находятся те, кто склонен уподоблять человека вещи или животному103. Первичная мораль, проистекающая из первичной ценности, это мораль понимания104. Это — древнейшее чувство человеческого доверия, позволяющее надеяться на то, что у человека можно вызвать чисто человеческую реакцию, если обратиться к нему на человеческом языке. Весь ужас нашей эпохи в том, 1)2
==112
что мы готовы забыть об этом. «Имеющий долгую историю диалог между людьми может прерваться»105.
Нельзя забывать и того, сколь важное значение Камю придавал телу. Тело — это явная очевидность, полное тепла присутствие, аргумент, который нельзя опровергнуть. Когда Камю имеет дело с ценностью, ему приходится выбирать между двумя возможными решениями, и он выбирает то, которое свидетельствует в пользу телесного, в пользу конкретного человека, имеющего собственное лицо и собственные руки, а не одни лишь идеи. Существовать — это прежде всего жить. Человек — это прежде всего жизненное самоутверждение каждого живущего на Земле. В то время как большинство врачевателей торопятся спасать душу, призыв Камю звучит иначе: «Спасите тела». «Ни жертв, ни палачей»196. Борьба против насильственного лишения человека жизни и против пособничества в этом все больше становится главной темой работ Камю во второй период его творчества.
Эта тема была, конечно, немаловажной и в первый период его творчества. Она довольно часто обсуждалась в то время в его произведениях, но тогда еще не была связана с нравственностью, и не она вдохновляла автора в его работе. В то время преступление рассматривалось им скорее как бессмысленное, чем предосудительное. Оно было ключевым моментом, определяющим бессмысленность действия как такового — о чем бы ни шла речь: об отчаянии или надежде. Тема смерти была вторичной по отношению к теме безразличия. Она присутствовала тогда как подспудная идея, которая еще не обрела своего подлинного звучания. Сами сюжеты «Постороннего», «Недоразумения», «Калигулы» были продиктованы не любовью, не страстью к приключениям, а преступлением.
Среди преступлений особо выделялось такое, которое требовало своего самооправдания: убийство, за которым
==113
должно последовать наказание,— только при этом условии человек мог обрекать себе подобного на смерть, руководствуясь человеческими ценностями и призывая осужденного стать моральным соучастником своего собственного уничтожения. «Посторонний» является историей о смертной казни. Осужденный, до этого безразлично относящийся ко всему на свете, только перед смертью почувствовал смутное волнение: «Как же я раньше не соображал, что нет ничего на свете важнее смертной казни и что в известном смысле только она и заслуживает внимания»!07. Но даже и накануне казни он мало думал о ней. Что поделаешь, если о ней вовсе не думается? У людей недостает воображения, чтобы представить себе смерть других людей108. «В нас таится нечто такое, что заставляет поддаваться инстинкту, презирать интеллект, поклоняться культу целесообразности»!09. Начиная с этого момента Камю сосредоточивает свое внимание на вопросе об узаконенности смерти и — главным образом — смерти, обоснованной с помощью разумных доводов. Даже тогда, когда он писал «Письма к немецкому другу», живущий в нем дух сопротивления внушал ему, чтобы он направил всю свою волю против эяа и насилия, хотя сам он так или иначе призывал к насилию. От этого стиль его лишался ясности"0. Тогда он пытается преодолеть подозрение, питаемое им к героизму и насильственному действию. Он почти что признается в своем упрямстве: ему приходится прибегать к уловкам и сдерживать себя, прежде чем он придет к выводу о недозволенности насилия. Это действительно было так. По крайней мере, говорит он об этом еще не вполне твердым голосом. Он убеждает себя в том, что, вопреки его собственной уверенности, разум должен пойти на союз с мечом, чтобы не дать ему обрушиться, когда рука смерти заносит его над жертвой; он ищет «справедливого равновесия между жертвенностью и жаждой счастья, между мечом и разумом». Достаточно перечитать его произведения, чтобы убедиться в том, как
==114
часто дрожит его голос, когда он произносит эти слова. Вслушайтесь в тональность его речей, полных уверенности: ни жертв, ни палачей. Ничто уже не мешает ему абсолютно утвердиться в справедливости идеи ненасилия. Может быть, он опять впал в абстракцию, а тогда, в пылу спора, он был более искренним? Однако эти же идеи звучат с новой силой, когда он начинает размышлять о жизни и смерти. Опять на память приходит исповедь Тару. Когда он был юношей, отец, прокурор, взял его с собой в суд, чтобы сын мог присутствовать на процессе. До сих пор он привычно думал о главном действующем лице процесса как об «обвиняемом» вообще. А теперь этот человек был перед ним, всем своим видом напоминая сову, ослепшую от чересчур яркого света. Галстук сполз куда-то в сторону. Человек грыз ногти — на правой руке: он был живой. И вот, наконец, Тару присутствует при исполнении приговора, «при том, что вежливо именуется «последними минутами», но что следовало бы назвать самым гнусным из убийств»11!. Теперь он знал все. Он ушел от своего отца. Он стал бороться против этого мира, где убивают, а ему твердили о том, что надо еще и еще убивать, если хочешь создать общество, которое больше не убивало бы. И он верил в это до того страшного дня, когда ему лично суждено было присутствовать при смертной казни. В тот момент пелена окончательно спала с его глаз. «Вот тут я понял, что я, по крайней мере в течение всех этих долгих лет, как был, так и остался зачумленным, а сам всеми силами души верил, будто как раз борюсь с чумой. Я понял, что пусть косвенно, но осудил на смерть тысячи людей, что способствовал всем этим смертям, одобрял действия и принципы, неизбежно влекшие их за собой». Стало быть, существуют тысячи слегка зачумленных, и если мы принимаем доводы, которыми они руководствуются, мы не вправе отбрасывать и доводы главных зачумленных. Камю понял, что крайнее безразличие ведет к нацизму, с которым он сам боролся. Потом он начнет понимать,
==115
что здесь также не обойтись без насилия, как не обойтись без него в борьбе против нацизма. Чума обступает его со всех сторон, требуя от него пособничества. Он не без оснований чувствует себя изгнанником. За его спиной опять замаячили абстрактные силы. Он сыт по горло логикой. Он не хочет больше видеть на месте сердца зияющую дыру: «И я сказал себе, что, во всяком случае, лично я не соглашусь ни с одним, вы слышите, ни с одним доводом в пользу этой омерзительнейшей бойни. Да, я сознательно выбрал эту упрямую слепоту в ожидании того дня, когда смогу видеть яснее».
«Упрямая слепота». Самую суть позиции Камю, все, что было в ней общего и частного, непреклонного и «непритязательного», выразили эти два слова. Моральное мышление, в понимании Камю, можно охарактеризовать как пластическое мышление: речь идет не об идеях, которые могли бы найти применение в деятельности, а о непосредственном постижении удела человеческого в формах морали, так, как он запечатлевается в поступке. В этом одновременно и сила его, поскольку оно непосредственно, и слабость — поскольку оно неявно. Ничего не было бы более ошибочного, чем заключать моральные требования Камю в рамки теории. Здесь необходимы некоторые пояснения.
Жизнь для Камю не является первозданной и настоятельно необходимой страстью, которая имеет одну только цель — брать в плен и подчинять. Но этот факт ничего не объясняет. Жизнь, просто-напросто утверждающая себя без каких бы то ни было целей, это — характер и напряженность, и подчиняется-она исключительно собственным порывам. Если же она выбирает исступление и ожесточение, тем хуже для нее. Философии, не располагающей другими ценностями, не в чем упрекнуть ее, разве только в отсутствии обоснованности. Благодаря этому возникает впечатление монотонного повторения и пустословия, свойственных тем, кто в решающие моменты, которые не укладываются ни в какие понятия, обра-
==116
щается к самым общим словам: «Революция ради жизни, ради того, чтобы жизнь состоялась»; «верный путь — это тот, который ведет нас к жизни, к солнцу». Разумеется, все это так, кто же с этим не согласится? Но жизнь, сияющее будущее — разве это политика? Или, может быть, этика? И тотчас же все сказанное выше ставится под вопрос. Камю говорит, что жизнь
— это не понятие, а одержимость. Так-то оно так, но разве придание жизни высшей ценности и признание смерти абсолютным злом не влекут за собой обесценивание жизни? Жить любой ценой скорее всего означает жить без определенных ценностей. Часто бывает так, что за нравственной оценкой гибели человека (особенно во время войны) стоит всего-навсего биологический страх перед смертью.
Камю, несомненно, осознает эту двойственность сострадания. Но здесь он говорит не о жизни, и даже не о смерти; он говорит об убийстве. Его, как представляется, волнует не то, что люди умирают, а то, что люди убивают друг друга, и тем самым они, как и в случае с самоубийством, участвуют в абсурде, вместо того чтобы сопротивляться ему. По крайней мере, Камю одновременно думает и о том и о другом. Постоянно существующее в его произведениях напряжение между счастьем и ценностью принимает здесь вид отношения между жертвой и палачом. От имени счастья он принимает сторону жертв, от имени ценности
— разоблачает палача. Его сострадание — исключающее героизм, авантюризм, насилие, сомнительные ценности завоевателя — могло бы, следуя унизительной диалектике счастливого конца, привести его к безотчетной и строго дозированной жалости, которая постепенно занимает отведенное ей место в общем хаосе, лишь бы только не лилась кровь и не вершилось насилие. Но бунт против палача приводит в действие нравственность, которую тяга к счастью стремится усыпить.
==117
Более того, в действие приходит не одно только чувство, которое, если ничем не подкрепляется, грозит обернуться опасной сентиментальностью. Мы все вместе составляем мир, где убийство не являет собой исключительный случай, а убийца не стоит вне закона; в этом мире убийство институализируется, выступает в качестве одобренной правительством меры. Оно совершенствуется вплоть до того, что смертная казнь становится теоретически бесполезной, поскольку одной гнетущей угрозы смерти оказывается достаточно, чтобы получить желаемый эффект. Гитлер мог бы достичь того, к чему стремился, иными средствами, но он был одержим идеей войны; точно так же Европа начинает бороться за изживание страха смерти и одновременно не замечает разгула скрытых форм насилия. Смертные приговоры, независимо от того, приведены ли они в исполнение или лишь только вынесены, в тот исторический период, когда возрождаются пытки, являются не только действием, направленным против жизни, но и актом порабощения. Толстой, которого никак не назовешь сентиментальным идеалистом, сумел понять этот узловой момент: «Всякое порабощение одного человека другим основано только на том, что один человек может лишить другого жизни и, не оставляя этого угрожающего положения, заставить другого исполнять свою волю»!!2. Человека порабощает система, основанная на идее, согласно которой «те, кто наделен социальной функцией управления, имеют право определять жизнь других людей в соответствии с этой системой и обладают необходимыми для этого способностями»113. И вновь перед нами абстрактные силы. Толстой, как и Камю, увидел источник зла там, где человек в своем отношении к другому человеку подчиняется абстрактной силе. Он сравнивает политическую науку с религией. Толстой обвиняет ее в том, что она пропагандирует то же суеверие, полагая, что, «кроме обязанностей человека к человеку есть еще более важные обязанности к воображаемому бытию. Для богословия
==118
воображаемое существо это — Бог, а для политических наук воображаемое существо — Государство»114. Редко убивают по злому умыслу, рассуждает Камю, убивают по неведению: неведение доверчиво к любому знанию, а стало быть, к абсолютным идеям и всякого рода мессианству. Именно поэтому оно санкционирует убийство. Убивают, руководствуясь главным образом абстракциями: ради идеи предают забвению неизбывную красоту как самого мира, так и конкретных людей; в ослепленном мире слепая идея порождает палачей и орудия смерти, и действие их все более расширяется и расширяется115.
Толстой осуждал абстрактные схемы, абстрактные системы идей, авторы которых — Гегель, Конт, Спенсер рассматривали человеческое общество как некий механизм и направляли его действие по двум путям; оба они были бесчеловечны: отрицая за конкретным индивидом ответственность за зло, совершаемое в обществе, они оправдывали царящие в нем беспорядки имманентной логикой, свойственной обществу как целостности; они отклоняли любой протест против какого бы то ни было угнетения, ссылаясь на необходимость, господствующую в Системе. С тех пор система обросла плотью: из учебников по философии она проникла в органы правопорядка, и философы — все как один — превратились в ее защитников. Абстракция обрела власть. Одного разоблачения абстрактных сил стало недостаточно: настолько заявила о себе необходимость бунта против абстрактной Силы. Отныне Камю всецело посвятит себя этому. В «Праведных» он пытался как можно более аргументированно высказаться за оправдание тех, кто — в пылу бунта или по зову сердца — притесняет и убивает. У Камю они заслуживали только одного — оправдания: убивая, они жертвуют собственной жизнью. Довольно слабый аргумент: как если бы смертью можно было искупить смерть. Ведь на смену им придут другие, и они тоже будут оправдывать убийства, уже ни в коей мере не жертвуя
==119
собственной жизнью. Этот порочный круг надо сразу же разорвать.
В тех условиях Камю с его человеколюбием, замешанным на политическом инфантилизме, было трудно устоять перед старой привязанностью к анархизму. Все вертелось вокруг одного и того же вопроса: можно ли обойтись без абстракции? И еще: а что если абстракция, таящая в себе опасности, необходима как раз там, где речь идет о движении человечества вперед? Есть резон считать, что абстракция тесно связана с разложением общества, с его бездушием, являясь лишенной разума машиной, сеющей вокруг себя смерть. Но ведь абстракция лежит и в основании целых эпох, отмеченных взлетом мышления, искусства и веры, — вспомним искусство древнего мира, логику греков, тринитарные споры или науку времен картезианства. Абстракция стояла у истоков и социальной жизни как таковой. Всеобщий бунт против абстракции, который одновременно направлен и против ворчливых служащих наших мэрий и против тоталитарного Левиафана, сам является абстракцией. Вот почему таким уязвимым оказывается «Осадное положение». Оно не предлагает никакого разумного действия. Строго говоря, недооценка абстрактных сил толкает на путь катастрофизма, — а это не тот путь, на котором можно уберечься от отступничества. Подобный отказ от посредничества наиболее характерен для экзистенциалистского мышления. Это совсем как у математиков, которые, в конечном итоге, придали камню форму самого камня, или у программистов, которые, стоит нам только захотеть, способны создать проект справедливого общества, если само оно предрасположено к справедливости.
Но каждый человек имеет свой собственный, правда весьма ограниченный, взгляд на вещи, что придает ему особую весомость. Когда Камю не впадает в заблуждения, оставляя другим интеллигентское умничанье, он приближается к каждому из нас, чтобы силой своего
К оглавлению
==120
слова напомнить нам о нашем человеческом достоинстве, о сострадании и чувстве стыда. Здесь все еще чувствуется его близость к Толстому. Ни от того, ни от другого нельзя требовать, чтобы они оценивали общество исключительно с точки зрения политической. Если бы они захотели именно в этом ракурсе судить об обществе, они точно так же заблуждались бы, как заблуждаются те, кто ищет в обществе одну лишь политику или, напротив, выводит общество за пределы политики. И те и другие в силу своего ремесла смотрят на политику со стороны, когда она оказывается неспособной усыпить нас более ни своими софизмами, ни апелляцией к инстинкту соучастия, благодаря которому будто бы можно построить «совершеннейшее общество», где воцарились бы мир и спокойствие. Мертвящий покой — вот результат сплочения индивидов в Систему, которая официально признается невинной. В них осталось только пробудить жажду преступлений. Миф о топтании на месте, который переходит из «Чумы» в «Осадное положение»"6, приобретает в это время особое звучание. Мир Системы прямо противоположен миру протеста. Ее дьявольская затея заключается в том, чтобы усыпить чувство протеста с помощью размеренного хода своего механизма, гипнотически воздействовать на граждан (здесь явно прослеживается влияние Бернаноса — его мысль о том, что дьявольское невидимыми путями все больше и больше проникает в нашу повседневную жизнь). Современная система подавления усыпляет в человеке чувство бдительности, действуя неслышно, рассчитывая и доводя до совершенства каждое свое движение. Интеллектуалы, поначалу протестующие против нее, вскоре подпадают под ее воздействие, ученые пытаются остановить ее ход, равнодушные ко всему люди погружаются в спячку. Остальное берет на себя страх. Куда ушли те времена, когда невмешательство таило в себе многообещающую, хотя и трудную победу над бесхарактерностью? Теперь оно заняло подобающее ему место — сразу после унижения. Разве
==121
не очевидно для писателя, автора «Постороннего» и «Недоразумения», что появление духовных роботов столь же опасно, как и зарождение нацизма, прямо вытекающего из абсурда? Во второй раз Камю вступает в противоречие с собственной логикой. В тот момент, когда вслед за Богом умирает и человек, когда в бессодержательном деянии «все грозит не иметь продолжения», остается только одно: искать того, кто посягнет на абсолют, кто, изжив свой страх, готов мужественно заявить о неодолимой сипе человека. Как раз силу такого человека воспевает Апокалипсис, силу, которая ни в одном произведении, написанном до «Осадного положения», не одерживала победу. И «силу эту ни за что на свете нельзя приуменьшить: она — ничем не прикрытая страсть, смешанная со страхом и отвагой, слепой порыв, не знающий поражения». Человек, и только он один, в состоянии побороть страх, и Система, скрежеща зубами, отступает, обнаруживая свое бессилие перед ним. «Мне надлежит быть хозяином всего, а я не владею ничем». XX век будет веком таких людей — благодаря им Камю обрел героизм.
Но суть его последних произведений никак не сводится к поискам подобных героев свободы. У него есть и другие персонажи, и к ним он питает чувство «безграничного сострадания»!17. Диктатор-Чума проповедует философию отчаяния и одиночества, пытаясь добавить сюда презрение к человеку: разве не такие же слова мог нашептывать на ухо Камю его немецкий друг, с которым он в 1942 году вступил в спор относительно опасных последствий сознательного неучастия? Но Камю, как и Бернанос, не свернул на проторенную дорогу, ведущую от отчаяния к презрению, а пошел другим путем. Для него эти несчастные не были одержимы бескрайней верой, их редкий бунт напоминал скорее конвульсии изнемогшего животного, они были отравлены, неизлечимо больны. И Камю видел их скорее жертвами, чем жестокими палачами. Его гнев сосредоточен в таких
==122
словах: «Я презираю одних только палачей». Он хранит верность той части человечества, которая оказалась обездоленной. Последним утешением насилию может служить то, что его враги используют его, чтобы бороться против него же самого: стало быть, когда оно теряет силы, они подпитывают его, и так длится из века в век. «Без страха и ненависти — вот в чем наша победа». Распалиться — значит начать убивать. Камю предпочитает злую, хлесткую иронию, которая потрясает, не оставляя, однако, после себя следа, поскольку таким следом может быть только стыд. Отвергая невинность, которая, заявляя о себе, тем самым оправдывает преступление, он вместе с тем постоянно размышляет о невиновности и о виновности, как это сегодня свойственно всем людям; говоря о виновности, Камю ссылается на человеческую слабость, и слабость эта — не абстрактная и бездейственная, каким является безразличие; она живет в сердцах тех, кто испытывает вину, как неслышимая мольба о помиловании, но она тут же становится требовательной, как только чувствует, что ей сострадают. «Зло, царящее в мире, почти всегда проистекает от незнания, и добрая воля может принести столько же вреда, что и злоба, если не обладает ясным видением». Этими людьми надо скорее восхищаться, чем презирать их. Мы говорили о демоническом, но в мире, понимаемом таким образом, нет места для дьявола; это — скорее Средиземноморье времен Платона, чем Средиземноморье периода испанской войны. Каким бы трагическим ни был мир, о котором говорит Камю, под афинским небом всегда достанет тепла и света, чтобы залечить раны. Каждый человек однажды вновь становится человечным: журналист Рамбер, который раньше руководствовался только любовью с ее эгоистическими интересами; прокурор г-н Огон, который до смерти своего ребенка казался восковой фигурой; исключение составляет не заслуживающий никакого прощения Палач, хозяин Системы, и его секретарша, пунктуальная и бессмысленная
==123
исполнительница, но и та, столкнувшись с человеческой гордостью, вдруг почувствовала себя слабой, как если бы рядом с ней промелькнула тень спасения. Что здесь перед нами — новое безразличие, безразличие сострадания, имеющее один-единственный шанс, чтобы проявить себя? Но каким образом этому исключительному случаю, выступающему от имени абсолютного зла, удается не разрушить умиления, свойственного сентиментальной этике, которая, как представляется, прорастет здесь?
Чем-то вроде квиетизма веет от духовных исканий Камю. Африканская неистовость, которая замешана на контрастах и борьбе, вступает с ним в единоборство. Зот почему, несомненно, мы нашли в его метаниях столько своеволия и такую жажду дисциплины: необходимо взорвать безмятежное,.дремотное безразличие Средиземноморья — или смириться с ним. Когда Камю ведет диалог, он, как кажется, ведет борьбу против безалаберности.
Может быть, борьба против этой онтологической безалаберности, которой он предается с таким упоением, началась тогда, когда Камю находился под сильным влиянием своего первого учителя Жана Гренье? Но мораль, отстаивающая честь мундира, это еще не вся мораль. Когда Камю воодушевленно выступает в защиту сильных человеческих страстей, он оказывается не просто вне политики: протест, умиление, слепое упорство, отчаянное мужество. Любовь к людям никак не сводится к усилиям заполучить их ответное чувство; она состоит в том, чтобы взять на себя их судьбу, идти рядом с ними по топким болотам, разделять все тяготы жизни; это значит в определенной мере участвовать и в их неправедных делах. В противном случае мы не имеем права говорить о нравственности. Непритязательность — это либо скрытая надменность отступничества, либо расчетливое и изобретательное великодушие. Камю слишком часто изменяет себе, чтобы распознать, в чем же он остается самим собой.
==124
Мы видим, что он стоит на пороге нового мира, хотя все еще на перепутье; сзади — все то, с чем он хотел бы расстаться, впереди — все то, что ему предстоит открыть. Было бы преждевременно утверждать, что он совершил подлинное обращение. Сигнальные знаки начинают светиться, когда наступает темнота. Безусловно честный и требовательный в отношении к себе самому, он идет наощупь. Что главное в Диэго, этом двойнике Камю из «Осадного положения»? Гордость? Надменность? Конечно, но если в этом его упрекает враг, то это говорит о чем-то еще. О сострадании? Разумеется. Но только не о Милосердии: он умирает в одиночестве, продолжая твердить: «Нет, справедливости нет, есть только границы»ш. Между тем в искусном балансировании между счастьем и ценностью, благо-
•даря которому произведения Камю получают всеобщее признание, в конечном итоге, когда речь идет о главном, ценность берет верх. «Я выполнял все то, что диктовала мне сила», — прохрипел умирающий Диэго, которому пришлось пожертвовать своей любовью «ради безумной идеи о человеке». «Но такая сила истребляет все, рядом с ней нет места счастью». Впервые благодаря этой победе в книге Камю повеяло духом надежды. «Кто говорит об отчаянии? Отчаяние
— это намордник. Раскаты надежды, зарницы счастья разрьюают тишину осажденного города». Может быть, надежда и есть доверие, которое счастье испытывает по отношению к ценности? В недавних работах Камю послышались неясные удары. И вот препоны лопнули. Свобода завоевана. Может быть, мы знаем, к какому берегу она устремляется? Не об этом ли говорит старый пьянчужка Нала: «Нельзя достойно жить, если считаешь, что человек ничего не стоит и что лик Бога «отвратителен». Мы не знаем, к какому берегу приближается свобода. Разве имеет значение, какая дорога ведет к великодушию? Надо только, чтобы на этом нелегком пути нам хватило провианта и чтобы мы
==125
могли ориентироваться по звездам и знать, куда они нас зовут». Бесспорно, начиная с «Чумы», когда творчество Камю становится особенно проникновенным, в нем чувствуется некоторое замешательство: «иссяк не сам человек — истощились питающие его истоки». Ему советуют отыскать новые истоки. Нельзя без горечи взирать на то, что высоким духовным помыслам грозит истощение.
ПРИМЕЧАНИЯ
' Очерк был опубликован в «Esprit» в январе 1950 г.
2 Le Mythe de Sisyphe. Gallimard, p. 89.
3 Ibid., p. 69-70, 101.
4 Ibid., p. 92.
5 Ibid., p. 32.
6 Ibid., p. 66.
7 Ibid., p. 70.
4bid-, p. 37, 49, 55, 173.
"Ibid.,?. 60, 71.
10 Ibid., p. 22, 37, 45, 75, 88.
" Ibid., p. 152, 180.
12 Ibid., p. 87.
"Ibid.,?. 156.
14 La Peste. Gallimard, p. 277.
15 Le Mythe de Sisyphe, p. 60.
?« О бунте см.: L'Existence. Gallimard, p. 9.
"Le Mythe de Sisyphe, p. 83. 86.
18 L'Etranger. Gallimard, p. 27, 108, 141.
?9 La Peste, p. 216.
»Le Mythe de Sisyphe, p. 18, 36.
21 Le Malentendu. Gallimard, p. 97.
22 L'Etranger, p. 129.
23 Les Conquerants.
24 Le Mythe de Sisyphe, p. 49.
» Ibid., p. 21.
^Noces; Le Mythe de Sisyphe, p. 63, 69, 71, 93.
27 Le Mythe de Sisyphe, p. 21.
28 Ibid., p. 77.
29 Ibid.
»Ibid., p. 48, 50, 54, 77.
==126
31
Ibid., p. 156.
i2 La Peste, p. 147.
я Le Mythe de Sisyphe, p. 120.
34 Le Malentendu, p. 36.
35 Caligula. Gallimard, p. 136, 182. 3« Remarque sur la revolte, p. 18.
37 La Peste, p. 106, 204, 307.
38 Ibid., p. 157; Lettres a un ami allemand, p. 76.
39 Ibid.
•»«Caligula, p. 112, 122.
••? Le Mythe de Sisyphe, p. 137, 139. "Noces, p. 89.
43 Le Mythe de Sisyphe, p. 96.
44 La Peste, p. 241, 337.
45 Le Mythe de Sisyphe, p. 54.
46 Ibid., p. 151.
47 La Peste, p. 49.
48 Noces, p. 68-69.
49 Le Mythe de Sisyphe, p. 74, 157; La Peste, p. 317-318. s» Le Mythe de Sisyphe, p. 50, 125. si Ibid., p. 74-75.
52 Ibid., p. 80.
53 Noces, p. 35; Remarque sur la violence, p. 9.
54 Le Mythe de Sisyphe, p. 131, 136, 157.
55 Ibid., p. 38.
56 О противопоставлении очевидности разуму см.: La Peste, p. 102, 193.
57 Le Mythe de Sisyphe, p. 86. 54bid., р. 87-90, 93, 98, 118-119. 5!'Ibid., p. 108—109. 6» Ibid., p. 153. « Ibid., p. 76. "Noces, p. 68.
63 Ibid., p. 79, 99.
64 Le Mythe de Sisyphe, p. 50. " Ibid., p. 148.
66 La Peste, p. 85, 88.
67 Caligula, p. 126—128.
<я La Peste, p. 318.
69 Le Mythe de Sisyphe, p. 131.
==127
70
Ibid., 75: «вино абсурда и хлеб безразличия»; Caligula, p. 168: «вино твоей равноценности». 7' См.: Sartre J.-P. Situation. I. 72 Le Mythe de Sisyphe, p. 167. "Ibid., p. 86-87, 96, 148, 167.
74 L'Etranger, p. 58.
75 Le Mythe de Sisyphe, p. 76—77.
76 Ibid., P.98, 165. "L'Etranger, p. 159.
78 Le Malentendu, p. 52, 96, 98.
79 Le Mythe de Sisyphe, p. 117.
80 Le Minotaure. — «Fontaine», 1946, juin.
81 La Peste, p. 106.
82 Ibid., p. 200-210. "Noces,?. 79, 99.
84 Ibid., p. 100.
85 Le Mythe de Sisyphe, p. 90.
86 Noces, p. 45, 91, 102; Le Minotaure.
87 Например: «вселенная льда и пламени» (Le Mythe de Sisyphe, p. 83); «полярная ночь, ночь бодрствующего разума, из которой, быть может, родится то безукоризненно белое сияние, где каждый предмет предстанет в свете сознания» (Ibid., p. 89); «эти существа из льда и пламени» (Ibid., p. 148); «эта бесцветная и бессловесная тишина могла быть следствием зноя, но и беды» (La Peste, p. 161).
88 Le Mythe de Sisyphe, p. 102, 110.
89 L'Etranger, p. 18, 31 (Meursault); La Peste, p. 58, 73 (Cottard).
90 Noces, p. 90.
91 Le Mythe de Sisyphe, p. 104.
92 Ibid., p. 76.
93 La Peste, p. 270.
94 Le Mythe de Sisyphe, p. 114.
95 Le Siecle de la peur. — «Combat».
^-e Lettre a un ami allemand. Gallimard. Ecrit en decembre 1943.
97 2-е Lettre, p. 36.
9S Remarque sur la violence, p. 22; 4-e Lettre, p. 72.
99 Le Mythe de Sisyphe, p. 121.
100 Remarque sur la violence, p. 12. »? La Peste, p, 187. 102 Ibid., p. 183.
==128
?03 Remarque sur la violence, p. 13, 22.
?»4 La Peste, p. 149.
?05 Le Siecle de la peur. — •»Combat».
ч* «Ni victimes ni bourreaux» — название серии статей, опубликованных Камю в газете «Combat».
"" L'Etranger, p. 143.
?08 Sauver les Corps. — «Combat»; La Peste, p. 51.
109 Lettres a un ami allemand, p. 18.
"» Ibid., p. 19.
n1 Эти строки из «La Peste» (p. 272) почти дословно повторяют слова Толстого из трактата «Так что же нам делать?». В памяти всплывает также «Affaire Mauritzius».
112 Толстой Л.Н. Так что же нам делать? М., 1906, с. 114.
113 Dernieres paroles.
114 Толстой Л.Н. Так что же нам делать? с. 130.
45 La Peste, p. 145, 150, 183; Le Siecle de la peur. — «Combat».
46 L'Etat de siege, p. 131, 175.
117 La Peste, p. 213.
118 Спасать человека, пишет Камю в одном из писем к немецкому другу, — «это значит не калечить его, это значит делать ставку на справедливость, которая понятна только человеку».
==129
1.
Критиковать экзистенциализм с христианской точки зрения? Здесь я трижды оказываюсь в затруднительном положении.
Прежде всего, «экзистенциализм» — это очень неясное, или широкое, понятие. Когда с экзистенциализмом связывали легковесные споры в кафе или, напротив, серьезные, фундаментальные исследования Сартра, я посчитал, что было бы небесполезно нарисовать во всей его мощи древо экзистенциализма2: оно укоренено в трудах Паскаля и Кьеркегора; одна из его ветвей — предшественники Сартра: Гуссерль, Хайдеггер, Ницше, другая — Шестов, Бердяев, Блондель и Бубер, Ясперс и Габриэль Марсель; на исходе довольно бесплодного ХГХ века оно дало сразу два побега — мощный атеистический и вновь набирающий силу побег христианский. Я говорю это вовсе не для того, чтобы умалить значение Сартра, а чтобы обрисовать его окружение и поставить перед ним целый ряд вопросов. К тому же, было бы трудно вести с ним диалог, не вовлекая в него как тех, кто в той или иной мере близок к нему, так и тех, кто расходится с ним. Поскольку данная работа адресована людям здравомыслящим — а таковых немало — ив ней мы будем касаться довольно сложных проблем, мы заранее отказываемся от последовательного изложения этих концепций и ограничимся передачей их основного духа; вместе с тем, мы оставляем за собой право свободно сопоставлять их друг с другом, а там, где речь будет идти об экзистенциализме Сартра, позволим себе говорить и о его возможных перспективах, которые открываются самой этой концепцией, но которые так и остались неиспользованными.
К оглавлению
==130
Второе затруднение заключается в том, что от меня ждут, чтобы я—в том числе и на страницах данной книги — выступил в качестве одного из критиков Сартра. Я стеснен этим обстоятельством в той же мере, что и официант в кафе из «Бытия и ничто», когда его хотят видеть исключительно официантом в кафе (и никем другим), с чем он не может смириться. И все-таки я не думаю, как это свойственно современным критикам, исповедующим бесплодный либерализм, что нашей единственной и неукоснительной задачей перед лицом нового мышления является то, чтобы мы поняли его, объяснили, показали свою осведомленность и готовность судить о нем. Но понять, прояснить, раскрыть суть нового мышления (особенно если. речь идет о зарождающемся мышлении), даже если мы и не разделяем его основных положений, постичь замысел автора и сделать его доступным для других людей, а также через него понять самого себя, — решение этих важных задач должно предварять любую критическую рефлексию. И если критик сумеет подняться на уровень этих задач, то его анализ, как бы нелицеприятен он ни был, окажет свое полезное действие.
Даже если мышление Сартра вызвано модой, то нельзя утверждать, что оно достаточно освоено, чтобы о нем можно было судить вполне достоверно, я не имею в виду карикатурное его изображение, когда его высмеивают, руководствуясь единственным желанием — выставить в нелепом виде. Перед лицом своих главных ниспровергателей — христианских и марксистских мыслителей, а также философов-рационалистов, которые сообща набросились на него, — оно выглядит в некотором роде, и правда, скандальным. Эти ниспровергатели реагируют на экзистенциализм раздраженно, ожесточаясь против него, но одновременно и обороняясь; их критика не всегда проницательна и справедлива. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с трудами Габриэля Марселя, Бенда или Анри Лефевра. В отличие от них Фран-
5*
==131
сие Жансон в своей замечательной работе, отмеченной высоким профессионализмом и ясностью изложения, подошел к своей задаче по-другому, пытаясь проникнуть внутрь изучаемого явления3. И если, сопоставляя перспективы анализируемых в данной работе концепций, я буду в своих суждениях (правда, не столь отточенных, как суждения Жансона) еще строже, чем он, я все-таки надеюсь, что это никак не скажется на моем уважительном отношении к автору, чью точку зрения я здесь разбираю. Судить необходимо, но судить без высокомерия и предвзятости, не поддаваясь первому впечатлению, — а это особенно трудно, когда имеешь дело со столь неординарным мышлением. У меня, если основываться на первых впечатлениях, возражений в адрес Сартра ничуть не меньше, но в данной работе я хотел бы представить его концепцию в новом аспекте — и в постоянном развитии, к чему побуждает нас само его мышление, обладающее сильным воздействием.
Наконец, меня просили вынести суждение от имени «христианского мышления». К сожалению, я не знаю, что это такое — «христианское мышление». Единой христианской философии не существует более, как не существует и единой христианской социальной доктрины или христианской политики. Дух христианства пронизывает всю человеческую историю, как и историю философии, распадающуюся на множество разнородных концепций; их развитие на протяжении двух веков в одном из кантонов латинской Европы было всего лишь предпосылкой для дальнейшего расцвета философии. События христианской истории питают философское мышление, но они лежат по ту сторону философии, и христианские философы еще не обрели подлинного согласия в том, какими путями они оказывают влияние на философию. Кто в споре с Сартром может выступить от имени «христианства»? Св. Августин — или св. Фома? Трагический мыслитель Паскаль — или взявший на себя роль посредника Лейбниц? Кьеркегор — или Маритен?
==132
Христианство — это евангелие жизни, но вовсе не философия. Безусловно, миссия христианства заключается в том, чтобы быть хранителем философии, как и общественных институтов и церковных храмов, чтобы выступать гарантом меры человеческого в облике отдельного человека и в делах людских, поддерживать добродетель и отстаивать право на самостоятельность в мышлении, и вместе с тем оно не должно ограничивать свою деятельность ни одной из указанных задач. Сегодня, как никогда, христианство стремится обрести себя, освободившись от тяжкого фуза прошлых эпох. Вот почему обосновывать перспективу христианской философии, опираясь на то или иное отдельное высказывание, вырвавшееся в пылу полемики у какого-нибудь частного мыслителя, или на ту или иную точку зрения, в которой отразились позиции наиболее ревностных его адептов, значило бы обманывать и себя, и своих читателей. Отдельный критически настроенный мыслитель может содействовать выявлению христианского взгляда на мир и его историю, хотя суждения "его, безусловно, будут иметь ограниченный характер, поскольку основываются исключительно на личном жизненном опыте. Именно в этом смысле мое исследование может ответить на те вопросы, которые стоят перед ним. Однако попутно замечу, что противопоставление христианства и экзистенциализма с целью выяснения их взаимных отношений стало бы как раз самой яркой иллюстрацией того, что экзистенциализм называет неподлинным мышлением. С моей стороны было бы претенциозным, и даже преступным, если бы в своей критической деятельности я стал бы предписывать христианскому видению какие бы то ни было границы. Не раз, правда, случалось так, что атеистически настроенные философы, анализируя современное им христианство, находили в нем такие аспекты, которые приводили его в замешательство и от которых оно поначалу открещивалось, а впоследствии объявляло их своей неотъемлемой собственностью. С другой стороны, цело-
==133
мудрие, духовная чистота, определенного рода бескорыстие и великодушие является более надежными средствами, чем к месту или не к месту рассыпаемые проклятья.
Наконец, стало уже привычным, что, когда зарождается новая философия или новая политическая доктрина, христианин оценивает их прежде всего с точки зрения моральной, даже морализирующей: ваши идеи ведут вас к таким-то и таким-то выводам, которые несовместимы с христианской моралью; стало быть, они заслуживают осуждения. Подобный ход мысли вызывает раздражение, а христианин не в состоянии понять, почему так происходит. Прежде всего раздражение обусловливается той легкостью, с какой выносится суждение: та или иная философия, те или иные политические взгляды основываются на анализе структур и фактов, которые надо изучать так, как они существуют на самом деле, со всей строгостью и технически безукоризненно, а не оценивая их в соответствии с общими моральными требованиями. Далее, между мыслительной схемой и тем, как она осуществляется или готова осуществиться на деле, действуют внешние по отношению к ней силы, изменяющие ее характер, и эти силы мы не можем привлечь к ответственности: что было бы, если бы мы подходили к христианству с мерками тех времен, когда Римом правили Борджа, вменяли бы ему в вину спекуляцию предметами религиозного культа, бесчинства инквизиции, драконовские меры современного капитализма? Часто столь же поспешно осуждают экзистенциализм или марксизм по их последствиям, действительным или мнимым. Всегда надо смотреть вперед. Чтобы осудить ту или иную деятельность — философскую или религиозную — недостаточно идти по проторенному пути, как недостаточно и выбрать некий третий путь. Каждый путь пролегает между пропастями, каждый чреват собственными трудностями и постоянно грозит обернуться карикатурой на самого себя. Христианство, насколько мы его понимаем (возможно, и не совсем правильно), рискует вызвать
==134
ложные представления о себе как об учении, которому свойственны такого рода явления, как благочестивый фатализм, обесценивание идеи провидения, лицемерный мазохизм, вульгаризация добродетелей смирения, веры, надежды, милосердия, наивная доверчивость, самоуспокоенность, неизбывный сентиментализм. Да что тут говорить! Вероятно, существует немало таких христиан, которых скорее удовлетворяет подобная тень христианства, а не его подлинный облик. Тех (а их действительно много), кто вместе с Ницше судит о нем таким образом, мы призываем вернуться к подлинному христианству, поскольку они искажают его ничуть не меньше, чем это делают его откровенные ниспровергатели. Какой такой злой умысел заставляет нас искать точки соприкосновения с экзистенциализмом, от чего мы ранее отказывались? То, что бесчисленное множество отчаявшихся посетителей пивных становятся горькими пьяницами? То, что разложение обанкротившегося общества сопровождается у Сартра похоронным пением? Разве тот, кто все это осуждает, автоматически осуждает и самого Сартра? Или его не одолевают легкомысленные последователи, как одолевают путешественника на каком-нибудь железнодорожном вокзале в Испании ватаги голодных нищих, предлагающих свои услуги носильщиков, чтобы, буквально выхватив из его рук чемодан, тотчас скрыться с ним, даже не поинтересовавшись его содержимым? И мы говорим о том, что экзистенциализм уязвим, если иметь в виду его методологию, определения, суждения, но не получится ли так, что, разоблачая его слабые стороны, мы лишим его всякого позитивного значения? Не лучше ли было помочь ему, выявив его подлинное содержание и открывающиеся перед ним перспективы? Мы отвечаем положительно на этот вопрос, и поэтому наша критика будет вестись скорее в форме диалога, чем в форме безукоснигельных предписаний. Она будет касаться в первую очередь глубинных просчетов экзистенциализма, а уж потом его практических выводов, о которых всегда
==135
можно судить, исходя из его философских основоположений.
Таковы принципиальные соображения, которые я хотел бы высказать, прежде чем приступить к главному вопросу. Собственно, с этого я и начинал. И экзистенциализм, и христианство заняты поиском подлинности. И для того, и для другого истина доступна лишь при условии, если следовать определенным требованиям, среди которых прежде всего необходимо особо выделить бдительное отношение к самообману. Мы будем вести диалог, оставаясь на этой общей и для экзистенциализма и для христианства почве.
Один из парадоксов нашего времени заключается в том, что экзистенциализм в первую очередь был воспринят как атеизм и даже — Сартр прямо указывал на это — как наиболее целостная и последовательная атеистическая концепция. В чем, однако, в действительности состоит суть экзистенциалистского протеста? «Я не являюсь ни вещью, ни тем объективным существом, которое познают, водружая его, как анатомический предмет, на лабораторный стол, ни безличным телом, увлеченным природным потоком и определяемым в своем движении его закономерностями. Я семь существующий, то есть существо, возникающее в подчиненном закономерностям мире как абсолютная новизна, как центр инициативы, самоутверждения и свободы. Но это существо, разумеется, не пребывает вне мира, отдельно от мира; оно живет и обретает себя только в мире и только благодаря миру; однако обладая способностью к творчеству, оно превосходит мир и должно неустанно отделять себя от липкого скопища вещей, чтобы сохранять свою изначальную открытость возможностям, свойственную существованию. В определенном смысле именно благодаря мне существует мир, поскольку всему тому, что обретает неподвижность, свойственную самому миру: прошлому, привычному, очевидному, быть может, смерти, — я с помощью собственной свободы могу вернуть жизнь,
==136
стало быть, я могу очеловечить мир. Для меня, существующего, важно не эстетическое наслаждение вещами, не утилитарное преобразование мира, а подлинная жизнь, неустанное высвобождение моей свободы, бесконечная борьба с присущей вещам инерцией, чтобы не дать ей овладеть моей жизнью и моим мышлением, инерцией, которая всегда готова схватить меня мертвой хваткой, сковать, лишить движения». Трансцендирование человеческого существа, превосходящее и жизнь, и материю; мятежный характер духовного самоутверждения перед лицом любого окончательного суждения, идет ли речь о порядке вещей, о жизненном порыве или системе идей; суверенная сфера творческой свободы, в известном смысле делающая человека богом; внутренняя связь человека с материей, всю опасность которой для себя он осознает, — все это, как представляется, свойственно и христианской точке зрения. Можно сказать, что, как только христианский порыв начинает иссякать, на сцену выходит экзистенциализм и подпитывает его своей жизненной силой: св. Бернар, восстанавливающий приоритет спасения в борьбе против рационализма Абеляра; «Подражание», устремляющее веру против рационализма разлагающейся схоластики; св. Франциск, призывающий западное христианство жить в бедности; Паскаль, наполнивший тревогой христианскую душу в эпоху благочестивого конформизма и бездумного приспособленчества; Кьеркегор, расшатавший парадоксальностью веры прочную философскую конструкцию Гегеля, имевшую настолько всеобщий характер, что от нее ничего не ускользало и не оставалось никакого места ни тайне, ни тревоге.
Выдвинув эти духовные требования, экзистенциализм заявил также о трагизме человеческого существования в то время, когда в экономических и философских учениях господствовала унаследованная от XIX века идея гармонии, мистифицирующая проблему счастья и превращающая его в одно из самых убогих понятий духовного
==137
содержания. Непрочность человека, заброшенного в
мир; бессилие разума; повседневная угроза смерти; неотвратимое одиночество, даже если человек находится в самом тесном общении с другими людьми; постоянно преследующие человека опасности, какими чревато любое наше деяние; непреодолимая расколотость мира, в котором ему никогда не достичь целостного бытия, не пробиться ни к другому человеку, ни к самому себе, — таковы постоянные темы того, что несправедливо именуют «христианским пессимизмом» и что правильнее было бы назвать христианским трагизмом, если бы это драматическое противоборство могло окончиться для христианина победой. Стоит ли здесь снова возвращаться к Паскалю? Какое значение имеет то, что он утрировал это трагическое начало: ничто не может сделать его менее современным. И сегодняшний успех экзистенциализма объясняется не только нестабильностью нашего времени, лишенного идеалов, как об этом говорят представители и христианства, и марксизма; успех этот объясняется живым присутствием Паскаля в нашей эпохе, отмеченной высоким накалом драматизма. Он ведет к освобождению от вульгарного, ложного оптимизма, утвердившегося в наши дни благодаря буржуазным мистификациям и религиозному разложению. Исходя из этого, и марксизм, и христианство должны были бы признать положительное значение идей Паскаля, если в самом деле, как считал Маркс, для того, чтобы подняться на борьбу против нищеты, надо понять суть несчастного сознания, и если истинно, как утверждает христианин, что последнее слово Христа, прежде чем стать началом Воскресения, было криком отчаяния.
Наконец, экзистенциализм, не переставая подчеркивать, что возникновение человеческого бытия является сверхприродным фактом, говорит также и о том, что конкретное положение в мире для каждого из нас является точкой опоры и определяет границы нашего самосознания и позицию по отношению к миру. Таким
==138
образом, если человеку надлежит неустанно следить за тем, чтобы не увязнуть в мире, не дать «объективировать себя», то есть не превратиться в пассивный объект, ему в равной мере нельзя и отрываться от мира, погружаться в иллюзорные мечтания, предаваться меланхолии, утопическому прожектерству и мистификациям. Состоя из мирской плоти, человек держит мир в своих руках и в каждое мгновение берет на себя ответственность за его судьбу. Все эти темы, которые читатель может найти у Сартра, а также у Хайдеггера, Габриэля Марселя или Шелера, получают свое подлинное звучание только в религиозной перспективе, где ключевой, основополагающей проблемой является проблема Воплощения. Это правда, что христианство использовалось в качестве «идеала», что оно было опиумом, побуждающим к исступленной деятельности. Но в таком случае речь шла о «псевдохристианстве», христианстве, искаженном и фальсифицированном. Христианство началось тогда, когда один ангел сказал Апостолам, стоявшим на горе, с которой только что вознесся Христос, и смотревшим на небо: «Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Церковь жестоко, без промедления расправится с первыми ересями, в том числе и с гностическими, пытавшимися потеснить «вовлеченное» и историческое христианство и обосновать христианство «духовное». Св. Августин вскоре провозгласит, что град Божий и град земной связаны друг с другом неразрывно и на все времена. Монахи теперь не только молились, но и занимались физическим трудом. Подлинное христианство развивалось именно в этом направлении. И если сегодня все еще существует христианский профетизм, утверждающий смысл земной жизни и ценность истории, противопоставляя им утонченную, софистическую или герметически замкнутую религию, то, смыкаясь в этом с первоначальным христианством, он ни в коей мере не отвечает требованиям
==139
современной эпохи. И здесь модный ныне экзистенциализм также находит общие точки соприкосновения с фундаментальной темой христианства.
Этьен Жильсон, который отнюдь не относился отрицательно к подобной связи, рассматривая экзистенциализм как целостное учение, напомнил о том, что большинство его тем имеет религиозное происхождение и что даже в своем атеистическом варианте философия существования своей атмосферой, своими предпосылками, можно даже сказать, своими манерами, «остается единственной концепцией, которая рассматривает мир в тесной связи с религией»4; более того, все позиции экзистенциализма «имеют то же конечное обоснование, что и положения религии».
Однако совершенно очевидно и то, что ни Сартр, ни Хайдеггер, не являясь христианскими мыслителями, не могут не знать об этом. Предпринимая изучение этого весьма существенного сходства, которое — при всем отличии христианского экзистенциализма от экзистенциализма атеистического — делает их близкими друг другу» мы вместе с тем будем анализировать главным образом концепцию Сартра, пытаясь определить, в чем его позиции оказываются несовместимыми с позициями христианства.
2.
Как уже говорилось, мы начнем свое исследование экзистенциализма не извне, не сквозь призму «христианской морали», соединенной с социологическими предрассудками и живущими в нас пережитками, и не сквозь призму «христианской философии», которая не может быть ничем иным, как одной из концепций, существующих в рамках христианства; в таком случае экзистенциализм оценивался бы с позиций, которые сами вызывают сомнение, а не соотносился бы с требованиями, вытекающими из целостного христианского видения. По мере
К оглавлению
==140
того, как формируется светское общество и соответствующее ему мышление, критическая рефлексия проникается теологико-политическими представлениями, которые складывались веками и сопровождались усилиями, направленными на то, чтобы в них непременно присутствовал дух христианства. Не отрицая того, что эти представления сегодня играют определенную роль, и не предполагая, будто мы сможем когда-нибудь от них освободиться, мы тем не менее все больше и больше питаем надежды на то, что нам удастся выявить изначальные очевидные истины христианства, которые находятся по ту сторону всего того, что соединяет их с конкретными обстоятельствами. Речь никоим образом не идет о том, чтобы в условиях подъема, испытываемого современным мышлением, сбросить балласт и вернуть христианское мышление к исходным рубежам, которые затем признать единственно «существенными». Речь скорее идет о том, чтобы возродить христианское видение во всей его строгости и целостности, что позволило бы ему сохранять подлинность и актуальность независимо от обстоятельств и не вести бессмысленную борьбу за ложные основы, не обострять религиозные конфликты и споры, которые, если не учитывать всего только что сказанного, не так-то легко уладить. Таким образом, исследуя экзистенциализм, мы будем противопоставлять ему — по всем возможным направлениям — не христианскую философию, какой бы мы себе ее ни представляли, а фундаментальные христианские требования, которые находят воплощение в любой философии, относящей себя к христианству, касаясь при этом не частных, а основополагающих проблем.
Христианство не является онтологией, философией бытия; христианство — это прежде всего учение о природе и смысле истории, на которое оно опирается в своих воззрениях на мир и на человека. Мир сотворен во времени; это означает, что он несет в себе непреодоли-
==141
мый дуализм между собственным бытием и Бытием — как источником всякого существования. Но мир сотворен в акте любви, то есть в акте божественной любви как таинства, что уничтожает это непреодолимое различие, каким оно видится, если рассуждать от имени объекта: возможность Искупления, данная человечеству добродетелью Воплощения, подлинное причастие к тайной жизни Бога, вменяющее ему в качестве цели вовлечение всей Вселенной в процесс универсального восстановления, завершается тем, что приводит мир и человека к диалектическому единству с Первобытием. Существование человека во времени наделяет это единство надеждой, которой никогда не суждено осуществиться, но которая всегда живет в нас, и мы постоянно испытываем ее воздействие. Христианская философия развивается в непрестанной заботе о достойном прославления единстве мира, но путь ее ежечасно отмечен трагизмом, проистекающим из непреодолимого дуализма человечества — его сотворенности, с одной стороны, и конкретного
присутствия в истории — с другой.
Каждый из нас с первых мгновений своего существования непосредственно испытывает воздействие конкретных обстоятельств, если только мы не находим утешение с помощью какого-нибудь легковесного «гуманизма», о котором справедливо писалось в «Тошноте», и нам не избежать шокового состояния от ощущаемого нами абсурда, чувства одиночества, бессвязности впечатлений. Любой экзистенциализм, в той мере, в какой он характеризуется только что отмеченным подходом в рассмотрении философских проблем, является, по меньшей мере в начальный период, плюралистическим и пессимистическим. Это справедливо как в отношении религиозного экзистенциализма, экзистенциализма Паскаля и Кьеркегора например, так и экзистенциализма атеистического — Хайдеггера или Сартра. Как отмечал Левинас, тревога, о которой они говорят, — это не страх, испытываемый нами перед ограниченностью бытия или связан-
==142
ный с ним страх перед лицом ничто. Это — тревога самого существования. Для любого более или менее содержательного опыта существование, если не считать тех редких минут, когда на него нисходит благодать, испытывает какую-то внутреннюю отягощенность, нечто вроде болезни бытия, досадную необходимость, смысл которой сокрыт внутри самого бытия. Сартр, всегда предпочитавший религиозному языку язык логики, так анализирует это изначальное чувство, свойственное осознанию случайности бытия: существование не является необходимым; существовать — это просто-напросто бытъ-здесь; существование не полагает себя, оно не полагает ничего; существование — это всегда «встреча», всегда «столкновение», и ничего более — никакой необходимости, никаких априори; «ничто не имеет права на существование», можно даже сказать: ничто не предрасположено к существованию, не испытывает радости существования; все это «излишне». Каким бы скупым ни был язык, на котором говорит Сартр, но и он не может не удержаться, чтобы не сказать, что нам необходимо «смыть с себя грех существования».
Марк Бейгбедер, имея в виду воспитание Сартра, подчеркивает его протестантизм. И в самом деле, среди христианских экзистенциалистов именно протестант Кьеркегор вполне определенно говорит о «грехе существования». И если христианину не пристало видеть в «бытии-в-себе» проклятье, то экзистенциалистские формулировки относительно «зла существования» странным образом напоминают суждения Лютера о мире как о «совокупном пристанище греха», где речь идет не о мире как таковом, не о его "бытии, а об изначальном зле, порожденном нашей деятельностью. Марксист, в свою очередь, сказал бы, что эта тревога является психологическим следствием социального отчуждения в мире, который еще не встал на путь социалистического развития. И христианин, и марксист могли бы в той или иной мере считать, что зло имеет значение, что оно действительно
==143
существует (католик, например, всегда будет ждать от больного человека, пораженного бытием, большего, чем сторонник реформаторетва). Но это их негодование, по крайней мере в данном случае, не достигало бы цели, поскольку здесь нет и намека на метафизику злодеяния. Применяемый Сартром феноменологический метод состоит в том, чтобы видеть и описывать вещи такими, какими они предстают перед сознанием, когда внимание человека сосредоточивается на чисто внешней стороне явлений и субъект не проникает в них, опираясь на свою способность к преобразовательной деятельности, не ищет того, что стоит за видимыми явлениями, — второго мира, откуда он мог бы черпать силы для собственного бытия. Вселенная греха, заключенная в рамки чистого описания, подобна внутренней ране, свидетельствующей о том, что в этом мире каждое бытие и каждое действие отмечено Отсутствием, которое наряду с Искуплением и Благодатью свойственно обычному ощущению. Когда утверждают, что феноменологическое описание не в состоянии открыть перед нами все грани бытия и особенно присутствие в нем Благодати, о которой говорит вера, то тем самьм хотят вернуть верующего на позиции целостного мировосприятия перед лицом частного экзистенциального опыта. Сартровское описание, каким бы ограниченным оно ни было, стоит ближе к такому подлинному видению, чем улыбка Сан-Сюльпис или лейбницевское представление о гармонии.
Одним из последствий этого ранения бытия является его расколотость, и мы не в состоянии за осколками увидеть само бытие. Мир — это расколотый мир (Габриэль Марсель). Нам не дано иметь образ, в котором бытие представало бы в своей целостности. Одни скажут, что Бог — это сокрытый Бог, который заставляет нас жить, руководствуясь неясной верой и полным противоречий разумом, и только в конце своего пути мы можем прийти к озарению; они будут подчеркивать эту неясность и эту противоречивость (Паскаль, Кант, Кьеркегор), выступая
==144
против рационалистических концепций, которые выдают себя за философию, не знающую сомнений. Другие, не видящие в этом печальном обстоятельстве разрыва между миром и свойственным ему принципом единства, заметят всего лишь расхождение между познанием и деятельностью, в которой возможны ошибки. Именно согласно этой логике Сартр внутри проклятого бытия, или, по меньшей мере, бытия, давящего на него и приводящего в отчаяние, проводит линию раздела, на первый взгляд столь же радикальную, что и картезианское разграничение между духом и телом, которое, как может показаться, лежит в основе разделения и современного мира, или платоновское разграничение, которое христианство, начиная со своего зарождения, пыталось преодолеть. Подобное разделение — то явное, то подспудное — можно ощутить в работах и некоторых других экзистенциалистских авторов. Сможем ли мы добраться до смысла этого раздвоения? Мы понимаем, что привело Декарта к дуализму. До него считалось, что человеческая реальность и реальность мира едины в своей целостности, где дух и материя неразрывно связаны и перемешаны друг с другом. Ориентация на целое препятствовала изучению отдельных его частей, и чтобы тогдашняя наука быстрее пошла на подъем, надо было подходить к вещам чисто механически, освободив сознание от таких его «добродетелей», как полуматериальное и полудуховное, которые затрудняли объяснение. Благодаря этой очистительной работе процесс познания и овладения вещами пошел вперед семимильными шагами. В противоположность этому, познание проблем человеческого существования — внутреннего мира, свободы, духовности — продвигалось с большим опозданием, и становилось привычным такое положение дел, когда можно было говорить о всесилии объектов. То, что раньше понималось как преодоление, теперь становилось препятствием. Таким образом, в течение полувекового периода в философии сложилось недоверие по отношению
==145
к объективности существования, к его внешним проявлениям, к его опосредованности, и во всю мощь зазвучала тема самоутверждения личности, ее восхождения, божественной спонтанности. Все это можно найти у Кьеркегора, Ницше, Бергсона, Сартра.
Что касается Сартра, он говорит о двух сферах бытия, которые до такой степени не соотносятся друг с другом, как это только возможно. Прежде всего, существует «бытие-в-себе». Заметим, что это не какая-либо частная или более низкая форма бытия, какой, например, является «объективированное» бытие Николая Бердяева или «привычное» бытие Бергсона, не то отлившееся в форму и затвердевшее бытие, которое возникает как результат нашего индивидуального или коллективного творчества. Оно — первобытие, априорное по отношению к любому существованию, в том числе и к субъективному, которое возникает, чтобы освободить нас от него. Это фундаментальное свойство бытия предстает перед нами как само оцепенение. Бытие есть, вот и все. Оно — здесь, не имеющее никакой цели, не обладающее никакой причиной. Оно — массивная аморфность, не имеющая структуры, «бесчувственная избыточность», беспросветная туманная плотность, не разделенная на части. Если это описание выразить на полнозвучном языке метафизических ощущений, с помощью которого экзистенциальный психоанализ Сартра только и может быть выражен, оно напомнит нам алейрон греков, эту бесформенную первоматерию, на которую и боги, и люди воздействуют по своему усмотрению. Если же обратиться к языку логики, то на память приходит картезианская «протяженность» — «абсолютная заполненность и самоидентичность» бытия, лишенная «магии» того, что можно было бы назвать внутренними возможностями, «потенцией», противоположной действию; спонтанностью, извлекающей бытие из неподвижного состояния; движением интериоризации. То, что Сартр именует неантизацией, можно было бы назвать движением экзистенциа-
==146
лизации. Для него, как и для греков, бытие неподвижно: движение — это своего рода болезнь бытия.
Здесь не место задаваться вопросом о том, не принадлежит ли это понятие, колеблющееся между чувственнонаглядным описанием (массивность) и описанием логическим (идентичность), к неопределенным понятиям. У этих двух типов описания есть, по меньшей мере, один общий пункт, а именно: бытие предстает здесь со стороны материи (в одном случае исходя из научного понятия, в другом — из общепринятого мнения) как безличностное «бьггие-в-себе». Нет ничего более противоположного тому, о чем говорит христианская концепция, для которой Первобытие — это Личность, творящая другие личности. Сартровское бытие отличается, сверх того, непостижимостьюу необоснованностью, у него нет «ни цели, ни причины, оно не обладает необходимостью». Перед нами еще один антипод бытия Слова, являющегося «источником света» для себя самого и для всей Вселенной.
Правда, наряду с «бытием-в-себе» Сартр хотел бы иметь и спонтанность, и внутреннюю жизнь, и порыв, то есть «бытие-для-себя», наше осознанное существование. Но «для-себя» — вторично по отношению к «в-себе», оно
— лишь «декомпрессия бытия»; бытие, которое оно одушевляет, разрежая его своим вездесущим небытием, — это все то же уплотненное бытие; «для-себя» без «в-себе» не могло бы существовать, как не существует ни «цвет без формы», ни «звук, лишенный высоты и тембра»; «в-себе», напротив, для того, чтобы существовать, не нуждается в «для-себя». Речь, однако, не идет о том, как в случае с «объективированным бытием» Бердяева, о низшем уровне бытия, которое опыт свободы уничтожает ради подлинного бытия. Речь идет о материи всякого бытия, в том числе и подлинного, без которого его просто бы не было. Каким образом Сартр объясняет это преимущество одного из видов бытия? Говоря об экзистенциальном психоанализе, он дает повод критикам оце-
==147
нивать его мышление как психоанализ. Кто-то назвал это метафизикой ослепления. Рассматривая бытие, Сартр лишает его движения, как если бы это было естественным для философии, полагающей, что человеческий взгляд всегда объективирует, парализует, порабощает то, на что он направлен. Может быть, подобная коррозия в ситуации «лицом-к-лицу» является неизбежной, если человек не признает того, что в мире, перед ним, есть Личность, дающая бытию жизнь в истине, которую одно только существование способно передать своим творениям? Мы оставим этот вопрос открытым, но он является одним из наиболее острых вопросов, которые поднимаются в анализе Сартра, если его оценивать с христианской позиции.
Но это не единственный вопрос, приводящий в замешательство. Даже самый последовательный атеистический экзистенциализм никогда не сможет освободиться от этического и религиозного языка. Его неподвижное и идентичное «в-себе-бытие», если к нему присмотреться ближе, не обладает тем безразличием, какое свойственно математическим единицам. Когда Сартр, покидая сферу логики, пытается внести в него определенный опыт, в нем возникает движение, едва заметное сцепление: оно стремится застрять в клейкой массе, а затем высвободиться из нее. Пьер Бутан отмечает, что Сартр, говоря об этом медленном движении в клейкой массе, тем самым признает одну только «абсолютно перевернутую возможность». Если мы обратимся к такому произведению Сартра, как «Тошнота», где этическая точка зрения представлена довольно обстоятельно, то увидим, что ощущение тошноты используется в нем не только для описания сознания, испытывающего отвращение перед роскошествующей жизнью «вещей-в-себе», но уже и для описания сознания вины, вины за существование — не в качестве свободного сознания, вырвавшегося из околдовавшего его «бытия-в-себе», а в качестве вещи, то есть «в-себе». Здесь мы имеем дело с уплотнившейся грехов-
==148
ностью бытия. Бытие в качестве прототипа не может быть бытием-парадигмой. Налицо расхождение между Бытием и Добром. Ключ от онтологии не подходит к этической сфере. Единство мира невосполнимо расколото. Было бы, разумеется, неосмотрительно, как это показывает Франсис Жансон, оценивать сартровскую онтологию с точки зрения этической, поскольку она является просто анализом данного, и ничем более, и никак не касается проблем спасения. Но мы имеем право говорить о том, что та онтология, которая, являясь учением о бытии, не предлагает нам ничего иного, как выбирать между тупой окостенелостью и чем-то вроде органического разложения, подрывает сами основания этики. Невозможно судить об этой онтологии с точки зрения проблем, имеющих собственно этическое содержание. Но, рассуждая об этих проблемах, резонно задаться вопросом о том, не возникают ли они по той причине, что им недостает онтологического обоснования. В нашем анализе бытие предстает как полнота и спонтанность — как спонтанность, постоянно переходящая в полноту. Сартр выделил в качестве особого опыта состояние шока, которое мы испытываем, сталкиваясь с миром неподвижных и тупых вещей. В случае с полнотой мы имеем опыт, противоположный опыту шока, и для его описания необходимы слова, имеющие оттенок радости: «сверкающий», «лучезарный», «ликующий», «льющийся через край». Именно до такого опыта следовало бы дойти в анализе «Тошноты», и тогда образы простора, движения, изобилия сменили бы образы противостояния, застоя, тупика. Христианскому критику не свойственно противопоставлять данные два опыта, как это делает идеализм: ведь при столкновении с бытием он в некоторые моменты своей жизни также испытывает ощущение непробиваемости, массивности окружающих его вещей, которое так впечатляюще описал Сартр. Но оно должно взывать и к более полному опыту, существенные аспекты которого, как думается, остались недоступными Сартру.
==149
Мы еще ничего не сказали о существующем, то есть о «бытии-для-себя», которое перед лицом «в-себе» предстает как надежда на бытие. Оно также онтологически противоречиво. В одном смысле оно меньше, чем бытие, поскольку появляется в бытии как его «декомпрессия», как дыра, пустое место, небытие; врываясь, как вихрь, в массивное бытие, оно вносит в него движение, свободу, творчество. Мы не случайно используем здесь картезианское понятие вихря: родство концепций Сартра и Декарта тем самым, как нам кажется, становится еще более очевидным. Небытие здесь — действительно небытие, поскольку оно диалектически отрицает само себя. Бергсон показал, что, когда мы говорим о небытии, мы просто играем словами: мы предполагаем, что бытие полностью исчезает, и тем не менее что-то остается, и это что-то — «ничто»; но это что-то, несомненно, все еще остается чем-то вроде бытия. «Ничто» в противоположность этому, говорит Сартр, имеет основание в бытии, соотносится с ним; «полное исчезновение бытия не привело бы к повсеместному воцарению не-бытия; результатом стало бы исчезновение «ничто»: не-бытие существует только на поверхности бытия». Между тем, это «ничто», представляющее собой не позитивный принцип, а своего рода уловку, утверждает себя как способность, неустанно направленную на то, чтобы ускользать от всесилия «бытия-в-себе», постоянно возобновляется, самоутверждаясь в творческой свободе; короче говоря, речь здесь идет о личности. Что это — парадокс? Сартр и не скрывает этого. Так же, как он никак не обосновывает существование и априорность «бытияв-себе», не обосновывает он и существование и специфику «бытия-дпя-себя». «Каждый существующий рождается без достаточного основания для этого, живет в силу собственной слабости и умирает, подчиняясь лишь случаю». Каждый существующий для всех других абсурден, непреодолим, необъясним. Почему бытие приходит в мир? На этот вопрос нет ответа. Почему в недрах «в-себе»
К оглавлению
==150
возникает «для-себя»? На этот вопрос также нет ответа. Всякий вопрос об истоке бытия, поясняет Сартр, абсурден, поскольку он сам обусловлен бытием. И здесь не может быть удовлетворительного ответа: это относится ко всем первичным понятиям и предположениям. Бытие не имеет и логического обоснования. Однако следует ли отсюда, что все ценностные представления также не имеют обоснования?
Сартровское «бытие-для-себя» в основе своей зависит не только от «бытия-в-себе», и тем не менее описания их тесно связаны между собой. «Бытие-в-себе», как мы уже видели, не обладает ничем таким, чего бы оно могло лишиться. Герметически замкнутое и бесплодное, оно перед лицом «бытия-для-себя» предстает только лишь как угроза отрицания. В одной работе мы уже пытались сравнивать отношение «бытия-для-себя» к «бытию-всебе» с тем, как относится к своему миру параноик: это отношение существующего к существованию, от которого он ничего не ждет. В таком случае существующий возникает как чистое самоутверждение, постоянное высвобождение из плена самодостаточности, как противостояние тому, что можно было бы назвать со-рождением, со-существованием. Идет ли здесь речь о субъективизме? В определенном смысле нет, поскольку всякое сознание есть сознание о чем-то ином, находящемся вне сознания; бьющее ключом сознание отлично от всего того, что присутствует (пусть даже вне времени) в мире, и благодаря этому оно во всей своей неопределенности возникает как проблема, как неизбежная борьба. Более того, с помощью понятия о нерефлектируемом сознании Сартр доводит до возможного минимума то, что есть субъект, представляя его чистым движением неантизации. Здесь мы подходим к двусмысленности, свойственной сартровским «для-себя» и «в-себе». Если онтология сводит «для-себя» к действенному отсутствию, к творческому отступлению, то экзистенциальный психоанализ (снова перенесемся в романы Сартра) описывает его в
!
==151
радужных терминах. Несомненно, именно отсюда, из онтологии, не дающей никакой надежды, Сартр выводит представление о прочности самоутверждения и уверенности в себе, которые он переносит на понятие деятельности, какой бы порой драматической и ужасающей она ни была. Именно с этим связано и то, что разрыв между существующим и бытием не носит угрожающего характера. Вспомним еще раз об отношении параноика к окружающему миру: параноик не отделен от своего мира, как это наблюдается у шизофреника, поскольку он постоянно занят им, небезразличен к нему. Однако между параноиком и шизофреником есть едва заметная, но чрезвычайно важная связь: не получая больше от мира ничего, будучи не в состоянии держаться от мира на расстоянии, обеспечивающем между ними жизненно важный обмен, параноик воспринимает мир враждебным, постоянно несущим угрозу. Точно так же и «бытиев-себе» предстает перед «бытием-для-себя» как чуждая колдовская среда, как угроза неминуемого отчуждения и порабощения. Человеческое бытие окружено со всех сторон, как город в «Тошноте», и может случиться так, что однажды его поглотит растительный мир; ему угрожает то самое бытие, на основе которого оно возникло; отсюда следует и определенное различие: в то время как отрыв от бытия и осуществление свободы совершаются с божественной легкостью, «бытие-для-себя» не верит, что ему удастся вырваться из «бытия-в-себе», как не вериг в свое спасение увязший в болоте человек; «длясебя» кажется обреченным, лишенным надежды на успех в своей попытке бегства. Мир Кафки не менее мучителен: человек постоянно стремится жить в нем незаметно, и хотя исполнение этого желания весьма сомнительно, он, тем не менее, настойчиво жаждет присутствия, достигнув которого, смог бы успокоиться. У Сартра, напротив, речь идет о бегстве, о движении не-бытия, которое никуда не ведет, о бытии, которое может обернуться лишь деградацией бытия. «Мерзавец» — это дезертир: он
==152
избегает тягот свободы и укрывается в уютной гавани, поддавшись самообману. Но быть свободным значит постоянно быть в бегах: куда несется этот потерявший надежду сартровский человек? От чего он бежит? Почему он бежит? Почему в этом мире ему остается только одно беспорядочное бегство?
Акцентируя внимание на этом не знающем передышки бегстве, которому отводится главная роль в сартровской вселенной, я ни на минуту не забываю о том, что описание «бытия-для-себя» соотносится с проблемами сопротивления и ответственности; вместе с тем я хотел бы подвергнуть критическому анализу одну из тех животрепещущих проблем, которая остается вне поля зрения онтологии Сартра. Точно так же, как мы упрекали Сартра в том, что он, анализируя «бытие-в-себе», игнорировал сущностный опыт полноты, мы упрекаем его и в том, что, исследуя «бытие-для-себя», он игнорирует еще один фундаментальный опыт — сосредоточенности как средства для достижения подлинной жизни, согласия с миром, создания творческого союза с людьми, последовательного продвижения вперед. Не кажется ли, что феноменология «вырывания» тесно связана с художественным опытом? Если бы анализ Сартра опирался на жизнь трудового человека, например, либо на опыт аскета или мистика, получило ли бы «бытие-для-себя» такую же трактовку? Для художника главное проявление свободы состоит в том, чтобы вырваться, для трудящегося человека — скорее в том, чтобы воздействовать на что-то, существуют и другие типы деятельности, имеющие экзистенциальное значение: дли узника, осужденного на длительный срок, главным является вопрос времени, в то время как для верующего — проблема сосредоточенности, и т.п.
Деятельность существующего нельзя объяснить, исходя из ее истока; она получает свой смысл, если оценивать ее с точки зрения целенаправленности. Для Ницше цель деятельности — в достижении состояния сверхчеловека;
==153
христианин видит эту цель в пришествии Царства Божия Сартр не признает никакой цели. Он как бы наспех, не удосуживая себя доказательствами, провозглашает, что бьггие, к которому устремляется человеческая реальность, не есть трансцендентный Бог, что сутью его, сердцевиной является его собственная тотальность Это, как представляется, проект, не имеющий содержания: коль скоро было признано известное несовпадение между двумя модусами бытия, то, опираясь на бытие, принадлежащее одновременно каждому из них, невозможно вывести полное совпадение с «Я», которое, определяя «бытие-в-себе», остается сверхясным и проницательным сознанием. С какой стороны ни посмотри, сознание всегда является сознанием несчастным: либо оно увязает в «бытии-в-себе» и уступает доводам ложного сознания, либо оно строит ложные проекты «бытия-в-себе», оставаясь «бытием-длясебя». «Для-себя» в своем бытии — это поражение. Вот та ценность, к которой стремится существование в своем нескончаемом порыве; оно взывает не к трансцендентному существованию, а к отсутствию, которое неустанно следует за ним; оно обладает только негативным существованием, где «отсутствует все то, что только может отсутствовать».
Таким образом, поскольку «бытие-для-себя» не находит дороги к «бытию-в-себе», которому ему нечего предложить и от которого не исходит никакого призыва, то оно обречено на постоянную саморастрату. Сартр более, чем его учителя-феноменологи, стремится снабдить «бытие-дтя-себя» объективностью, постоянно прибегая к анализу таких категорий, как ситуация, существование, подлинное существование. Марксистская критика, например, недостаточно учитывает связь онтологии с этическим антропологизмом: ни с помощью лишенной бытия ценности, ни с помощью вещей, которые постоянно стремятся поглотить существование, Сартру так и не удается более или менее убедительно обосновать
==154
экстериоризацию «бытия-для-себя». Всякий раз, как только мы пытаемся сохранять объективность, выступающую в виде замкнутой в себе массивности (а именно это и делает Сартр), мы оказываемся вынужденными либо осуждать себя, либо представлять сознание в качестве столь' эфемерной субстанции, что оно полностью исчезает в процессе отрицания.
В опыте человеческого бытия я не нахожу ни чистого сознания, ни непроницаемой плотности тела. Я познаю себя как воплощенную личность, как личность, обладающую телом; я постигаю не чистую объективность и не чистую субъективность, а их взаимодействие, которое вовлекает меня в объективность таким образом, что я не увязаю в ней; я воспринимаю опыт моего тела как мой собственный опыт, связывающий меня с миром и делающий меня субъектом. В ходе этого опыта я как бы приручаю объективность, и она более не является для меня ни чуждым мне абсолютом, ни угрожающим мне незнакомцем. Таковы основные положения той философии, о которую разбивается онтология Сартра. Вместе с экзистенциализмом иного рода, с тем, который проповедует Карл Ясперс, можно утверждать: «Философия ставит вопрос об объективности. Здесь таится опасность свести все ее содержание именно к этому вопросу и тем самым впасть в нигилизм. Цель философии состоит в том, чтобы по-новому осознать объективность — как средство проявления существования». Как только я пойму это, пусть даже путем внутреннего осознания, бытие предстанет передо мной прежде всего как нечто объективное, детерминирующее и вместе с тем — как животное существование. Христианская философия, размышляющая о статусе Воплощения, в этом пункте решительно противостоит сартровской схеме. Она обосновывает реализм целостного человека — внутренне, всей своей судьбой причастного Вселенной и неразрывно связанного со своим телом. Практически Сартр говорит то же самое, но вместо того, чтобы обосновывать это, он
==155
поддается воздействию центробежных сил, готовых отбросить его в сторону идеализма.
3.
Нельзя писать обо всем сразу. Мы специально остановились на теории бытия, поскольку в ней — ключ ко всей сартровской проблематике. В заключение рассмотрим бегло эту проблематику. Что представляет собой личностная жизнь и коллективная судьба человечества в этом безвозвратно лишенном бытия и расколотом мире? Если говорить о коллективной судьбе человечества, то ока вообще немыслима. Для экзистенциализма, строго говоря, история существует, но течет она по велению времени, испытывая воздействие свободы, а потому не имеет ни структуры, ни цели. Здесь экзистенциализм противостоит в равной степени как христианству, так и марксизму. Известно, сколько стараний и нелегких усилий приложил Мерло-Понти, чтобы этот врожденный антиисторизм (в точном смысле этого слова) экзистенциалистского догматизма согласовать с Гегелем или Марксом, которые для него являются авторитетами. Согласно Сартру, люди, обладающие замкнутыми в себе свободами, борются один на один против слепого мира, где они не надеются встретить ни разум, родственный их разуму, который поддержал бы их, ни любовь, которая помогла бы им в их невзгодах. Мир в каждый момент истории ведет тяжбу с каждым из нас. Нам не дано знать, куда пойдет он—к лучшему ли, к худшему ли, туда ли, сюда ли; мы не можем этого знать не только в силу собственной близорукости и не по причине нашей изначальной слабости, а потому что ни для кого и ни для чего, ни для человечества как целостности, которая не обладает бытием, ни для трансцендентного Существования, которое отрицается априори, не существует истории как таковой — истории, лежащей по ту сторону этого хрупкого равновесия, сохраняемого героическими усилиями
==156
и постоянно рискующего быть уничтоженным вместе со всей Вселенной. К тому же долгое время мы забывали то, что сегодня вновь "открываем, а именно, что христианство — это по сути своей Евангелие, Благая весть, возвещающая, что единая История существует, что в Царствии Божием, где любая история возобновляется и получает свое оправдание, все невзгоды прекратятся, Утверждая это, христианство не отрицает драматизма личностной судьбы, поскольку индивидуально, для каждого из нас, спасение всегда проблематично, а отсутствие транцендентного Бога не ограждает самую последовательную веру от сомнений и тревог. Но, наделяя человеческое усилие смыслом, который не имеет ничего общего с его величеством абсурдом, оно тем самым сообщает живой экзистенции такое качество, которое Сартр в упор не видит. Заметим кстати, что христианский экзистенциализм, от Паскаля до Кьеркегора и далее до Барта, хотя и не выходил существенно за традиционные рамки христианства, настолько произвольно трактовал волю Божию, что конец истории представлялся ему как акт совершенно не мотивированный, не соотносимый с волей Божией, как катастрофа в точном смысле слова, и он добровольно отказался от собственного взгляда на историю, либо прибегая к помощи иронии, либо проповедуя почти безысходный пессимизм; в итоге вплоть до настоящего времени сторонники христианского экзистенциализма, говоря о трудностях исторического развития, охотно ссылаются на апокалипсическое видение, не призывая к их последовательному осмыслению и преодолению.
Часто говорят, что между экзистенциализмом и персонализмом существует тесная связь. Создается впечатление, что Сартр в своих последних работах, особенно тех, что носят политический характер, все чаще и чаще обращается к персоналистской терминологии. Однако
==157
такие многозначащие слова, как «личность», «дух», «материя», «разум», могут применяться в самых разнообраз-· ных, порой прямо противоположных, концепциях.
Что для христианина значит слово «личность»? Это и способность к бесконечному самоуглублению, которую иногда обозначают, как кажется, неадекватным выражением (поскольку оно предполагает некое разделение) «движение интериоризации», и сущностная связь с другим человеком, «бытие-с...», возникшее одновременно с термином «быть-собой», необходимым для его осмысления; это и телесность человека и его присутствие в мире, свидетельствующие и о его воплощенности, и устремленность к трансцендентной Личности, поддерживающая целостность человека; и творческая свобода, воспринимающая мир как проблему и создающая его как судьбу.
Одна из самых разработанных тем экзистенциализма — это, разумеется, критика отчуждения, то есть опустошения личности, ее растворения во внешней среде, превращения в вещь, утраты себя как личности. Таково «развлечение» у Паскаля, «эстетическая стадия» у Кьеркегора, «неподлинная жизнь» у Хайдеггера, «объективированное бытие» у Бердяева, «срастание с «бытием-всебе» и — как итог — «самообман» у Сартра (самообман мерзавца). Добавим сюда и весьма выразительные слова об отступничестве личности перед угрожающим ей миром вещей, о необходимости борьбы за духовность, об отсутствии убежденности, чему Ницше противопоставлял «дух бремени» («дух серьезности», как позже скажут экзистенциалисты).
Бесспорно, во всех этих рассуждениях личность выступает в качестве главной ценности. Но получает ли она в них свое обоснование? Личность — это «бытие-ддясебя», следовательно, она не подлежит обоснованию. Личность — это «для-себя», стало быть, у нее нет определенного места. Ее удел — быть обращенной к миру и быть в мире, но поскольку «бытие-в-себе», образующее мир, есть тупая бесплодность, лишенная разума и конеч-
==158
s&
ной цели, удел этот означает бессодержательное отношение, безличностную отнесенность: тщетно было бы искать в нем биение жизни и проявление духа общности. Более того, мир предоставляет в наше распоряжение лишь полезные вещи («инструментарий», по выражению Сартра) и само свойство полезности, но не попадаемся ли мы на удочку, оказываясь в зависимости и от него? Далекая от того, чтобы обрести полноту своего существования в единстве с другими людьми, личность вынуждена все время отступать под натиском неумолимого бытия; ее внутренняя жизнь вместо того, чтобы последовательно совершенствоваться, превращается в бесконечное бегство. Так что, несмотря на все то, что Сартр стремится позаимствовать у Хайдеггера и Гуссерля, его концепция вовлечения, его учение о бытии в мире ничего не дают личности, ценность и весомость которой он отстаивает. Какой резон бороться и стремиться к подлинной жизни, если она всего лишь ничто, если у нее нет никакого обоснования, если ей недоступна одухотворяющая сила любви, если у нее нет венчающей ее цели? Как убедиться в том, что она стоит того, чтобы ее избрали? То, что индивидуальное человеческое существование, если иметь в виду его конечное устремление, заранее обречено на поражение, которое, в свою очередь, вызвано отсутствием Бога, — в этом представлении нет ничего такого, что шокировало бы христианское видение. Но то, что человеческое существование не находит в своей судьбе того смысла, ради которого оно должно терпеть поражение, как и не обретает оно ни Успения, ни Спасения — коллективного или личного, — это со всей очевидностью отделяет экзистенциализм от христианского миропонимания.
В концепции Сартра, как считает Франсис Жансон, есть все-таки один момент, который мог бы послужить основой для учения о спасении, и было бы опрометчиво заранее отвергать его: если мы говорим о духовности, то есть о значении существования и общественном харак-
==159
тере нравственности (о «подлинности»), разве не имеет смысла обозначить ориентиры отдельного существования, выявить некоторые черты высшего по отношению к нему существования, являющегося не застывшей общей идеей, а движением, призывом к универсальности? Мы можем сказать на этот счет, что такой поворот в мышлении Сартра, каким мы его знаем на сегодняшний день, пока, говоря словами самого философа, «не имеет места». Утверждать, вслед за Жансоном, что противоречивость существования уже говорит в пользу его духовности, значило бы принимать желаемое за действительное. Существование — это негативная возможность духовности, поскольку уделом его является неуверенность, риск и свобода, которые необходимы для духовной деятельности. Но существование может также быть и причудой природы, или ее болезнью. Оно не несет в себе духовности, как юность — возмужания. Угрожающей со всех сторон неподлинности существование может противостоять, лишь обратившись к эстетической терапии; именно такой вывод следует из «Тошноты», где клейкой бесформенности бытия противополагается подчиненное строгому ритму произведение искусства. В заслугу Сартру можно поставить то, что он впечатляюще описал необходимые условия любой духовности: отрыв от природы, выбор, риск без надежды на успех, противостояние, решимость. Он также довольно четко обозначил две зоны бездуховности: зону полного безразличия и равнодушия, отказ от собственного удела, — и зону привычных отношений, уже сложившихся и потому беспроигрышных. Но эти предварительные наметки экзистенциального психоанализа являются всего лишь пролегоменами к духовности. Самой же духовности нужны другие обоснования.
В таком случае главной трудностью, стоящей перед экзистенциализмом, остается проблема коммуникации — коммуникации существующего, то есть человека, с бытием, миром, другим человеком. «Стена» — это не
К оглавлению
==160
только название повести Сартра; Стена является одним из ярких символов существования, который красной нитью проходит через произведения философа и отражает определенный аспект его мировоззрения. Речь не идет о субъективизме: за Стеной находится если не реальность, то, по меньшей мере, возможный мир, с которым «Я» так или иначе, пусть в виде исключения, вступает в контакт. Мое отношение с бытием или с другими существами, другими людьми, — вот, где встает стена. Одиночество не является в этом мире случайным, насилие предписано бытию самой его судьбой — мимолетной и ни с чем не сравнимой (христианская точка зрения); человек несет в себе абсолютное одиночество как неустранимую структуру своего существования. То, что Сартр говорит о небытии, следовало бы отнести на счет одиночества: оно возникает вместе с бытием человека, следуя за ним, словно тень, и исчезает только вместе с его исчезновением.
Рассматривая проблему «бытия-с-другим», мы сталкиваемся с тем же самым внутренним разладом, свойственным существованию, с каким мы уже имели дело, когда речь шла о фундаментальном конституировании бытия, как если бы существование было не в состоянии поддерживать творческое взаимодействие между различными своими проявлениями. Здесь, как нигде, поражение экзистенциализма представляется неизбежным. «Бытиедля-себя» в своей одинокой жизни постоянно окружено «бытием-в-себе», находится в нем, как в ловушке: когда оно хочет, ему удается, воспользовавшись свободой, одержать победу, но победа эта, хотя и оказывается реальной, тем не менее всегда частична и ненадежна. В тот момент, когда одно «для-себя» поворачивается к другому «для-себя» — одна личность поворачивается к другой личности, — можно надеяться (христианская точка зрения) на то, что с существованием случится что-то чудесное, и этим чудесным будет экзистенциальная встреча с другим человеком, что существованию б
==161
удастся одержать победу над инертным «в-себе». Ничего подобного! «Для-себя», встречающее другое «для-себя», самим своим взглядом превращает его в «бытие-в-себе». Говоря более понятным языком, согласно Сартру, я не могу иметь дело с другим человеком, не превращая его в нечто застывшее, не лишая его собственного мира и не блокируя его свободы, словом, не превращая его, как бы я тому ни противился, в объект. Легко представить себе всю цепь этих превращений, если вспомнить, как под посторонним взглядом тушуются застенчивые влюбленные. Это и есть ад, когда люди в присутствии других цепенеют, превращаясь в объекты: посмотрите пьесу Сартра «За запертой дверью», и вы поймете, что стесненность и ад весьма напоминают друг друга.
Сартр также дает превосходный анализ отношения к другому, когда описывает структуру таких противопоставлений, как господин — раб, имущий — неимущий. Эти и аналогичные им описания человеческих отношений, принадлежащие мыслителям-спиритуалистам, христианская антропология может отвергать, если только она разделяет идеалистические предрассудки, чуждые великой традиции христианских моралистов. Христиан.ство не оспаривает их и, в свою очередь, предлагает более богатый и более разнообразный опыт отношений. Взгляд другого человека, действительно, может заморозить меня: но нельзя забывать и того, что взгляд этот может порой иметь и прямо противоположный смысл, о чем свидетельствует такое слово, как потрясать. Это значит, что другой человек, вместо того чтобы сковывать меня, обрекая, если так можно сказать, на губительное для меня состояние и превращая в раба, дает мне жизнь, приводя в действие неизвестные мне самому мои резервные силы. Разве унижающее и порабощающее меня присутствие другого человека имеет что-либо общее с тем, что происходит, когда одна личность взывает к другой личности, когда одна свобода взаимодействует с другой свободой? Разве это похоже на инфицирующее
==162
воздействие больного существа, утратившего свою свободу и распространяющего вокруг себя смертельную угрозу превращения в «бытие-в-себе» потому, что оно само уже агонизирует в результате точно такой же болезни? Такова атмосфера, в которой действует принцип обладания: однако фундаментальнейший порыв христианской духовности способен освободить существование. от этой страсти к обладанию: на языке христианства свобода — это Милосердие или то, что предрасполагает к Милосердию. Свобода — это вид благодати, предваряющей подлинную Благодать. В этом суть того, что мы называем человечностью, которая, как представляется, абсолютно чужда работам Сартра. Можно было бы назвать это магией. В конце концов, глубинная истина магического действия свидетельствует о том, что существует тип деятельности, в корне отличной от деятельности механической; однако колдовская магия, разумеется, ни в коей мере не может обладать превосходством над магией любви.
До сих пор я, по причинам, означенным в начале исследования, избегал говорить о деятельности, о практике. Но теперь настало время обсудить эту проблему, поскольку Сартр и здесь сумел сказать свое слово.
На первый взгляд кажется, что то, чем озабочено подлинное существование, не имеет прямого отношения к деятельности. Деятельность экстериоризует, упрощает, выставляет напоказ, рассеивает, часто унижает. Наиболее естественным для экзистенциалиста было бы противопоставить этой деятельности следующее: сосредоточиться, углубиться в свой внутренний мир, отказаться от развлечений, вести скрытый, интенсивный, словом, подлинный образ жизни, по возможности исключительный, имеющий далеко идущие последствия, устремляющий нас ввысь (вспомним Ницше с его горой, Паскаля с власяницей). На этом трудном, обрывистом пути испы-
б*
==163
тывались самые возвышенные судьбы, рождались подлинно человеческие субъекты, от которых верное себе человечество так и не смогло отречься, несмотря на то, что один потерпел неудачу в любви, а другому не удалось овладеть желанным ему ремеслом. Но те же самые пути, что ведут к вершине человека исключительного, могут оказаться для человека обычного чреватыми ловушками и мистификациями. Философы и моралисты, разделяющие позиции экзистенциализма, являются сторонниками сложного, противоречивого понимания деятельности, описывая ее как двойственное движение вовлечения — выхода; многие из них, апеллируя к нескончаемому излучению духовности, к свежести духовного порыва, говорят о вредоносном влиянии повторения (Кьеркегор), следования однажды принятому решению (Габриэль Марсель), идущего извне посредничества (Ясперс). Но нет ничего более трудного, чем встать на диалектическую позицию, где кажущиеся на первый взгляд непримиримыми противоречия взаимодействуют друг с другом и обогащают друг друга. Большинство людей не видят в подобном творческом взаимопроникновении ничего иного, кроме бессвязности, ненужной усложненности, противоречивости. Они предпочитают однозначные решения: либо лишенная смысла деятельность — либо крайняя замкнутость. Таким образом, обычный человек, которого экзистенциализм заставляет разочароваться в мире и в себе подобных (по крайней мере, так обстоит дело в атеистическом экзистенциализме), под воздействием внушения оказывается глухим к словам о социальном взаимодействии, о человеческом единстве, об общем деле и занимает позицию надменного и ироничного критика или замкнувшегося в себе скептика. Христианских экзистенциалистов такая тенденция ведет к историческому катастрофизму и благому небрежению делами человеческими. Что касается марксистских критиков, то они непроизвольно упрощают свое отношение к этим проблемам. Но несомненно одно: несмотря на усилия
==164
Мерло- Понти объединить идею о конечности истории и повседневную мораль существования и на попытки Сартра исследовать самые жгучие конфликтные ситуации, экзистенциалистские построения, где отсутствуют достаточно прочные онтологические обоснования, грешат всякого рода недомолвками: в них явно прочитывается обольщение крайним индивидуализмом, против которого не выдвигается никаких весомых доводов, кроме того, что в основе его лежит реальное осознание чувства вины.
Мир Сартра, лишенный онтологической устойчивости, может привести экзистенциалистского человека как к горестной самоизоляции, так и к своего рода ослеплению деятельностью, которая лишается внутреннего пафоса и сущностных ориентиров, деятельностью, в которой не проводится четкого водораздела между тем, что человечно, а что бесчеловечно. «Экзистенциализм — это гуманизм». Разумеется, так оно и есть. Но для этого гуманизма явно не существует человеческой природы, заранее задающей пределы, в которых человек только и может быть человеком. Речь идет о том, чтобы диалектически преодолеть статичную концепцию человеческой природы, непригодную с точки зрения метафизической, а в практическом отношении страдающую от недостатка воображения и служащую консервативным силам, для которых слово «природа» заведомо связано с привычным, рутинным. Современное мышление возродило вкус к авантюре — к необычному и непредвиденному, что лежит в основании самой человеческой истории; христианская рефлексия приходит к этому вопреки логическим и юридическим препонам, опираясь на патристику во всей ее изначальной свежести. Отказывая существованию в движении к универсальному, отвергая его собственную структуру, как бы сложна и изменчива она ни была, мы рискуем лишить существование той одержимости, которая только и делает его существованием. Правда, в ответ на это будут говорить о подлинности и неистовом активисте, который, несмотря на признание
==165
за другим права на свободу, лишается подлинного существования, если обращается к насилию, если опускается до садизма, вызываемого желанием сокрушать, когда человек уже не в силах совладать с собой. Пусть будет так. Но как иначе обозначить подлинность, не обращаясь к вопросу о коммуникации, о некой общности, в той или иной мере свойственной свободным существованиям? И разве одна свобода, уважающая другую свободу, не свидетельствует в пользу сущностной связи, которую не может содержать в себе свобода изолированная, возникшая на пустом месте?
Экзистенциализм оказывается здесь в сложном положзнии. Подвергнув сомнению старые — застывшие и весьма опасные — представления о вечном и пробудив вкус к полной риска духовной жизни и отношениям братства, он, изгнав из философии проблему сущностей, пришел к выводу о том, что Истина — это Путь и Жизнь; диалектика обращения, свойственная христианской жизни, идет по тому же пути. Но именно здесь обнаруживается непреходящее значение экзистенциалистской философии, ведущей к признанию того, что в коловращении существования необходимо присутствуют ценjtoc™ и оно столь же необходимо опосредуется в своем самосозидании явлениями рационального и социального порядка, а также тем, что вдет от воображения; можно, конечно, утверждать, что мысль Сартра делает лишь первые шаги в этом направлении или что он признает ценность только за окончательно сложившимся существованием и вольно или невольно распахивает дверь перед тем, что можно назвать упоением напряженностью бытия, или упоением могуществом; предоставленная сама себе, его свобода принципиально неспособна определить, где проходит граница между человечностью и бесчеловечностью. Начиная с произведений Эрнста фон Саломона и Андре Мальро, эту тему стали активно использовать в анализе лишившегося надежды существования, решительно противостоящего самым жестким
==166
детерминизмам. Таково двусмысленное положение, в котором пребывает сегодня экзистенциализм, и от его выбора зависит, удастся ли ему противостоять угрожающему современности злу. Некоторые вещи дают основание полагать, что Сартр, опираясь на собственную интуицию, сумеет оттолкнуть от себя беса. Что же касается его последователей, то мы видим, как между ними назревает раскол.
ПРИМЕЧАНИЯ
' Очерк был опубликован в кн.: Pour ou contre l'existentialisme, debat. Ed. Allas, 1949.
2 Introduction aux existentialismes. Denoel, 1947 (Oeuvres, t. 3, p. 67).
3 Le Probleme morale et la pensee de Sartre. Ed. du Myrte, 1947.
4 L'Existence. Gallimard, p. 84.
==167
От переводчика
Российский читатель уже имел возможность познакомиться с двумя работами основоположника и ведущего теоретика французского персонализма Эмманюэля Мунье (1905—1950), вышедшими на русском языке: «Персонализм» (М., «Искусство», 1992) и «Что такое персонализм?» (М., Издательство гуманитарной литературы, 1994). В этих произведениях представлены основные идеи «личностной» философии, описана история ее становления, определено место в идейной борьбе первой половины XX века.
Одна из центральных тем французского персонализма — «вовлеченное существование», означающее ответственное, осмысленное, творческое выполнение человеком своей миссии на Земле. Особое звучание эта тема приобрела в 30-е годы, по мере того как в Европе набирал силу фашизм, не только девальвирующий гуманистические ценности, но и попирающий саму человеческую жизнь.
Почти одновременно с персонализмом на философской арене громко заявил о себе экзистенциализм, который также характеризовало пристальное внимание к проблемам индивидуального существования, внутренней жизни человека. Преобладающим мотивом и здесь было «вовлечение», но, в отличие от персоналистской трактовки, в философии существования оно сопрягалось с понятиями решимости, риска, не признающего никаких границ самоутверждения.
Философия существования имеет две ветви: атеистическую (М. Хайдейггер, Ж.-П. Сартр) и христианскую (Г. Марсель, К. Ясперс). Философам-персоналистам близки идеи христианского экзистенциализма, в то время как по отношению к экзистенциализму атеистическому они выступают e качестве непримиримых оппонентов, особенно если речь заходит о смысле и назначе8
==209
нии человеческой деятельности. Именно этим вопросам и посвящена книга Э.Мунье «Надежда отчаявшихся. Мальро. Камю. Сартр. Бернанос».
Для своего анализа Мунье выбрал произведения выдающихся французских писателей первой половины XX века, в той или иной мере разделявших идеи экзистенциализма.
Андре Мальро (1901—1976) — писатель, теоретик искусства, крупный политический деятель; он — свидетель и непосредственный участник важнейших событий своего времени, антифашист, для которого, по словам Г. Пикона, встреча с Историей стала собственной жизненной историей. В 20-е годы Мальро предпринял несколько путешествий на Восток, в результате которых появились, «Искушение Запада» (La Tentation de l'Occident, 1926) и написанные следом за ним романы «Завоеватели» (Les Conquerants, 1928) и «Королевская дорога» (La Voie royale, 1930). В 30-е годы Мальро пишет романы, содержание которых продиктовано конкретно-историческими событиями: «Удел человеческий» (La Condition humaine, 1933) — это своеобразная хроника вооруженного восстания рабочих в Шанхае (1927); «Годы презрения» (Le Temps du mepris, 1935) — свидетельства немецкого подпольщика, прошедшего через ад гестаповского застенка; «Надежда» (L'Espoir, 1937) — описание первого года гражданской войны в Испании; «Орешники Альтенбурга» (Les Noyers de l'Altenburg, 1941) — горькие раздумья писателя о поражении Франции в «странной войне» 1939—1940 годов*.
Альбер Камю (1913—1960) — романист, драматург, публицист, один из представителей философии существования. Камю, правда, отказывался от приписываемого ему критиками звания философа, провозглашая себя моралистом, и тем не менее это не помешало ему в свое время утверждать: сочинительство и есть настоящее за-
«Орешники Альтенбурга» — часть задуманного Мальро романа «Битва с ангелом»; рукопись продолжения романа, по свидетельству автора, была уничтожена гестапо.
К оглавлению
==210
нятие философией, а писательский вымысел — «завершение философии, ее иллюстрация и венец»". Что касается экзистенциализма, к которому Камю причисляли, то он всячески стремился отмежеваться от него. Однако близость Камю, как, впрочем, и Мальро, к этому типу философствования вполне очевидна. Камю — автор прозаических произведений, в том числе романов; «Посторонний» (L'Etranger, 1942), «Чума» (La Peste, 1947); пьес: «Недоразумение» (Le Malentendu, 1944), «Калигула» (Caligula, 1945); философских эссе: «Миф о Сизифе» (Le Mythe de Sisyphe, 1942), «Письма к немецкому другу» (Lettres a un ami allemand, 1943—1945).
Наиболее последовательно основные положения философии существования изложены Ж.-П. Сартром (1905—1980), главой атеистического экзистенциализма. Ко времени написания книги Мунье «Надежда отчаявшихся» Сартр опубликовал целый ряд философских работ: «Трансцендентность Эго» (La Transcendence de l'Ego, 1934), «Воображение» (L'Imagination, 1936), «Очерк теории эмоций» (Esquisse d'une theorie des emotions, 1939), «Воображаемое» (L'Imaginaire, 1940), «Бытие и ничто» (L' tre et le Neant, 1943), роман «Тошнота» (La Nausee, 1938), новеллу «Стена» (Le Mur, 1938), a также ряд драматических произведений, в том числе пьесы «Мухи» (Les Mouches, 1943), «За запертой дверью» (Huis-Clos, 1944). Мунье сосредоточивает внимание на анализе фундаментального философского труда Сартра «Бытие и ничто», поскольку именно в нем главные идеи экзистенциализма разработаны наиболее основательно. В центре внимания Сартра — проблема суверенности человеческого сознания, смысла, онтологического статуса и назначения личности, свободы индивида, его поступков и действий и ответственности за них.
Жоржа Бернаноса (188S—1948) во Франции по праву считают литературным классиком. Участник первой ми-
Camus A. Carnets. I. Paris, 1962, р. 23, 167.
8*
==211
ровой войны, он в победе над кайзеровской Германией видел торжество добра над злом. Бога над Дьяволом. Борьба этих извечных начал и стала основой творчества писателя. При этом Бернанос не столько уповал на милосердие Божие, сколько верил в духовную стойкость людей, видел призвание личности в том, чтобы как можно теснее связать полноту человеческой жизни с жизнью божественной. Фигура Бернаноса выбрана Мунье не случайно — в своем споре с атеистическим экзистенциализмом он опирается на творчество писателя-католика, чьи идеи близки позициям христианского экзистенциализма и, стало быть, «личностной» философии. Мунье анализирует такие художественныз и публицистические произведения Бернаноса, как «Под солнцем Сатаны» (Sous le Soleil de Satan, 1926), «Радость» (La Joie, 1929), «Обман» (L'Imposture, 1927), «Дневник сельского священника» (Journal d'un cure de campagne, 1936), «Большие кладбища под луной» (Les Grands Cimitieres sous la lune, 1938), «Господин Уин» (Monsieur Ouin, 1943) и др.
На русский язык переведено большое число произведений, анализируемых Мунье в книге «Надежда отчаявшихся». Так, «Годы презрения» А.Мальро и фрагменты из его трудов «Искушение Запада», «Удел человеческий», «Голоса безмолвия», речь на Первом Всесоюзном съезде советских писателей «Искусство — это завоевание» опубликованы в кн.: Мальро А Зеркало лимба, 1989; отдельными изданиями вышли «Надежда» и «Королевская дорога».
Литературные и философские работы А.Камю опубликованы в книгах: Камю А. Сочинения, 1989; Камю А Бунтующий человек, 1990.
Труды Ж.-П.Сартра изданы в книгах: Сартр Ж.-П. Стена, 1992; Сартр Ж.-П. Тошнота, 1994.
Труды Бернаноса — в книгах: Бернанос Ж. Под солнцем Сатаны. Дневник сельского священника. Новая история Мушетты, 1978; Бернанос Ж. Сохранять достоинство, 1988.
==212
Творчество Мальро, Камю и Сартра (к сожалению, имя Бернаноса нельзя включить в этот список) довольно основательно изучено в отечественных историко-философских и литературоведческих работах, и здесь несомненный приоритет принадлежит С.И.Великовскому, автору трудов: «Грани «несчастного сознания» (1973), «В поисках утраченного смысла» (1979); ему, как представляется, удалось дать серьезный анализ творчества мыслителей, создающих свои произведения «на стыке философии и словесности». Философские идеи Ж.-П. Сартра исследованы также в работах М.А.Кисселя, В.Н.Кузнецова, Г.Я. Стрельцовой, Л.И.Филиппова и других.
Считаю своим долгом выразить искреннюю благодарность за советы Маньковской Надежде Борисовне и Никитину Валерию Александровичу, специалистам по современной французской культуре, и Походаеву Владимиру Сергеевичу, редактору издательства «Искусство», без помощи которого этот перевод вряд ли состоялся бы.
И.Вдовина
==213
Примечания
Кс.З.
*Эспр1» (Esprit)— теоретический орган французского персонализма,
первый номер вышел в октябре 1932 г. Э-Мунье
бессменно руководил
журнале»»
с момента его создания до своей смерти в 1950 г.
Пеги Шарль (1873—1914) — французский поэт, философ,
публицист, сторонник обновления христианства; оказал серьез-
ное воздействие на формирование идей Мунье,
особенно своей
концепцией деятельности, согласно которой
назначение чело-
века, пребывающего между небом и землей,
временем и вечнос-
тью, реальным и сверхреальным, состоит в том, чтобы простыми
человеческими средствами выполнять божественную задачу. В
1931 г. Мунье в соавторстве с М.Пеги (сыном
мыслителя) и
Ж-Изаром пишет книгу «Мысль Шарля Пеги» (La pensée de
Charles Péguy, 1931).
«Голоса безмолвия» (Voix du Silence, 1951) — новое, допол-
ненное издание трехтомного произведения Мальро
«Психоло-
гия искусства» (La Psychologie de l'art, t. 1—3,
1947—1950); на
русском языке отрывок из работы опубликован в сб.: «Писа-
тели Франции о литературе», 1978 и в кн.: Мальро А. Зеркало
лимба, 1989.
«Св. Жене» — речь вдет о произведении Ж.-П.Сартра
«Святой
Жене, комедиант и мученик» (Saint Genet, comédient
et martyr, 1952).
«Бунтующий человек» (L'Homme révolté) — трактат А.Камю,
написанный в 1951 г. На русском языке опубликован в одно-
именном сборнике работ Камю в 1990 г.
К с. 7.
воображаемый музеи» (Le Musée imaginaire) — первый том
трехтомного произведения А.Мальро «Психология искусства»
(La Psychologie
de l'art). См. примеч. к с. 3.
Его последний выбор — выбор голлизма...
— Отношение
А.Маль-
ро к Шарлю де Голлю,
видному политическому деятелю Фран-
ции, было определено обращением последнего от 18 июня 1940 г.,
214
призывавшим французов к сопротивлению
немецким оккупан-
там. Лично познакомился Мальро с генералом
де Голлем в
1945-м, в год окончания второй мировой войны (которую писа-
тель начал в танковых частях французской армии, а завершил в
рядах Сопротивления), став его горячим сторонником; в том же
году Мальро — советник де Голля, в 1945—1946
гг. — министр
информации в правительстве де Голля; в мае 1947 г. де Голль
основывает движение «Объединение французского народа»
(Rassemblement
du Peuple Fiançais), и Мальро становится его
соучредителем; в мае 1948 г. совместно с АОливье
и П.Пиа
Мальро начинает издавать печатный орган этого движения под
тем же названием; затем в течение десяти лет Мальро — министр
культуры (оставил министерство в 1969 г., вместе с де Голлем,
покинувшим пост президента).
К с. 9.
S Испании Мальро
воевал... — Через неделю после вспышки
франкистского мятежа, переросшего в гражданскую войну
в Испании, Мальро был в Мадриде, где, спешно выучив-
шись водить самолет, возглавил эскадрилью вольнонаем-
ных иностранных летчиков, сражавшихся на стороне рес-
публиканцев; совершил около 65-ти боевых вылетов, дрался
под Толедо, Мадридом, Гвадалахарой, дважды был подбит.
По горячим следам этих событий Написал роман «Надежда»
(1937).
Клодель Поль (1868—1955)
дипломат.
французский писатель, поэт,
Петэн Филипп (1856—1951) — политический и военный дея-
тель, глава правительства Виши, пришедшего к власти после
капитуляции Франции в 1940 г. и проводившего политику
сотрудничества с немецкими оккупантами.
К с. 10.
...когда он солидаризировался с коммунистами... — В начале 30-х
гг. Мальро сблизился с Коммунистической партией Франции; в
это же время он обращает свой взор в сторону Советского
Союза, где, как ему представлялось, вырисовывались очерта-
215
ния новой цивилизации и зарождался новый тип челове-
ческой общности — «мужественное братство»
сорат-
ников по совместной борьбе; особый интерес вызывала
у Мальро советская культура, и в первую
очередь литера-
тура и кинематограф. Получая Гонкуровскую премию за
книгу «Удел человеческий» (1933), Мальро признавался,
что написал ее, чтобы поддержать борьбу китайских комму-
нистов, на стороне которых он в 20-х гг. принимал участие
в гражданской войне в Китае. В 1934 г.
выступил на Первом
съезде советских писателей с речью «Искусство — это завоева-
ние» (см.: Мальро А. Зеркало лимба. М.,
1989). Отход от идей
коммунизма начался в 1937 г., а в 1939-м Мальро окончательно
порвал свои отношения с ФКП.
Думерг Гастон (1863—1937) — французский политический
деятель, в 1931 г. — президент Французской Республики.
К с.
13.
Местр Жозеф Мари де (1753—1821) — французский религиоз-
ный мыслитель и литератор.
Моррас Шарль (1868—1952) — французский писатель и поли-
тический деятель, сторонник монархизма, поддержавший кол-
лаборационистское правительство Виши.
Муссолини Бенито (1883—1945) — итальянский политический
деятель, глава итальянской фашистской партии и фашистского
правительства в 1922—1943 гг. и марионеточного правительства
Сало в 1943—1945 гг.
Сорель Георг (1847—1922) — французский писатель, критик
современной культуры, признававший революционный харак-
тер социализма. В книге «Персонализм» Мунье
скажет более
жестко: «Сорель был источником вдохновения и для Ленина,
и для Муссолини».
Хайдеггер Мартин (1889—1976) — немецкий философ, пред-
ставитель атеистического экзистенциализма.
216
К с. 16.
Паскаль Блез (1623—1662) — французский ученый и философ,
сосредоточивший свое внимание на
антропологической пробле-
матике, противопоставивший «доводы сердца» «доводам разу-
ма»; исходил из образа человека, которому свойственны непо-
стоянство, тоска, беспокойство.
Доклад ЮНЕСКО — речь идет о докладе «Человек и художествен-
ная культура» (L'Homme et la culture artistique),
сделанном Мадьро
в 1946 г. в Сорбонне на конференции под эгвдой
ЮНЕСКО.
«Призыв к интеллигентам» (Adresse aux intellectuels) — лекция,
прочитанная Мальро в парижском зале Плейель
5 марта 1948 г.
Текст лекции стал послесловием к роману «Завоеватели».
К с. 23.
Мерло-Понти Морис (1908—1961) — французский философ,
представитель феноменологическо-экзистенциалистского
на-
правления.
Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879—1940) —
лидер мелкобуржуазного идейно-политического течения,
теоретической базой которого являлась идея о перманент-
ной революции; отрицал основы ленинской теории социа-
листической революции — возможность ее победы в одной
отдельно взятой стране, необходимость создания идейно и
организационно единой марксистской партии пролетариа-
та, руководящую роль в революции рабочего класса и т.п.
Дюамель Жорж (1884—1966) — французский писатель,
поэт, драматург, критик, член Французской Академии.
Называл себя писателем мелкой буржуазии, наследником
индивидуалистической традиции французской культуры
и теории нравственного самосовершенствования челове-
ка.
К с. 24.
Валлес Жюль (1832-1885)
венный деятель.
-
французский писатель и общест-
К с.
26.
Бенда Жюльен (1867—1956) — французский публицист и пи-
сатель, осуждавший расизм и шовинизм, культ силы и апологию
войны; отдавал дань уважения левым силам, ведущим борьбу во
имя социальной справедливости.
К с. 29.
Моитерлан Анри (1896—1972) — французский писатель, член
Французской Академии, автор романов,
воспевающих физическую
силу, питающую, по его мнению, нравственную твердость людей.
Ницше Фридрих (1844—1900) —
немецкий философ, поэт,
родоначальник «философии жизни». В его работах критика
буржуазной культуры предстает как следствие универсаль-
ного отчаяния человека, которое Ницше называл нигилиз-
мом. В его творчестве миф о «сверхчеловеке» — сильной
личности, вне всяких моральных норм, с
жестокостью пре-
одолевающей буржуазный мир, сочетается с романтической
идеей «человека будущего», оставляющего позади себя со-
временность с ее пороками.
К с. 30.
Ален (настоящее имя — Шартье Эмиль Огюст, 1868—1951) —
французский литературный критик и философ.
К с. 31.
Отец
Фуко — Фуко Шарль де (1858—1916) — французский
исследователь Африки, в 1905 г. поселившийся в Сахаре и
посвятивший свою жизнь распространению христианства среди
местного населения.
Сельский священник — центральный образ творчества Ж.
Берна-
носа и название одного из его произведений (см. очерк «Истори-
ческий сверхнатурализм. Жорж Бернанос» в
настоящем издании).
К с. 34.
Лоуренс Томас Эдвард (1888—1935) — английский писатель-
востоковед, известный под именем Лоуренс Аравийский; мечтал
о создании арабской империи под влиянием Британии.
218
К с. 36.
Мориак Клод (р. 1914) — французский литературовед, писа-
тель, кинокритик, сын известного французского писателя
Франсуа Мориака; в 1944—1949 гг. — личный секретарь Шарля
де Голля.
К с. 38.
Ганди Мохандас Карамчанд (1869—1948) — один из руково-
дителей национально-освободительного движения Индии, ос-
новоположник доктрины, главным политическим
требовани-
ем которой являлось достижение независимости Индии мир-
ными средствами, путем вовлечения в освободительную борь-
бу широких народных масс при соблюдении принципа нена-
силия.
К с. 39.
Виктор Паль-Эмиль (р. 1907) — французский исследователь
Северного полюса, автор научных трудов,
описывающих жизнь
эскимосов.
К с. 40.
Бакунин
Михаил Александрович (1814—1876) —
русский рево-
люционер, социалист-утопист, представитель анархизма; его
идеи оказали влияние на идеологию итальянского, испанского,
швейцарского, французского рабочего движения.
Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921) — идеолог русского
и международного анархизма, чьи идеи получили широкое рас-
пространение в странах Западной Европы, в Латинской Амери-
ке, Индии, Китае.
К с. 41.
Берном Джеме (р.
1905) — американский философ, в 1933—
1940 гг. сторонник анархизма, впоследствии — критик марксиз-
ма, разделявший технократические идеи.
К с. 46.
Ясперс Карл (1883—1969) — немецкий философ, один из
основателей религиозного экзистенциализма.
219
К с.
48.
Invidia geographica — территориальные притязания (лат.}.
К с. 52.
Caritas generis hwnani — любовь к
роду человеческому (лат.).
К с. 53.
Сизиф — в древнегреческой мифологии строитель и царь Ко-
ринфа, после смерти принужденный
вкатывать на гору тяжелый
камень, который, едва достигнув вершины, каждый раз скатывал-
ся вниз; отсюда выражения: «сизифов труд», «сизифов камень»,
означающие тяжелую, бесконечную и
безрезультатную работу.
Баррес Морис (1862—1932) — французский писатель и поли-
тический деятель, член Французской Академии; один из ро-
доначальников жанра политического романа; в политике был
носителем националистических и почвеннических идей.
К с.
57.
Кемаль — Ататюрк
Мустафа Кемаль (1881—1938) —первый
президент (1923—1938) Турецкой Республики; в 1921—1923 гг.
руководил вооруженными силами в национально-освободитель-
ной войне против англо-греческой интервенции; по инициативе
Кемаля была провозглашена республика (1923),
проведен ряд
прогрессивных реформ в области государственного строитель-
ства, юстиции, культуры и т.п.
Генрих IV (1553—1610) — французский король, первый из
династии Бурбонов; содействовал укреплению
абсолютизма.
Мирабо Оноре Габриэль (1749—1791) — деятель Великой фран-
цузской революции.
К с. 62.
Манихейство — религиозное учение об окончательном торже-
стве добра над злом, созданное персом Мани (III в. н.э.).
К с. 63.
Энвер-Паша (1881—1922) — турецкий военный и политичес-
кий деятель, один из главных проводников идеологии пантюр-
кизма и панисламизма.
220
...когда поднялась
анархистская возня... — Думается, Мунье
имеет в виду Парижское восстание в августе—сентябре 1944 г.
К с.
64. .
Мы
сделали это в другом месте. — См.: Мунье
Э. Персонализм.
Ч. II: Персонализм и революция XX века.
К с. 66.
«Combat» («Борьба») —
подпольная антифашистская органи-
зация; выпускала газету под тем же названием.
К с.
71.
«Sept piliers» («Семь столпов мудрости», 1926) — произведение
Т.Э.Лоуренса (см. примеч. к с. 34).
Леви-Брюль Люсьен (1857—1939) — французский философ,
психолог, социолог, автор теории
«дологического мышления»,
согласно которой мышление первобытного человека принципи-
ально отличается от мыслительной деятельности в цивилизован-
ных обществах.
Фробениус Лео (1873—1938) — немецкий этнограф-африка-
нист, теоретик культуры как особого социального организма,
имеющего мистическое начало — «душу».
К с. 73.
«Посторонний» пришел к нам под сенью «Бытия и ничто»... — Роман
Камю «Посторонний» вышел в 1942 г., а в 1943-м была опубликована
книга Ж.-П.Сартра «Бытие и ничто», в которой
излагались основные
идеи экзистенциализма; в том же году Сартр дал анализ роману
«Посторонний» (Sartre I. -Р. Interprétation de
l'Etranger.— In: Situation.
I. Paris, 1947),
которым Камю восхищался, признавая обоснован-
ность многих критических замечаний и
суждений.
Жид Андре (1869—1951) — французский писатель, лауреат
Нобелевской премии.
«Брачный пир» (Noce, 1938) — сборник лирических очерков
Камю.
221
«Рассуждение о методе» (Discours de la
méthode, 1637) — одно
из основных сочинений французского философа Рене Декарта
(латинизированное имя Картезий, 1597—1650), представителя
классического рационализма, в котором содержится изложение
принципов его философии; такую же роль
выполняет и «Миф
о Сизифе» Камю — в нем автор теоретически формулирует свое
философское кредо (на русском языке работа опубликована в
кн.: Камю А. Бунтующий человек. М.,
1990).
Copto — речь идет о
знаменитом выражении Декарта «Cogito
ergo sum»
(«Мыслю, следовательно, существую»);
согласно
Декарту, этот принцип является первым
достоверным суждени-
ем нйуки и в то же время свидетельством о
непосредственно
данном сознанию объекте мышления — мыслящей субстанции.
К С. 74.
«Осадное положение» (L'Etat de siège, 1948) — пьеса Камю.
К С. 75.
Боэций
Аниций Манлий
Северин (ок.
480—524) — римский
философ и поэт, автор «Утешения философией», посвященной
теме свободы духа среди текучей видимости житейских дел, оп-
равдания бытия перед лицом страдания.
Экзшрт Иоганн (Майстер Экхарт, ок. 1260—1327) — немецкий
философ-мистик, монах-доминиканец.
Лютер Мартин (1483—1546) — немецкий религиозный мыс-
литедь и общественный деятель.
Шестов (Шварцман)
Лев Исакович (1866—1938) — русский
философ и литератор, последователь Паскаля, Кьеркегора, До-
стоевского, Ницше.
Вольтер (Аруэ Франсуа Мари, 1694—1778) — французский писа-
тель и философ эпохи Просвещения.
К
с. 76.
Бетховен Людвиг ван (1770—1827) — немецкий композитор,
автор всемирно известных симфоний «Героическая», «Пасто-
ральная», Девятая и др.
222
Куперен Франсуа (1668—1773) — французский композитор,
органист и клавесинист; основное место в наследии Куперена
занимают пьесы для клавесина, отличающиеся мелодичностью
и изяществом.
Франс Анатоль (наст. имя Тцбо
Анатоль Франсуа, 1844—1924)
— французский писатель, член Французской Академии.
Минерва — древнеримская'богиня, покровительница науки,
ремесла и искусства.
К
с. 77.
...^абстрактный политеизм» гуссерлевских
сущностей... — Речь
идет об учении о сущностях, объектах интеллектуальной, интуи-
ции, немецкого философа, основоположника феноменологиии
Эдмунда Гуссерля (1859—1938).
К с.
79.
«Яства земные» (Les Nourritures
terrestres, 1897) — роман
А-Жида.
К с. 81.
Янсенизм — неортодоксальное течение в католицизме, назван-
ное по имени нидерландского теолога Корнелиуса
Янсенш
(1585—1638), в котором проповедовалась строгость религиозно-
этических принципов, отрицалась свобода воли и поддержива-
лась идея предопределенности.
Карлейль Томас (1795—1881) — английский публицист, исто-
рик, философ, мировоззрение которого
сложилось под силь-
ным влиянием немецкого романтизма и классического идеа-
лизма; согласно Карлейлю, мир и история
предстают в виде
внешних одеяний, «эмблем», за которыми пребывает вечная
божественная сущность.
Руссо Жан-Жак (1712—1778) — французский мыслитель и пи-
сатель, один из представителей Просвещения; стоял на позициях
деизма, считая реальный мир вторичным, порожденным Богом.
2?3
К с.
82.
Кафка
Франц (1883—1924) — австрийский
писатель, отразив-
ший трагическое бессилие, обреченность «маленького человека»
перед лицом беспощадного и жестокого мира; автор романов
«Замок» (1931), «Процесс» (1931) и др.
К с. 87.
Стоицизм — школа древнегреческой философии, с точки
зрения которой всякое нравственное действие направлено на
самосохранение и самоутверждение человека, противостоящего
внешним обстоятельствам и самой судьбе.
К с. 88.
Сенека Луций Анней (ок. 4 г. до н.э. — 65 г. н.э.) — римский
философ, поэт и государственный деятель, представитель стои-
ческой философии; родился в Кордове
(Испания).
К с.
91.
Батай Жорж (1897-1962) - французский писатель, философ,
экономист.
К с. 93.
Прудон Пьер Жозеф (1809—1865) — французский философ,
социолог, экономист, теоретик анархизма.
Хуан де ла Крус (1542—1601) — испанский мистик и поэт.
К с.
98.
Эпикур (341—270 гг. до
н.э.) — древнегреческий философ-ма-
териалист.
К с. 99.
Салавен — герой романа Жоржа Дюамеля (см. примеч. к с. 23)
«Жизнь и приключения Салавена» (1966); Дописан — персонаж
романа Ж-Бернаноса «Радость» (1929).
К с. 100.
Августин
Аврелий (354—430) — христианский
философ и тео-
лог, важной чертой мышления которого было внимание к чело-
веческой личности и общечеловеческой истории.
224
К
с. 102.
Эдип — персонаж греческой мифологии и трагедии
Софокла
«Царь Эдип».
«Вечное возвращение»
— идея Ницше о бесцельном становле-
нии мира, а также о желании человека «пережить все еще раз».
К с. 103.
Прометей — в
древнегреческой мифологии титан, защитник
людей от произвола богов; похитил с Олимпа огонь и передал
его людям, за что был прикован к скале и обречен на непрекра-
щающиеся мучения.
К с.104.
Пьеро делла Франческа (1420—1492) — итальянский живопи-
сец, автор работ «Крещение Христа», «Бичевание Христа», «Вос-
кресение Христа» и др.
К с. 105.
...надо много лет прожить в Алжире... — А.Камю родился в
Алжире в 1913 г. и жил там до 1940 г. — до
того, как получил
приглашение занять место технического редактора
в газете
«Paris-soir» («Вечерний Париж»).
К с. 106.
Бретон Андре (1896—1966) — лидер и идеолог сюрреализма,
авангардистского направления в искусстве и эстетике, провоз-
гласившего своей целью изменение мышления и чувствования
человека и общественного уклада путем освобождения интуи-
ции от власти интеллекта и человеческого «Я» от оков матери-
ализма, логики, морали. «Второй манифест сюрреализма» на-
писан Бретоном в 1930 г.
К с.
108.
Виньи Альфред Виктор (1797—1863) — французский писатель,
чье творчество проникнуто мрачным пессимизмом.
-399
гг. до н.э.) — древнегреческий философ.
225
Кант
Иммануил (1724—1804) — немецкий
философ, родона-
чальник немецкой классической философии.
К с.119.
Гегель
Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — немецкий
философ, представитель немецкой классической филосо-
фии; социальную жизнь понимал как сверхиндивидуальную
целостность, возвышающуюся над отдельными людьми и
проявляющуюся через их связи и отношения к друг к другу.
Конт Огюст (1798—1857) — французский философ, один из
основоположников позитивизма и
социологической науки; раз-
вивал идею трех стадий интеллектуальной эволюции человече-
ства (теологическая, метафизическая,
позитивная), определяю-
щих развитие общества.
Спенсер Герберт (1820—1903) — английский философ и
социолог, один из основоположников позитивизма и органи-
ческой школы в социологии; строение общества и возникно-
вение в его рамках различных институтов истолковывал по
аналогии с живым организмом, для которого характерно раз-
деление функций между органами.
«Праведные» (Les Justes, 1949) — пьеса Камю.
К с.
120.
Левиафан — в библейской мифологии
морское чудовище.
К с. 124.
Квиетизм
— религиозно-этическое учение,
проповедующее
мистически-созерцательное отношение к миру, душевное
спо-
койствие, полное подчинение божественной воле, безразличие
к добру и злу, раю и аду.
Гренье Жан (1898—1972) — философ и эссеист, сторонник
христианского экзистенциализма; в 1931 г. лицеист Камю зна-
комится с Гренье, молодым преподавателем философии и лите-
ратуры, который становится его духовным наставником и дру-
гом; именно Гренье привил Камю вкус к философским размыш-
226
лениям, научил лучше
понимать самого себя. В 50—60-е гг.
Гренье — профессор философии в Сорбонне.
К с.
129.
«Affaire Mauritius» («Дело Маурициуса», 1928) — роман ав-
стрийского писателя Я.Вассермана.
К с. 130.
«Древо экзистенциализма» Мунье нарисовал в работе «Вве-
дение в экзистенциализмы» (Mounter Ε. Introduction aux exis-
tentialismes, 1946).
Кьеркегор Серен (1813—1855) — датский философ, теолог,
писатель, предшественник экзистенциализма.
Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — русский фило-
соф-экзистенциалист, близкий идеям персонализма.
Блондель Морис (1861—1949) — французский философ-спири-
туалист, создатель «философии действия».
Бубер Мартин (1878—1965) — еврейский религиозный фило-
соф, представитель «диалогического персонализма».
Марсель Габриэль (1889—1973) — французский философ,
пред-
ставитель христианского экзистенциализма, драматург, литера-
турный и музыкальный-критик.
К с.131.
Лефевр Анри (р.
1905) — французский философ и социолог,
в 1930—1958 гг. один из ведущих теоретиков марксизма; впос-
ледствии развивал идеи «перманентной культурной революции»;
в книге «Экзистенциализм» (L'Existentialisme, 1946) подверг
критике философию существования с позиций марксизма.
К
с. 132.
Св.
Фома — Фома Аквинский (Фома Аквинат, ок. 1225—1274)
— средневековый философ и теолог, основатель
философии
томизма, для которой характерно стремление
соединить строго
227
ортодоксальную позицию в
религиозных вопросах с уважением
к правам рассудка и здравого смысла.
Лейбниц Готфрид
Вильгельм (1646—1716) — немецкий фило-
соф, математик, физик, юрист, историк, языковед, завершитель
философии XVII в. и предшественник немецкой классической
философии.
Маритен Жак (1882—1973) — французский религиозный фи-
лософ, ведущий представитель неотомизма.
К с. 134.
Борджа — аристократический род испанского происхожде-
ния, игравший значительную роль в XV — начале XVI в. в
истории Италии.
К с. 137.
Св.
Бернар (Бернар
Клервоский, 1090—1153) — деятель като-
лической церкви, теолог-мистик; выступал против теологичес-
кого рационализма Абеляра (см. след. примеч.) и различных
еретических течений; мистические тексты св. Бернара
отмече-
ны лиризмом и устремлением к самораскрытию человеческого
«Я».
Абеляр Пьер (1079—1142) — французский философ, теолог и
поэт, сформулировавший собственное учение, получившее назва-
ние концептуализма, в котором разум частично обособляется от
веры и становится ее предварительным
условием («понимаю,
чтобы верить»).
Подражание — речь идет о «Подражании Христу», сборнике
религиозно-нравственных наставлений и размышлений, поль-
зовавшемся после Библии наибольшей популярностью в хрис-
тианско-католическом мире, автором которого считают монаха
Фому Кемпийского (1379-1471).
Ce. Франциск
(Франциск Ассизский, наст. имя Джованни
Бернардоне, ок. 1181—1226) — итальянский религиозный дея-
тель; в 1207—1209 гг. основал братство миноритов
(«меньших
228
братьев»),преобр азованноевмонашес
кийорденфранцискан-
цев; с 1206 г. посвятил себя проповеди евангельскойбедности.
К с. 139.
Шелер Макс (1874—1928) — немецкий философ и социолог,
один из основателей философской антропологии, аксиологии
и
социологии знания.
«Что вы стоите...» — Деяния Святых Апостолов, 1, 10—11.
Гностицизм — философское учение, широко распространив-
шееся в первые столетия
после возникновения христианства.
Его представители пытались познать скрытые в вере таинства
путем философского умозрения.
К с.
140.
Жильсон Этьен (1884—1978) — французский философ и исто-
рик философии, специалист по философии Средневековья.
К с. 142.
Левинас Эмманюэль (р. 1906) — французский философ, пред-
ставитель экзистенциалистско-феноменологической
диалоги-
ческой философии.
К с. 144.
Лейбницевское представление о гармонии — учение Лейбница
(см. примеч. к с. 130) о совершенстве действительного мира как
гармонии сущности и существования.
К с.
146.
Бергсон
Амри (1859—1941) — видный представитель «филосо-
фии жизни» и интуитивизма.
«Объективированное
бытие» у Бердяева характеризуется нис-
падением свободы в необходимость; в «падшем» мире результа-
ты деятельности, самовыражения духа принимают форму мерт-
вых продуктов, объектов, отчужденных от субъекта и подчинен-
ных необходимости — законам пространства и времени, при-
чинно-следственным отношениям, формальной
логике.
229
«Привычное бытие» у Бергсона — образ
жизни человека,
следующего привычке, ложным установкам, стереотипам, ско-
вывающим его свободу.
Апейрон — термин
древнегреческой философии, означающий
бесконечное, неопределенное, неоформленное.
К с. 150.
Картезианское
понятие вихря — с помощью образа вихря
Декарт (см. примеч. к с. 73) объяснял космическое движение:
текучая материя, непрерывно заполняющая мир, вихреобразно
движется вокруг центра — Солнца.
К с.151.
В
одной работе... — См.: Мунье Э. Персонализм; см. также: Что
такое персонализм? (Qu'est-ce que le personnalisme? 1946); Трак-
тат о характере (Traité du caractère,
1947).
К с. 152.
Мерзавец
~ это дезертир... — Французское слово «salaud»
переводится как «мерзавец», «сволочь»; Сартр обозначает этим
словом прозябающих «хозяев жизни», самодовольно уверенных
в своих правах и пытающихся доказать, что их существование
необходимо, а сами они достойны почитания.
К с. 157.
Барт — речь идет о Карле Борте (1886—1968) — швейцарском
протестантском теологе, основоположнике «диалектической
теологии», категорически отвергавшем попытки
религиозных
мыслителей исходить из потребностей и задач земного мира и
считавшем, что обоснование веры надо искать в ней самой: вера
— это божественное чудо, и проявляется она в форме диалога
между Богом и человеком.
К с. 163.
...Ницше с его горой... — У Ницше образ горы является
символом места, где человек может наслаждаться «своим духом
и своим одиночеством», «не утомляться счастьем» (Ницше Ф.
Так говорил Заратустра. М., 1990, с. 9), а также «взглянуть на
230
человека сверху вниз* (см.: Ницше Ф. Соч. в 2-х т., т. 1. M., 1990,
с. 792).
Паскаль с его власяницей... — Паскаль (см. примеч. к с. 16),
как известно, чтобы не утратить религиозного настроения,
покинул свет, удалился в деревню, ще
организовал свою жизнь
на строгих началах умеренности. Чтобы не
изменять этому
правилу, он одевал на голое тело утыканный острыми шипами
пояс («власяницу»), тем самым постоянно напоминая себе о
своем долге.
К с. 165.
«Экзистенциализм — это гуманизм» (L'Existentialisme est un
humanisme, 1946) — название работы Ж.-П.Сартра, в которой
популярно излагаются основные положения
философии суще-
ствования (на русском языке опубликована в сб.: Сартр Ж..-П.
Тошнота. М-, 1994).
Патристика — совокупность учений первых христианских
теологов, так называемых отцов церкви; формировалась в борьбе
против гностицизма (см. примеч. к с. 139); начиная с III в. отцы
церкви старались приспособить философию к обоснованию
христианства; главные представители патристики — Тертуллиан
(ок. 160 — ок. 222), Ориген (ок. 185 — ок.
254), Августин (см.
примеч. к с. 100).
К с.
166.
Соломон
Эрнст фон (1902—1972) — немецкий
писатель.
К с.
174.
Pater Noster — Огче наш (лат.}.
К с.
176.
Янсенизм — см. примеч. к с.
81.
Пор-Ройяль — монастырь в
окрестностях Парижа, основанный
в 1204 г., от которого в 1625-м отделился еще один монастырь,
обосновавшийся в Париже. В XVII в. оба монастыря были
важными центрами литературной и философской мысли; с 30-х
гг. XVII в. — центры янсенизма.
231
К с. 179.
Иов — в иудаистическюс и христианских
преданиях страдаю-
щий праведник, с позволения Бога
ввергнутый сатаной и анге-
лами в несчастья, болезни и нищету (см. Библия. Книга Иова).
Блуа Леон (1846—1917) — французский
писатель католической
ориентации.
К с.
180.
Миру Амри Ирене (1904—1977) — французский историк фи-
лософии.
К с. 184.
Дери Габриэль (1902—1941) — член ЦК Компартии Франции,
главный редактор газеты французских
коммунистов «Юманите»
(«Humanité»), участник движения Сопротивления, расстрелян-
ный гитлеровцами.
К с.185.
Дрюмон Эдуард (1844—1917) — французский националисти-
чески настроенный писатель и общественный деятель.
К с.
192.
Вилье деЛильАдан Филипп Огюст (1838—1889) — французский
писатель, прозаик, драматург.
К с.198.
Α β результате мы имели Мюнхен. — Речь идет о Мюнхенском
соглашении 1938 г. о расчленении Чехословакии, подписан-
ном главами правительств Англии, Франции, Германии, Ита-
лии.
К с.204.
У
Паскаля (см. примеч. к с. 16) есть своеобразная теория
развлечения», согласно которой человек, не желая задумываться
о своем несовершенстве, стремится убежать от себя самого во
внешнее существование: развлечения, погоню за удовольствия-
ми, азартные игры и т.п.; к этой теме неоднократно обращались
философы-экзистенциалисты для описания «неподлинной
жизни» людей.
232
К
с. 205.
Sanare oculos
cordis - исцеление, очищение
сердца (лат.}.
К с. 206.
(латГ^"' est ~ <телесное реалш0' [как и ^ остальное]»
Указатель имен
Абеляр П. 137
Августин Аврелий 100, 106, 132, 139, 205
Ален 30
Аристотель 17, 100
Арон Р. 66
Бакунин MA. 40
Баррес M. 53, 75
Барт К. 157
Батай Ж. 91
Беген А. 206
Бейгбедер М. 143
Бенда Ж. 25, 131
Бергсон А. 146, 150
Бердяев Н.А 130, 146, 158
Бернанос Ж. 29, 57, 99, 121, 122, 168-170, 172, 174
203—206, 208
Бернар Клервоский 137
Бетховен Л. ван 76
Бёрнем Дж. 41
Блондель M. 130
Блуа Л. 179, 183, 195
Бодэн П. 66
Борджа 134
Боэций 75
Бретон А. 106
Бубер M. 130
Бутан П. 148
Валлес Ж. 24, 195
Виктор П.-Э. 39
Вилье де Лиль А. 192
Виньи A.B. 108
Вольтер 75
Ганди М. 38, 51
Гегель Г.В.Ф. 119, 137, 156
Генрих ГУ 57
Гете И.В. 7, 36, 95
Гитлер А. 27, 118, 200-202
Голль Ш. де 9, 63
234
Гренье Ж. 124
Гуссерль Э. 97, 130, 159
Декарт Р. 75, 77, 85-87, 100, 109, 145, 150
Достоевский Ф.М. 75, 97
Дрюмон Э. 185, 192
Думерг Г. 10
Дюамель Ж. 23, 99
Жанна д'Арк 208
Жансон Ф. 132, 149, 159, 160
Жид А. 73, 82, 92
Жильсон Э. 140
Камю А. 20, 23, 53, 66, 68, 73-100, 102-120, 122-126, 129
Кант И. 109, 144
Карлейль Т. 81
Кафка Ф. 82, 83, 152
Кемаль (Ататюрк Мустафа) 57
Клодель П. 9, 47
Конт О. 119
Кропоткин П.А. 40
Купереи ?. 76
Кьеркегор С. 97,130,132,137,142-144,146, 157,158,164, 179
Леви-Брюль Л. 71
Левинас Э. 142
Лейбниц Г.В. 132
Лефевр А 131
Лоуренс Т.Э. 34, 47, 48
Лютер M. 75, 143
МальроА. 13-25, 27-32, 35-65, 70, 71, 81, 82, 84, 87, 91, 104
166
Маньи К.-Э. 177
Маритен Ж. 132
Маркс К. 138, 156, 199, 200
Марсель Г. 130, 131, 139, 144, 164
Мару А 180
Мерло-Понти M. 23, 156, 165
Местр Ж. де 13
235
Мирабо О.Г. 57
Монтерлан А. 29
Мориак К. 36, 71
Моррас Ш. 13, 199
МуненЖ. 11, 45
Муссолини Б. 13
Наполеон Бонапарт 10
Ницше Ф. 29, 32, 60, 61, 66, 75, 79, 83, 96, 100, 102, 106, 130,
135, 146, 153, 158, 163
Оливье А. 66
Павел, св. 53, 190
Паскаль Б. 16, 21, 45, 46, 59, 75, 109, 130, 132, 137, 138, 142,
144, 157, 158, 163
Пеги Ш. 182, 193, 206
Пери Г. 184
Петэн Ф. 9, 10
Пиа П. 66
Пикассо П. 51
Платон 53, 123
Прудон П. 93, 194
Пьеро делла Франческо 104
Руссо Ж.-Ж. 81, 108
Саломон Э. фон 166
Сартр Ж.-П. 13, 16, 17, 20, 23, 45, 66, 67, 69, 82, 130-132, 135,
136, 139, 140, 142-167
Сенека Л.А. 88
Сократ 109 '
Сорель Г. 13
Спенсер Г. 119
Толстой Л.Н. 23, 108, 118, 119, 121, 129
Троцкий Л.Д. 23
Фома Аквинский 132
Франко Ф. 198
Франс А. 76
Франциск Ассизский 137, 204
Фробениус Л. 51, 71
Фуко Ш. де 31
236
ЙЙТаЗДй 46· 69· 75· 130' 139· 140' ^,158, 159
Шелер M. 139
Шестов Л.И. 75, 97 130
Шово Ж. 66
Экхарт И. 75
Энвер Паша 63, 64
Эпикур 98
Ясперс К. 46, 50, 59, 75, 97, 130, 155, 164
|



