Иван Реверсов
АПОЛОГЕТЫ
Защитники христианства
Реверсов И. П. Защитники христианства (Апологеты). — СПб., 1898
См. библиографию.
Переиздания: СПб.: Сатисъ, 2002.; Русский паломник, 2007 (титул от этого издания)
. 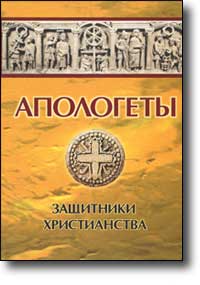
Профессор Казанской Духовной академии Иван Петрович Реверсов был известен на рубеже ХIХ-ХХ столетий как исследователь древней церковной письменности, однако, помимо сугубо академических трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви (Очерк западной апологетической литературы II и III вв. (Исследование из области древней церковной письменности). Каз., 1892;), И.П. Реверсов опубликовал книги, сыгравшие значительную роль в российском образовании. Его «Учебник истории» и «Записки по Новой истории» выдержали множество изданий, по которым училось несколько поколений гимназистов.
Оглавление
Условия возникновения апологетики
Задачи и методы древней апологетики
Значение древней апологетики
Св. Иустин Философ
- Апология I
- Апология II
- Разговор с Трифоном Иудеем
Татиан
Афинагор
- Афинагора Афинянина философа христианского прошение о христианах
- Афинагора Афинянина философа христианского о воскресении мертвых
Свт. Мелитон, еп. Сардийский
- Отрывок 1-й
- Отрывок 2-й
- Речь Мелитона Философа, которую он держал перед императором Антонином,
чтобы научить его познанию Бога и показать ему путь истины
Свт. Феофил Антиохийский
- Книга первая
- Книга вторая
- Книга третья
Ермий
- Ермия Философа осмеяние языческих философов
Тертуллиан
- Апологетик
- К народам
- К Скапуле
- О свидетельстве души
- Против иудеев
Марк Минуций Феликс
Условия возникновения апологетики
Древнейшая христианская апологетика, т.е. литературная защита христианства,
была вызвана теми неблагоприятными условиями, в каких находилась Христова Церковь
в первые три века своего существования.
Это было тяжелое для Церкви время, когда иудейство, а за ним и греко-римское
язычество напрягали все усилия, чтобы унизить, ослабить и, по возможности,
уничтожить христианство, не стесняясь для достижения этой цели никакими средствами,
даже самыми жестокими и несправедливыми. Было много причин, которые создали
такое враждебное и беспримерное в истории религий отношение к христианству,
но главнейшею из них был тот особенный характер христианства, в силу которого
оно объявляло себя религией единственно истинной и спасительной, религией универсальной
(вселенской), имеющей заменить все другие религии. Естественно, что такое притязание
на мировое значение должно было вызвать самую ожесточенную вражду к нему со
стороны народов, которые дорожили существованием своих религий и верили в их
непреложность и вечность, а так как на их стороне была материальная сила, то
христиане, бывшие в этом от ношении неизмеримо слабее своих противников, подвергались
жестоким преследованиям, запечатлевая тяжкими мучениями и потоками крови исповедание
Христовой веры, так ненавистной всем врагам христианства.
Первыми обратили внимание на христианство иудеи, так как первые христиане
вышли из их среды и к ним же раньше других народов направили свою проповедь
о Христе, указывая им исполнение в Его лице обетований и пророчеств о давно
и страстно ожидаемом иудеями Мессии. Но иудеи в громадном большинстве отвергли
эту проповедь, потому что они, при своем глубокочувственном характере и под
влиянием неблагоприятно сложившихся условий своей политической жизни, извратили
истинное понятие о Мессии. По их мнению, Он должен явиться в виде славного,
воинственного царя, который завоюет весь мир под власть иудеев и таким образом
вознаградит их за долгие годы унижения. Могло ли поэтому большинство иудеев
признать за обетованного Мессию Иисуса из Назарета, происходившего из бедной
семьи, жившего при самой скромной обстановке, по внешности не имевшего никаких
признаков царского достоинства и кончившего свою жизнь на кресте наряду с двумя
разбойниками? С другой стороны, признание распятого Иисуса за Мессию было бы
для иудеев равносильно самоосуждению, так как исключительно по их настойчивому
желанию, а не по требованию римского закона, Пилат предал Его смертной казни
на кресте. Сознание же в своей ошибке, а тем более такой роковой, не легко
для всякого, а для самомненных и упорных в каждом заблуждении иудеев было в
особенности тяжело. Утешительнее было думать, что не сами они совершили страшное
преступление, доведя до смерти своего Мессию, а что новая религия проповедует
совершенно ложное учение, которое поэтому нужно всячески уничтожать, Наконец,
главнейшею причиною иудейской вражды к христианству была различная до противоположности
иудейская и христианская точка зрения на закон Моисеев. Иудеи очень дорожили
этим законом, считая его имеющим такое же вечное существование, как само иудейство,
и единственным средством для спасения. Приверженность к нему была настолько
сильна, что даже обратившиеся в христианство иудеи, люди, значит, несколько
отрешившиеся от узости иудейских понятий, и те очень часто настаивали на необходимости
его соблюдения не только для природных иудеев, но и для обратившихся язычников [1].
Если же так смотрели на закон Моисеев иудеи, обратившиеся в христианство,
то остававшиеся в иудействе еще более ценили его, еще фанатичнее настаивали
на его вечном существовании и значении. Между тем христианство объявляло, что
закон Моисеев с пришествием Спасителя потерял свое значение, что, следовательно,
иудейство кончило свою историческую роль и должно уступить свое место христианской
религии. Это последнее обстоятельство всего более вооружало иудеев против христианства,
так что они сделались самыми первыми и самыми ожесточенными врагами христиан.
Раньше других их ненависть навлекли на себя апостолы как ревностные и неустрашимые
проповедники слова Божия, которые открыто учили о Божестве Иисуса Христа и
Его воскресении из мертвых и этою своею проповедью, а равно и многочисленными
чудесами обращали в христианство на род, иногда целыми массами. Весьма понятно,
что и проповедь, прямо или косвенно обличавшая убийц Спасителя, и результаты
этой проповеди были ненавистны фанатичным иудеям. Поэтому они прибегали к разным
средствам, чтобы заставить апостолов не разглашать своего учения. Они неоднократно
запрещали им проповедовать о распятом Иисусе, а когда простые запрещения не
действовали, то сажали их в темницу (Деян. 4, 3; 5, 18), подвергали телесным
наказаниям (5, 40) и даже несколько раз собирались умертвить (5, 33; 9, 23-24),
но апостолы чудесно или случайно всякий раз избавлялись от угрожавшей им опасности.
Подобно апостолам подвергались преследованию и прочие верующие. Однажды гонение
на них приняло такой опасный характер, что они, спасая свою жизнь, рассеялись
из Иерусалима по «разным местам Иудеи и Самарии» (8, 1). Будущий апостол Павел,
тогда еще Савл, «дыша угрозами и убийством на учеников Господа» (9, 1); «терзал
Церковь, входя в домы и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу» (8, 3).
В истории апостольского века были даже случаи, когда иудеи в порыве фанатической
ненависти к христианам предавали мученической смерти последователей Христа.
Так, были побиты камнями архидиакон Стефан (7, 58-59) и первый иерусалимский
епископ Иаков Праведный (Евсевий,
«Церковная История», кн. II, гл. 23). Ненависть
иудеев к христианам была так очевидна и общеизвестна, что царь Ирод в угоду
им казнил Иакова, брата Господня (Деян. 12, 2). В век мужей апостольских, если
верить преданию, был замучен кипрскими иудеями апостольский муж Варнава, один
из главных спутников и сотрудников апостола Павла. Но Бог хранил Свою Церковь.
Особенно большого вреда христианству иудеи причинить не могли, потому что они
сами были люди подзависимые, подпавши еще до Р. X. под власть римлян. С 70
года по Р. X., после иудейского восстания, права иудеев были еще более ограничены
римскою властью и они сделались еще бессильнее. Убийства христиан были противозаконны;
за них иудеи могли подлежать ответственности, а потому такие убийства были
редки. Лишенные возможности самостоятельно преследовать и притеснять христиан,
иудеи в бессильной злобе прибегали к постыдному средству — к клевете и подстрекательству
римских властей и народа. По свидетельству св. Иустина Философа, иудеи «послали
избранных людей из Иерусалима во всю землю разглашать, будто явилась безбожная
ересь христианская, и распространять клеветы против христиан, которые обыкновенно
повторяют все незнающие христианства» («Разговор с Трифоном Иудеем», гл. 17,
ср. гл. 108). Наконец, настало время, когда и это оказалось бесполезным, так
как само язычество, и помимо иудейских подстрекательств, обратило внимание
на христианство и возненавидело его.
Язычество, обладавшее всеми материальными средствами, чтобы причинить христианству
громадный вред, было поэтому для него врагом более опасным, чем иудейство,
но по действию Промысла Божия, язычники обратили внимание на христианство уже
тогда, когда количество христиан значительно возросло, когда христианство сравнительно
окрепло для борьбы со страшным врагом.
В среде язычников на христиан прежде всего обратили внимание люди, интересы
которых ближайшим образом страдали от распространения христианства, каковы
все те, кому язычество давало хлеб насущный, — делатели идолов, архитекторы
храмов, скульпторы, живописцы, поставщики жертв, гадатели и особенно, конечно,
жрецы.
С распространением христианства уменьшался спрос на их знания и произведения,
а вместе с тем уменьшался и их заработок, и потому они естественно должны были
возненавидеть христианство, которое наносило им материальный ущерб, затрагивало,
таким образом, их самое чувствительное место. Питая к нему злобу, они, подобно
иудеям, стали подстрекать против христиан народ, результатом чего были нередкие
преследования христиан. По сказанию книги Деяний Апостольских, первое враждебное
волнение народа против христиан возбудил в Ефесе серебряных дел мастер, Димитрий,
делавший маленькие серебряные храмы Артемиды (19, 24-40). Чем дальше шло время,
чем заметнее уменьшалось количество идолопоклонников, тем более люди, заинтересованные
в этом, ненавидели христиан и искали случаев отомстить им за свои потери.
Далее, христианство стали замечать и люди, которым оно если и не наносило
ни убытков, ни какого-нибудь другого вещественного вреда, то, во всяком случае,
казалось странным, иногда достойным только презрения, а в других случаях —
порицания и ненависти. Со стороны внешней, по социальному положению членов
христианской церкви, оно казалось презренным. В самом деле, христианство, обещавшее
за унижения и бедствия в настоящей жизни утешение в будущей, учившее о равенстве
перед Богом всех людей, независимо ни от их богатства, ни от знатности происхождения,
проповедовавшее, что в Царстве Божием нет различия между рабом и свободным,
скорее всего прививалось среди людей забитых и обездоленных, для которых настоящая
жизнь представляла одну только тяготу и муку и не давала никакой утехи. Таковыми
были по преимуществу мелкие труженики, едва добывавшие средства к пропитанию,
и особенно рабы, люди совершенно бесправные, находившиеся в полной зависимости
от произвола и даже каприза своих господ. На таких людей богатый и знатный
язычник смотрел с презрением, как на жалкие отбросы общества, часто не признавая
за ними и человеческого достоинства. Принадлежность их к христианству давала
ему повод думать, что и сама религия их невысокого достоинства, если ее исповедуют
такие люди. Цецилий в «Октавие» Минуция Феликса называет их людьми «жалкой,
презренной секты, которые набирают в свое нечестивое общество последователей
из самой грязи народной, из легковерных женщин, заблуждающихся по легкомыслию
своего пола» (гл. 8). Цельс издевается над тем, что «разные шерстянники, сапожники,
кожевники, самые необразованные, самые низкие люди были самыми ревностными
распространителями христианства и проповедовали его прежде всего среди женщин
и детей» (Ориген, «Против Цельса», кн. 3, гл. 55).
Кроме того, первые проповедники христианства вышли из Иудеи, их даже считали
иудейскими сектантами, а это также не благоприпятствовало христианству, потому
что иудеи не пользовались уважением среди язычников за то, что сами свысока,
как богоизбранный народ, смотрели на язычество и, по возможности, отстранялись
от него: не покупали у язычников хлеба, масла, вина и других предметов, не
принимали их в свидетели и т.д.
Если социальное положение христианского общества вызывало в язычниках только
презрительное отношение к нему, то жизнь и учение христиан, непонятые язычниками,
не проникавшими в их сокровенную сущность, а судившими о них только понаслышке,
возбуждали в язычниках недобрые чувства. Так, например, язычники не понимали
значения тайных собраний христиан где-нибудь в катакомбах или вообще в каких-либо
потаенных местах и, на основании распускавшихся недоброжелателями христианства
слухов, истолковывали их в дурную сторону. Не желая понять, что скрытность
христиан была вынужденною, чтобы обезопасить свои молитвенные собрания от грубого
вторжения в них язычников, они думали, что таинственность этих собраний служит
покровом пороков или преступлений христиан — разврата, детоубийства и т. д.
В настоящем случае молва имела за себя как бы некоторое вероятие, так как сами
христиане говорили о вечерях любви (агапах), о заклании агнца, о вкушении плоти
и крови, а из непонятных фраз создавались целые легенды о безнравственности
и преступности христиан. Кроме того, были христианские секты, например, николаитов,
карпократиан и другие, в которых разврат узаконялся как одно из средств умерщвления
плоти, а отличить хороших христиан от худых язычники не умели, да и не давали
себе этого труда, обвиняя всех христиан без разбора. В другую же сторону, как
новое доказательство нравственной распущенности христиан, истолковывалась язычниками
любовь христиан друг к другу, их название друг друга братьями и сестрами, их
братские поцелуи.
Что касается христианского вероучения, то оно казалось язычникам то странным,
то отталкивающим, то прямо ненавистным, как отклонение от узаконенных норм.
Странным казалось язычникам, что христиане считают Бога существом исключительно
духовным и, покланяясь Ему, не имеют ни храмов, ни изображений божества, ни
жертв, тогда как греко-римское язычество представляло себе богов человекообразными
существами (антропоморфизм) и поклонение им считало возможным только под видимыми
образами (под видом идолов), жертвы считало необходимою принадлежностью богослужения,
а свое благочестие поставляло в построении многих и великолепных храмов. Язычник
Цецилий, например, говорит: «Почему они (христиане) не имеют никаких храмов,
никаких жертвенников, ни общепринятых изображений?» (Марк Минуций Феликс, «Октавий»,
гл. 10). Еще хуже принималось язычниками учение о Божестве Иисуса Христа. Язычники
ставили христианам в упрек, что они считают за Бога человека, преданного позорной,
рабской казни на кресте. Не понимая спасительного значения крестных страданий
и смерти Иисуса Христа, язычники видели в них только наказание за какие-нибудь
проступки. По их воззрению, Христос был или злодей, или, вернее, бунтовщик,
подобно многим другим, какие являлись в Иудее после покорения ее римлянами,
и власти наказали Его самою позорною казнью для устрашения других и для водворения
общественного спокойствия. На этот счет также составлялись легенды. По словам
Иерокла, Иисус Христос, выгнанный из Иудеи, набрал себе шайку в 900 человек
и занимался разбоями (Лактанций, «Божественные наставления», кн. 5, гл. 3).
Отталкивающее впечатление на язычников производило и то, что христиане почитают
орудие позорной казни — крест. Это убеждало их, что культ христиан вполне соответствует
их почитанию за Бога человека-злодея. «Значит, — говорит Цецилий, — они имеют
алтари, приличные злодеям и разбойникам, и почитают то, чего сами заслуживают»
(«Октавий», гл. 9). Циничная молва добавляла далее, что они поклоняются и голове
осла, и еще худшим предметам...
Как ни странной и даже отталкивающей казалась язычникам религия христиан и
предметы их поклонения, однако язычники еще могли бы так или иначе примириться
с ними, так как и в языческих религиях было много неприглядного, но было одно
обстоятельство, которое неизбежно заставляло язычников враждебно относиться
к христианству. Хотя сами язычники в данное время и не все и не всегда искренно
веровали в своих богов и благоговейно чтили их, однако же они по крайней мере
официально считали своим долгом признавать богов и соблюдать внешние формы
богопочтения. Для римских язычников, в частности, это имело очень важное значение,
так как их религия была тесно связана с государством и процветание последнего
ставилось в прямую зависимость от существования и непоколебимости первой. Вследствие
этого христиане, отрицавшие языческих богов, как ложных, удалявшиеся от служения
им и не принимавшие участия в торжественных празднествах в честь их, этим самым
одновременно оскорбляли и религиозное, и национальное чувство римлян: казались
вредными безбожниками, так как христианского Бога язычники не считали за Бога,
казались врагами нации, как не входящие в ее интересы. Кроме того, у римлян
существовало, веками составившееся, суеверное убеждение, что непочитание их
богов влечет за собою божеское наказание в виде различных государственных и
общественных несчастий. В первые века христианства таких несчастий действительно
было много в римской империи, и язычники естественно считали виновниками их
христиан, оскорблявших богов своим непочтением к ним. На этой почве главным
образом создавалась особенно упорная и ожесточенная ненависть к христианам.
Поэтому иногда достаточно было одного умелого подстрекательства, особенно со
стороны ловких жрецов, в момент какого-нибудь возбуждения страстей, чтобы глухая
вражда к христианам прорвалась в стремлении их уничтожить, в требование их
казни. «Долой безбожников», «долой христиан», «христиан — львам, христиан на
огонь!» — кричала иступленная толпа во время народных празднеств, среди представлений
цирка, или же по поводу общественных несчастий. Бывали случаи, когда власти
уступали требованиям толпы, а иногда она и собственноручно расправлялась с
ненавистными ей христианами. По свидетельству Тертуллиана, толпа не щадила
даже трупов христиан, вырывая их и кощунствуя над ними. Впрочем, до II - го
века нашей эры случаи казни христиан по одному требованию толпы были немногочисленны.
И здравый смысл, и уважение к закону заставляли римских правителей чаще отклонять,
чем исполнять желание народа. Но это продолжалось только до тех пор, пока на
христиан не обратило должного внимания римское правительство и пока христианство
не было подведено под действие старых и новых, враждебных для него, законов.
С начала второго века по Р.Х. положение христианства изменилось к худшему,
так как к прежним врагам его присоединился новый и при том самый опасный. До
этого времени римское правительство не обращало внимания на христианство, как
незначительную иудейскую секту, которая по своей ничтожности и с количественной,
и с качественной стороны не могла вызывать иного к себе отношения, кроме презрительного,
и во всяком случае не могла казаться опасной для таких прочно установившихся
институтов, как римское государство и его государственная религия. Кроме того,
к счастью для христианства, в первый период распространения его в римской империи,
престол занимали худые императоры, которые, занятые своими вечными делами больше,
чем государственными, и не могли обратить должного внимания на христианство
и понять
его значение. К концу первого века обстоятельства изменились. Христианство
делало слишком быстрые успехи, проникая во все слои общества, не исключая и
высших. Христианское общество насчитывало своих членов тысячами даже в самом
Риме, не говоря уже о других городах империи. Наряду с этим мы видим на римском
престоле лучших императоров, которые вникали во все государственные нужды,
стремились усилить государство и с внешней, и с внутренней стороны и придать
ему блеск цветущего периода республики. Такие императоры не могли не обратить
внимания на необычайные успехи христианской проповеди и умножения христиан.
Они должны были убедиться, что христианство — далеко не простая и не безопасная
для государства иудейская секта. Из многочисленных случаев столкновения язычников
с христианами мало-помалу выяснялся универсальный характер христианства, который
должен был убеждать правительство, что христианство грозит подорвать отечественную
религию и тесно связанный с нею государственный строй. Имея все основания дорожить
как той, так и другим и даже прилагая все старания на усиление их, правительство
понимало, что теперь нельзя, как прежде, оставлять без внимания христианство
и обходиться без определенных к нему отношений, несомненно, враждебных. Поэтому
правительство или поставило христиан под действие существующих законов, неблагоприятных
для христианства, или же издало новые, специально направленные против него.
Прежде всего, с римской точки зрения, христианство, как не санкционированное
римским законом, было религией недозволенной (religio illicita), не имеющей,
значит, права на существование. Правда, Рим отличался широкою веротерпимостью
ко всем религиям, дозволяя всем подвластным ему народам свободно отправлять
установившиеся у них культы, каким бы характером они не отличались, даже таким
диким и исступленным, как служение Бахусу и Цибеле, и таким мрачным, как культ
персидского Митры. Отправлять эти культы позволялось и в самом Риме. По словам
Дионисия Галикарнасского, «люди, принадлежавшие к тысяче народностей, приходят
в город (Рим) и воздают здесь поклонение отечественным богам по своим иноземным
законам». Даже иудейство не составляло исключения в ряду других религий. Иудеи
пользовались правом поклоняться своему Богу везде, в том числе и в Риме. Государство
только обязывало чужеземцев уважительно относиться к римскому культу, не навязывать
своих религиозных убеждений римским гражданам, справлять свои обряды скромно,
без публичного доказательства, где-нибудь на окраинах Рима. Терпимость римлян
шла еще дальше. Государство само принимало чужеземные культы. В римский пантеон
постепенно, один за другим, были приняты боги всех стран и народов, подчиненных
Риму, и коренным римлянам не возбранялось поклоняться любому из них, но только
под непременным условием держаться в то же время отечественного государственного
культа и оказывать ему предпочтение перед чужеземными.
При всем том Рим не мог допустить существования христианства и должен был
преследовать его, как недозволенную религию. Исключительные отношения к христианству
объяснялись исключительностью положения самого христианства, которое слишком
резко отличалось от всех древних религий и, на взгляд правительства, не могло
быть подведено под общий с ними масштаб. Позволяя и чужеземцам, и римлянам
поклоняться каким угодно богам и даже само принимая их в свой пантеон, государство
знало, что оно допускает почитание богов национальных, а это с римской точки
зрения имело очень важное значение. Уважая своих богов за то, что они будто
бы содействовали славе и могуществу Рима, римляне и в чужеземных богах видели
покровителей тех народов, которые их почитали. Поэтому они с суеверным страхом
боялись оскорбить этих богов, чтобы не навлечь на себя их гнева. На этом основании
считалось у них дозволенной даже иудейская религия, так отличающаяся от всех
религий. Можно, далее, предполагать, что римляне склонны были думать, будто
чужеземные языческие боги в сущности схожи с их собственными, только носят
другие названия и являются в другой форме. По отношению же к христианству они
не могли руководствоваться такими соображениями. Христианская религия не была
национальною, так как не была привязана ни к какому определенному народу, как
религия языческая и иудейская. Она даже не имела за собою авторитета древности,
который хоть сколько-нибудь мирил бы с ее существованием, так как в глазах
римлян древность была почтенна и достойна уважения. Христианский Бог ничем
себя не заявил, его почитатели терпят горькую участь. Следовательно, Его нечего
бояться, а с христианами нечего церемониться, так как их можно истреблять без
опасения навлечь на себя гнев их Бога. С другой стороны, иноземцы почтительно
относились к римскому культу, не делали попыток его унизить и обесславить,
а природные римляне, исповедовавшие чужеземный культ, были обязаны чтить отечественных
богов и действительно чтили их. Христиане же, к какой бы нации они не принадлежали,
одни из всех подданных не соблюдали этого требования римского закона. Они не
только отказывались поклоняться римским богам, но и богохульно (с римской точки
зрения) отзывались о них как о богах ложных, доходя иногда до утверждения,
что все язычество есть дело демонов. При этих условиях нельзя было ожидать,
что правительство отнесется к христианству с обычною терпимостью; было бы весьма
удивительно, если бы оно, дорожа государственной религией, так оскорбляемой
христианами, не начало гонения на христиан с целью уничтожить их зловредное
учение.
Видя неуважение христиан к римским богам, правительство могло предъявить им
и общенародное обвинение, что по вине христиан государство терпит несчастия.
Высказанное правительством, это обвинение могло принести христианам еще большие
преследования, чем то же обвинение, выставленное против христиан народом.
Не могло правительство равнодушно отнестись также и к претензии христианства
на универсальное значение. Стремление его сделаться единой всеобъемлющей религией
было равносильно уничтожению всего язычества, в том числе и римского. Без противоречия
исконным и самым дорогим убеждениям всего римского народа правительство допустить
этого не могло. Религия имела слишком большое значение для государства. Ведь
ей, по мнению римлян, государство было обязано своим могуществом, так как римские
боги оказались сильнее других богов. Она, значит, служила залогом и обеспечением
и дальнейшего славного его существования. Поэтому государственная сторона религии
ценилась всегда очень высоко каждым патриотически настроенным римлянином, а
всякие поползновения на поколебание ее авторитета были ограждены законом. По
несчастному для христиан стечению обстоятельств столкновение христианства с
язычеством произошло в самый неблагоприятный для первого момент. Если, вообще,
закон и правительство покровительствовали римскому язычеству и охраняли его,
то со времени империи употреблялись нарочитые усилия, чтобы не только сохранить
государственное значение римской религии, но и всю ее представить имеющей крепкий
жизненный вид. Правительственная поддержка религии была тем интенсивнее, чем
более чувствовалась внутренняя слабость римской религии, не удовлетворявшей
уже религиозного чувства язычника и не устоявшей перед судом философской и
исторической критики, в результате чего появилось почти всеобщее неверие в
римских богов. Стараясь оживить язычество и придать ему внешний блеск, императоры
имели целью замаскировать или парализовать это неверие. Так, Августин возобновил
храмы, пришедшие в упадок во время гражданских войн, построил несколько новых,
возобновил религиозные праздники, придавши им пышный и торжественный вид, и
старался оживить древние предания. Даже такие императоры, как Тиверий, Клавдий
и Нерон, которые не особенно заботились о благе государства, считали нужным
поддерживать римскую религию законами и собственным примером. Что же касается
лучших императоров, как Веспасиан и члены фамилии Антонина, то они оказывали
безусловное уважение отечественной религии в виду ее важного значения для государства.
Христиане, не ценившие этой религии и говорившие об ее уничтожении, являлись
врагами государства, не заслуживающими никакого снисхождения.
Тяжесть их вины усугублялась еще тем, что они, наряду с общим отрицанием римской
религии, не признавали и того существенно важного придатка к ней, каким она
обогатилась со времени империи, — культа цезарей, тогда как он имел все данные,
чтобы сделаться самым популярным и чтимым. В нем выражался и римский патриотизм,
так как в лице обоготворенных представителей государства в сущности боготворилось
само государство, выражались и верноподданические чувства, особенно к хорошим
государям, доставлявшим империи благоденствие и славу. Он льстил самолюбию
императоров и, следовательно, усердным отправлением его можно было снискать
благосклонность всемогущественных владык. Он, наконец, представлял прелесть
новизны, заманчивой для изверившихся в старых богов римлян. Вследствие этого
римляне так охотно чтили его, что он вскоре же после возникновения стал во
главе государственной религии, и как все, относившееся к ней, сделался строго
обязательным. Все жители обязаны были принимать в нем участие, так как все
наслаждались римским миром и жили под покровительством империи. Каждый верноподданный
должен был иметь у себя в доме изображение императора между своими пенатами.
Если же кто-либо по небрежности или по неуважению не хотел выражать божеского
чествования императору, с таким поступали как с величайшим преступником. По
смерти Августа несколько сенаторов были наказаны по обвинению в том, что они
оказывали непочтение Августу, как богу. В царствование Нерона сенатор Фразея
Пет, по сознанию современников — воплощенная добродетель, принужден был вскрыть
себе вены, так как был обвинен, что никогда не приносил жертв за благоденствие
государя, или за его небесный голос, не верил в божественность Помпеи. Иноземные
подданные Рима, желая заискать перед всемирными владыками, не только приняли
этот культ, но в выражениях истинного или мнимого благоговения к священной
особе императора иногда даже превосходили римлян, особенно жители Востока,
где апофеоза царей существовала раньше, и где лесть и угодничество были в большом
ходу. При известной доле раболепия, культ цезарей, сам по себе возбуждавший
почтение и преданность, принял самые резкие формы человекоугодничества. Стали
обоготворять не только умерших императоров, но и живых, не только самих императоров,
но и членов их семьи, даже их любимцев и любимец. Праздники в честь их справлялись
со всевозможною торжественностью и пышностью, храмы в честь их строились в
изобилии повсюду, — как в Риме, так и в провинциях, — причем не жалели ни частных,
ни общественных средств для их украшения. В храмах других богов наряду с ними
стояли изображения императоров. И при таком увлечении всех римских подданных
отправлением императорского культа, при такой щепетильности римских властей
к случаям непочтения к нему, христиане отказывались воздавать императорам божеские
почести! Можно поэтому судить, как враждебно должно было отнестись к христианам
и римское общество, и римское правительство, особенно сами императоры, в виду
пренебрежения христиан тем, что ставилось каждому подданному в непременную
обязанность и чем искренно увлекались многие. При этом условии всего легче
было возвести на христиан обвинение в оскорблении величества со всеми его последствиями.
Если, как мы видели, даже сенаторское звание не спасало от наказания за непризнание
божеского достоинства императора, то христианам, вообще ненавидимым, нечего
было ждать пощады. История отметила, что два самых жестоких гонения на христиан
во втором веке происходили в городах, которые, как Лион и Смирна, были средоточием
императорского культа, и притом оба гонения, очевидно, находились в связи с
празднествами в честь императоров. Все осуждения христиан на казнь, на ссылку
производились после того, как христиане окончательно отказывались от принесения
жертв в честь императора, курения фимиама перед его статуей и клятвы его гением.
Напротив, заведомых христиан, наружно исполнявших все это, нередко отпускали
на свободу.
Но христиане не только отказывались чтить императора как бога, они в некоторых
случаях оказывали ему непочтение и вообще как государю. Избегая всего языческого
из боязни им оскверниться, они устранялись от общих официальных празднеств
в честь императоров — во дни их восшествия на престол или по случаю побед.
Случалось даже, что христиане в излишке ригоризма избегали даже и таких невинных
вещей, как иллюминация своих домов или украшение их зеленью. Если же им по
их положению, например, солдатам из христиан, поневоле приходилось участвовать
в таких празднествах, то они старались показать, насколько это было возможно,
малую свою причастность к ним. Не говоря уже об отказе участвовать в жертвоприношениях,
они в то время, как солдаты-язычники имели венки на головах, держали их в руках,
считая увенчивание головы чем-то языческим. Все это должно было вооружить против
христиан и общество, и правительство. Видя христиан отсутствующими на празднике,
видя дома их не иллюминованными и не украшенными гирляндами, а солдат их не
увенчанными, язычники могли думать, что христиане не сочувствуют радости народа
и императора, и на этом основании считать их врагами цезаря (hostes Caesarum).
Еще более могли оскорбляться этим власти и сам император, а потому все обнаруженные
случаи такого непочтения к императору влекли за собою наказание виновных христиан,
которое далее могло распространиться на всех вообще христиан, так как и всех
их язычники могли считать повинными в неуважении к особе цезаря.
Уклоняясь от участия в императорских празднествах, некоторые христиане вообще
чуждались общественной жизни: не поступали в военную службу, не занимали государственных
и общественных должностей, не входили даже в простые сношения с язычниками,
так как везде и всюду можно было оскверниться язычеством, которое проникало
во все, даже частные случаи жизни. При малом вначале количестве христиан это
было не особенно заметно, но с разрастанием христианского общества это особенно
резко бросалось в глаза язычникам. Не зная мотивов, побуждавших христиан к
этому, а, узнавши, не придавая им значения, язычники, держась государственного
принципа, что всякий гражданин по мере своих сил должен служить государству,
видели в удалении христиан от государственной службы неисполнение гражданского
долга. Отчуждение христиан от общей языческой жизни истолковывалось как неприязнь
к обществу, неприязнь к отечеству. В том и другом случае христиане подлежали
наказанию, так как государство не могло у себя терпеть таких членов, которые
не выполняют его законов или же враждебно относятся к нему.
Если одно удаление христиан от общегражданской жизни наводило на подозрение
в неприязненном отношении христиан к государству, то еще подозрительнее должно
было взглянуть правительство на скрытность христиан, на их тайные собрания
в глухих местах и, преимущественно, ночью. Оно думало, что христиане потому
и скрытничают, что в тиши и уединении им удобнее измышлять и осуществлять свои
преступные противогосударственные замыслы. В этом сказалась обычная подозрительность
римского правительства, которое было запугано разными заговорами и готово было
видеть политические цели даже и там, где их совсем не было и быть не могло.
Преимущественно со времени империи, когда заговоры следовали одни за другими,
оно прилагало особые старания, чтобы уничтожать и не допускать возникновения
всяких корпораций, с какою бы целью они не составлялись. Например, в Никомидии,
часто страдавшей от пожаров, была учреждена артель рабочих, на обязанности
которых лежало тушение пожаров, но Траян воспретил такую артель, говоря, что
такие общества или колонии легко превращаются в злоумышленные сходки, под каким
бы именем и с какою бы целью они не учреждались. Тот же Траян в 99 году издал
указ против всякого рода гетерий, который своею строгостью превзошел все существовавшие
до него законы о тайных обществах. Подозрительность римлян простиралась и на
религиозные общества, не санкционированные правительством, потому что они опасались,
что религиозные цели были только предметом, а за ними скрывались политические
замыслы. Естественно, что на христианскую общину с ее тайными собраниями правительство
могло взглянуть как на политическую корпорацию, враждебную государству, тем
более, что сами христиане подавали к тому повод, неосторожно высказываясь об
ожидании нового царства, которое, очевидно, не тождественно с римским, о близком
нарушении Рима и т.д. Христианство поэтому было подведено под разряд гетерий
и, как всякое недозволенное общество, подлежало строгой ответственности перед
судом уголовных законов.
Таким образом, все взаимоотношения между римским правительством и христианством
должны были приводить к преследованию христиан. Из церковной истории видно,
что гонения на них в разных частях империи не прекращались до издания знаменитого
указа Константина Великого, но иногда, на основании императорских эдиктов они
принимали общегосударственный характер и потому наносили христианству особенно
большой вред. Самые систематические гонения падают на царствование лучших императоров,
тогда как при императорах худых, их или совсем не было, или же они носили случайный
характер, как, например, при Нероне, который начал преследовать христиан, чтобы
сложить на них вину за римский пожар. Начало систематическим гонениям положил
Траян (99 — 117). По натуре своей он не был жестоким деспотом в духе Нерона
или Домициана. Это был государь справедливый и добрый; ему не чужды были и
филантропические идеи, но как император, поставивший своей задачей упрочить
государственные и религиозные устои, и притом крайне подозрительный ко всяким
проявлениям сепаратизма в государстве, он не мог благосклонно отнестись к христианству,
выделявшемуся из общего течения римской жизни. Рассматривая его отношения к
христианам, поскольку они выразились в его указе, нужно предполагать, что для
него не выяснился еще универсальный характер христианства, который мог бы еще
больше восстановить его против христиан, но и то, что христиане по жизни и
учению не подходили под общий склад римской жизни, заставляло его употребить
против них стеснительные меры. Самое знакомство его с христианством и возникшее
отсюда отношение к нему произошло совершенно случайно. В 99 году Траян издал
эдикт против тайных обществ, имеющий отношение главным образом к области Вифинии,
где замечалось много беспорядков. Правитель этой области, Плиний Младший, был
удивлен, когда к нему представили массу людей, обвиняемых в нарушении вышеозначенного
указа и называвшихся христианами. Самый добросовестный допрос с применением
даже пытки для некоторых из обвиняемых не выяснил их участия в каком-нибудь
запрещенном обществе, какой-либо их преступности. Выяснилось только, что они
исповедуют особенную религию, не принадлежащую к числу дозволенных, которой
они держатся с непоколебимым упорством, и, на основании ее предписаний, отказываются
воскурять фимиам и делать возлияния перед изображениями богов и императоров.
Как ревностный чиновник, Плиний счел нужным наказать их и за это, но в виду,
с одной стороны, новизны дела, а с другой, — множества обвиняемых, он колебался:
поступил ли он правильно, а потому, изложивши в письме к императору все обстоятельства
дела, испрашивал его руководства для дальнейшего отношения к христианству.
Траян ответил ему в форме указа, что христиан не следует отыскивать наряду
с другими преступниками; равным образом не следует принимать на них анонимных
доносов, но если они будут представлены в суд и уличены, то должны быть наказаны.
Меру наказания Траян не определил точно, говоря, что для разных случаев должна
быть и различная кара, но обыкновенным наказанием в таких случаях была смертная
казнь. Таким образом, явился первый императорский указ, специально направленный
против христиан. По-видимому, этот указ был довольно благосклонен к христианству,
потому что специальные розыски и анонимные доносы на них еще запрещались, но
в сущности он был жесток. По смыслу его — христианство само по себе, независимо
от качества его последователей, должно быть наказуемо, как религия недозволенная.
Он таким образом давал формальное право на преследование христиан. После этого
указа даже из личной вражды или мести можно было всем желающим представлять
христиан в суд и, если обвинение в принадлежности к христианству будет доказано,
законное возмездие за это не замедлит.
Новые указы против христиан вышли спустя 50 лет после Траяна, в царствование
Марка Аврелия (161-180), и опять от государя, составлявшего украшение римского
престола и в правительственном, и в общечеловеческом смысле. Как правитель,
Марк Аврелий снискал себе любовь подданных, благодарных ему за свое благоденствие,
так что к нему установились самые теплые, как бы родственные отношения: юноши
называли его отцом, взрослые — братом, а старики — сыном. Как человек, он и
сам по себе и по своим убеждениям был олицетворением доброты и гуманности.
Однажды он воскликнул: «Ничего на свете я так не желаю, как оживления многих
мертвых, а не присуждения к смерти живых». И однако, этот гуманный и любвеобильный
государь был самым жестоким гонителем христиан. И, как человек глубоко верующий
в языческих богов, и как философ-стоик, убеждения которого диаметрально расходились
со многими пунктами христианского вероучения, и как государь, близко принимавший
к сердцу интересы государства, Марк Аврелий должен был гнать христиан, отрицавших
язычество, устанавливавших принципы, противные стоической философии, и оказывавших
активное или пассивное противление государственным законам. В его царствование
были изданы самые строгие указы против христиан, которые апологет Мелитон называет
варварскими по жестокости. По этим указам, правительство приказывало не только
хватать христиан, заявивших себя таковыми, но и отыскивать их, если они скрывались.
Доносы не только дозволялись, но и поощрялись, и доносчики, по словам Мелитона,
получали себе вознаграждение из конфискованного имущества обвиненных. Чтобы
заставить христиан отречься от христианства, были введены жесточайшие пытки.
Даже отрекшихся от христианства заключали в темницы и подвергали мучениям,
руководствуясь общественною молвою о пороках и преступлениях христиан, совершаемых
ими в своих молитвенных собраниях.
В половине третьего века противохристианский указ был издан императором Декием
(249—251). Он старался оживить политику Траяна (в честь последнего он принял
имя Траяна), потому и гонение на христиан входило в его политическую программу.
Прекрасную характеристику отношения Декия к христианству дает св. Киприан.
По его словам, Декий с большим спокойствием духа мог перенести появление соперника
по императорской короне, чем поставление на кафедру нового епископа в Риме.
В планы Декия Траяна входило или обратить христиан в язычество, или совсем
уничтожить их. Поэтому, на основании его указа (250), христиан отыскивали повсюду
и заставляли отрекаться от христианства, причем не довольствовались словесным
отречением, а требовали в подтверждение его фактически выразить свое уважение
языческой религии — через принесение жертвы. Отказывавшихся от этого или заявивших
себя христианами подвергали пыткам и делали посмешищем толпы, а когда и эти
формы увещания не действовали, предавали казни. Уничтожение церкви входило
в политическую программу каждого государя, который заботился о благе империи
и надеялся восстановить прежнее величие Рима.
Трудно представить себе, что должны были перенести христиане в эти тяжелые
времена гонений. Мучители были неистощимы в изобретении пыток и мук, чтобы
заставить христиан отречься от своих убеждений. По словам Евсевия, мученики
рассекаемы были бичами до самых глубоких жил и артерий, так что открывались
взору даже внутренности; под них подстилали морские раковины и острые осколки;
им растягивали ноги на деревянных колодах; их сажали на горячее железо, или
прикладывали его к самым нежным частям организма; сажали в убийственные темницы,
морили голодом, жгли на кострах, отдавали на съедение диким зверям и т.д. Иногда
даже сами мучители утомлялись мучить, и посредством смертной казни полагали
конец мучениям. Христиане сделались почти неизбежною принадлежностью цирков,
где на них выпускали множество диких зверей, и народ приходил в восторг, видя,
как голодные звери терзают беззащитных. Ни возраст, ни пол, ни звание, ни состояние
не спасали от мук. Одного имени христианина было достаточно для того, чтобы
к человеку, называвшемуся христианином, применялись всевозможные жестокости.
Ненавидимое иудеями и язычниками, гонимое властями, в том и в другом случае
подвергавшее величайшей опасности жизнь своих последователей, христианство
вначале только пассивно страдало от своих врагов. Терпение мучеников и твердое
исповедание христианства были единственными ответами на все ухищрения гонителей
и мучителей. Выставить против своих врагов материальную силу христианство не
могло. В первое время христиан было очень мало и, следовательно, материальная
борьба с могучим Римом им была немыслима. Но и тогда, когда количество христиан
безмерно возросло, когда можно было «помериться силами», христиане гнушались
этим средством борьбы, как несоответствующим их убеждениям. Если непригодными
были средства материальные, то можно было обратить к язычникам орудие моральное,
— слово убеждения, высказанное в книге во всеуслышание язычникам и особенно
обращенное к императорам, которые в силу присущей им громадной власти могли
быть как самыми опасными врагами христианства, так и покровителями его, если
бы убедились в его правоте. Возможность вести такого рода борьбу с язычеством
явилась только во II - м веке, когда в состав христианского общества стали
вступать люди образованные и ученые. Желание оказать посильную помощь страдающим
собратьям заставляло всякого образованного христианина браться за перо для
защиты невинной Церкви от напрасных обвинений и для оправдания ее существования,
и никто не считал себя вправе отказываться от этого. «Всякий, — говорит Иустин,
— кто может возвещать истину и не возвещает ее, будет осужден Богом» («Разговор
с Трифоном Иудеем», гл. 82). В особенности же защитниками гонимого христианства
являлись языческие философы и юристы, обращенные в христианство. Они обладали
знанием литературы и законов, красноречием и диалектикой, — свойствами, необходимыми
для борьбы с врагами-язычниками. Исполненные святой ревности по вере и горячо
сознавая свой долг, они посвящали своему высокому служению все свои силы и
таланты. Их не смущало то, что, выступая на защиту христианства, они могли
навлечь на себя гнев правительства, а может быть, и самую смерть. Зрелище страданий
и оскорблений христиан и желание помочь беззащитным заставляло их отвлекаться
от себялюбивых расчетов. Результатом такой благородной настроенности было появление
целого ряда апологий (защитительных речей), в которых авторы их — апологеты
— обращались или к императору и властям с просьбою войти в бедственное положение
гонимых христиан, по справедливости рассудить их и не отказать им в общегражданских
правах, или же старались уяснить всему языческому миру беспричинность его вражды
к христианам, учение и жизнь которых не только не оправдывают возводимых на
них обвинений, но несравненно превосходят учение и жизнь самих язычников. Доброе
настроение отдельных личностей перешло затем в благочестивый обычай, так что
до третьего века не было ни одного церковного писателя, который не писал бы
апологий, а с третьего века писать апологии заставляли иногда новообращенных
в доказательство искренности их обращения. Так, например, епископ г. Сикки
тогда только принял в свое общение Арнобия, когда он написал апологию «Семь
книг возражений против язычников». Таким образом, гонения на христиан и христианство
со стороны язычников были причиной появления обширной апологетической литературы.
* * *
Особенно богат апологиями второй век, так что его можно назвать веком апологетов.
В это время писали свои апологии Квадрат (около 126), Аристид (около 130),.Иустин
Философ (между 140 и 155), Татиан (около 160), Клавдий Аполлинарий (около 176),
Афинагор (около 177), Феофил (около 180), Мелитон Сардийский (около 180 г.)
и Ермий (в конце II - го в.) [2].
В третьем веке апологетами были Тертуллиан (198-211), Минуций и Феликс (около
217).
1. Пререкания по этому вопросу приняли такой острый характер, что грозили поколебать
внутренний мир в церкви; поэтому в Иерусалиме составился апостольский собор,
на котором было постановлено, что исполнение Моисеева закона не обязательно
для обращавшихся язычников (Деян. 15).
2. Сочинения Квадрата и Клавдия Аполлинария не дошли до нашего времени.
Задачи и методы древней апологетики
Неблагоприятные условия существования христиан среди враждебного им иудейско-языческого
мира, вызвавшие появление апологетики, определили в существенных чертах и ее
задачу.
Так как христианство отовсюду встречало вражду, подвергаясь нападкам, инсинуациям
и гонениям, то прямою задачей апологетов было доказать неосновательность этой
вражды и всех вытекающих от нее последствий. Для этого нужно было разъяснить
всем врагам христианства, что оно, как религия божественная, единственно истинная
и спасительная, и с вероучительной, и с нравоучительной стороны стоит неизмеримо
выше всех других религий, что, согласно его предписаниям, христиане ведут благочестивую,
высоконравственную жизнь, чуждую пороков, преступлений и всех тех нареканий,
какими клеймят их враги, и что поэтому христиане имеют если не преимущественное,
то, по крайней мере, равное с другими право на свободное от всяких стеснений
существование и исповедание своей религии.
Эта и без того обширная задача, требовавшая массы всевозможных доводов, осложнялась
еще тем, что вражда различных противников христианства вытекала из различных
мотивов; следовательно апологеты, чтобы успешнее выполнить свою задачу, должны
были считаться с каждым из этих мотивов в отдельности, доказывая их несостоятельность
применительно к воззрениям своих противников. Так, например, иудеям, фанатично
привязанным к закону Моисея, верившим в его вековечное существование и значение
и ненавидевшим христиан за отрицание его, нужно было объяснить, что этот закон
имел временный и преобразовательный характер, подготовляя людей к принятию
Мессии, но теперь, с пришествием на землю Спасителя, он потерял свое значение,
так как на Иисусе Христе выполнились все указанные в законе прообразы, обетования
и пророчества о Мессии. Теперь получил силу и значение новый закон, данный
самим Христом. Языческой массе, возводившей на христиан всевозможные, чаще
всего грязные обвинения, нужно было показать, что все эти обвинения, не подтверждаясь
фактически, несмотря на частое появление христиан перед судом, в то же время
противоречат общей нравственной настроенности христиан, вытекающей из предписаний
их религии. Людям, критикующим религиозную сторону христианства, считающим
его человеческим установлением, полным непонятного, странного и даже предосудительного,
нужно было доказать его божественное происхождение и характер, а в кажущихся
странностях выяснить глубокий смысл и значение. Римскому правительству, гнавшему
христиан за нарушение государственных законов, нужно было указать, что применение
к христианству старых законов о недозволенных религиях противоречит римской
практике широкой веротерпимости, а издание новых законов, специально направленных
против христиан, не соответствует общему духу римского законодательства, так
как на основании этих законов христиан привлекают к ответственности и карают
за одно только исповедание христианства безотносительно к их поведению. Если
же правительство видит в христианстве тайное общество с враждебными замыслами
против государства и законов, то из допросов христиан, из исследования всей
их жизни, оно может убедиться, что христиане вообще ведут безупречную нравственную
жизнь и, в частности, являются добрыми верными гражданами, никогда не участвуя
в противоправительственных заговорах, молясь своему Богу о благе императора
и государства и усердно отправляя свои гражданские обязанности, исключая только
тех, которые противоречат требованиям их религии и неисполнение которых не
приносит вреда государству.
Наконец, помимо фактических доказательств, что добрая жизнь и возвышенное
учение христиан дают им право на свободное исповедание своей религии, апологеты
могли стать и на принципиальную точку зрения, указав, что религия есть дело
совести, а потому по отношению к ней не должно быть принуждения.
Выполнение такой сложной задачи во всем ее объеме и во всех подробностях для
каждого из апологетов было крайне трудно и не всегда необходимо, потому что
разные времена выставляли разные требования, которым нужно было удовлетворить
предпочтительно перед другими. Поэтому большинство апологетов специализировались
в каких-нибудь определенных вопросах и разрабатывали их детально, а другие
вопросы или обходили молчанием, или же касались их только вскользь. Так, например,
на борьбу с иудейством обратили внимание только Иустин и Тертуллиан, а другие
игнорировали его, как врага неопасного. Ермий совсем не защищает христианства
и христиан, а занят только осмеянием языческой философии и философов. Однако
же задача, предлежавшая апологетике, была выполнена совокупностью трудов всех
апологетов II и III веков, потому что в этой совокупности рассмотрены все требуемые
задачей вопросы и превосходство христианства перед другими религиями представлено
полно и доказательно.
При выполнении своей задачи апологеты не были стеснены выбором средств и приемов
для борьбы: каждый вел ее так, как понимал свою задачу и как того требовали
условия времени и места, в которых он жил и действовал. Но при всем разнообразии
индивидуальных, временных и местных условий, все апологеты, за немногими только
исключениями, держались двух главных методов. Первый из них самый естественный
и наиболее необходимый, прямо вытекающий из требований задачи, можно назвать
положительным, апологетическим. Сущность его сводилась к тому, что апологеты
оправдывали христиан от возводимых на них обвинений через раскрытие христианского
вероучения и жизни, безупречность которых должна была освобождать христиан
от преследований. После того, как было доказано высокое достоинство христианского
вероучения и чистота христианской жизни, право христиан на свободное от стеснений
существование можно было доказать и косвенным путем, посредством критики враждебных
христианству религий. Раскрытие того, что иудейская религия, хотя истинная
и божественная, а язычество, как сплошное уклонение от божественной истины,
не могут дать удовлетворения ни религиозным, ни нравственным потребностям человека,
наглядно доказывало несправедливость человека, наглядно доказывало несправедливость
тех, которые преследовали религию лучшую, сами держась религий или потерявших
свое значение, или совсем не имеющих его. Этот второй метод можно назвать отрицательным,
полемическим. Он служил как бы дополнением к первому, еще рельефнее оттеняя
превосходство христианства, а потому апологеты пользовались тем и другим совместно,
но в разное время и при различных условиях не в одинаковой мере.
Апологеты второго века держались преимущественно первого метода. Они всесторонне
оправдывали христиан от возводимых на них обвинений, просили справедливого
суда над ними и права их на безопасное существование. Критики язычества, с
которым все апологеты главным образом имели дело, они касаются только слегка,
вынужденные сделать сопоставление гонимого христианства с гонящим его язычеством,
чтобы дать торжество первому. Где можно, они смягчают заблуждения язычества,
указывая в нем проблески истины, и особенно сочувственно относятся к языческой
философии, иногда усматривая в ней подготовление к христианству и весьма часто
ссылаясь на ее авторитет в доказательство истинности христианского учения.
Когда же им приходилось наталкиваться на такие ненормальности язычества, которых
нельзя было смягчить при всем желании сделать это, то они представляли это
делом злых демонов, увлекавших язычников от истины к лжи. Типичным представителем
этого рода апологетов был св. Иустин, который в своей снисходительности к язычеству
доходил до того, что некоторых древних языческих философов считал христианами.
Такое мягкое отношение к язычеству объясняется тем, что во время, когда писали
эти апологеты, еще не была потеряна надежда на добровольное примирение язычества
с христианством. Кроме того, многие из апологетов II века подавали свои апологии
императорам; следовательно раздражать их резким осуждением языческой религии,
которой они дорожили, было и несвоевременно, и неблагоразумно. Вместо ожидаемой
пользы это принесло бы только один вред для христиан. Наконец, христианство
было еще не настолько сильно, чтобы защитники его могли бесстрашно перейти
из оборонительного положения в наступательное.
Напротив, апологеты III века, находясь при совершенно иных условиях, уделяли
большое место второму методу. Политичность их предшественников была для них
непригодна, так как в виду все более строгих эдиктов императоров относительно
христиан нельзя было рассчитывать, что произойдет миролюбивое соглашение между
старой и новой верой. С другой стороны, внешние успехи христианства и сознание
им своей силы и значимости были настолько велики, что апологеты уже не опасались
высказать языческому миру горькую правду о нем. Поэтому они беспощадно критиковали
и основы языческого вероучения, и языческий культ, и языческие нравы. Языческая
философия, в которой апологеты II века находили проблески истины, апологетами
III века осуждается как средство, усиливающее заблуждения язычников. Участие
демонов в создании и поддержании язычества, в чем апологеты II века видели
оправдание язычников, апологетами III века ставится им в упрек как доказательство
сплошного и безвозвратного уклонения их от истины.
Значение древней апологетики
Апологетика, начавшая собою новую эру христианской истории, когда Христова
Церковь вступила в активную борьбу с античным миром, имела высшее значение
для современных ей язычества и христианства и отчасти сохранила его до настоящего
времени.
Появление многочисленных апологий, авторы которых смело защищали христианство
и даже нападали на само язычество, показывало этому последнему, что христианство,
дотоле мало заметное и пассивно переносившее всякие притеснения, теперь стало
уже сознавать себя как силу, уверенную в себе до такой степени, что она может
не только искать равноправности с язычеством, но и говорить о своем превосходстве
над ним. Если даже предположить, что большинству язычников содержание апологий
было неизвестно, то уже один факт их появления должен был произвести на язычников
сильное впечатление. Действительно, он заставил их относиться к христианству
иначе, чем прежде. Если до этого времени образованные язычники считали ниже
своего достоинства входить в какие-либо отношения с «чудовищным суеверием»,
как обзывали христианство Тацит, Плиний и Светоний), то уже со второй половины
второго века такое индифферентное и высокомерное отношение к нему сделалось
невозможным: с ним нужно было считаться, как с крупной силой. Поэтому образованные
язычники, отбросив свою ученую гордость, вступили с ним в ожесточенную борьбу.
Философ Кресцент имел с св. Иустином устное прение о вере, и, когда оказался
бессильным победить его разумными доводами, сделал на него донос властям, результатом
чего был смертный приговор св. Иустину. Знаменитый ритор Фронтон, учитель императора
Марка Аврелия, на основании поверхностного знакомства с христианством, выступил
против него с книгою. Платонические и неоплатонические философы, как Цельс,
Филострат, Ямвлих, Иерокл, пошли еще дальше: с целью наиболее успешной борьбы
с христианством они сочли нужным познакомиться с ним возможно ближе — прочитывали
для этого священные христианские книги, изучали догматы. Изучивши христианство
по его первоисточникам, Цельс написал сочинение «Истинное слово», самый солидный
из всех противохристианских трудов.
Еще более поступились ученые язычники своим самолюбием, когда, в целях оградить
язычество от справедливых нареканий на него христиан и приравнять его к христианству,
они произвели в язычестве реформацию, известную под именем неоплатонизма. В
форме учения о Едином начале всего сущего, об Уме, сознающей силе Единого,
о Душе мира, творящей силе Ума в него вошли многие пункты христианской доктрины
— о Высочайшем Боге, от Которого рождается Сын и исходит Дух Святой, об ангелах,
о душе и теле человека и т.д. Кроме того, неоплатонист Филострат написал биографию
Аполлония Тианского с уподоблением его Иисусу Христу, а Порфирий и Ямвлих с
тою же тенденциею составили биографию Пифагора. Это были, таким образом, первые
признаки торжества христианства над язычеством, подготовленные появлением апологетики,
поставившей христианство в новые условия сравнительно с прежними.
Менее уловимое, но все же не подлежащее сомнению значение апологетики для
язычества можно видеть и в другом отношении. Язычникам, знакомым с апологиями,
эти последние давали возможность узнать христианство не в том искаженном виде,
каким его рисовала молва, а в его настоящем свете, как содержащее богооткровенное
учение и отличающееся высоконравственною жизнью своих последователей. Это должно
было рассеивать то предубеждение, какое питали язычники к христианству, будучи
недостаточно ознакомлены с ним, и в конечном результате подготовлять путь к
переходу в христианство. Конечно, быстрого и решительного переворота во мнении
языческого общества апологии не произвели, потому что общественное мнение,
сложившееся веками, не сразу уступает новым идеям. Оно долго борется с ними,
но в то же время, если эти идеи истинны, они мало-помалу побеждают предубеждение
и делаются достоянием общества. Так было и в борьбе христианства с язычеством.
Первоначально зная христиан только по слухам, язычество запятнало их разными
пороками и преступлениями, но при ближайшем знакомстве с ними должно было убедиться
в неосновательности такой характеристики христиан. В конце третьего века обвинения
христиан в безнравственности уже прекратились. Настолько, значит, изменился
взгляд язычников на христианство. При всех других условиях на эту перемену
могла оказать влияние и апологетическая литература, самым настойчивым образом
свидетельствовавшая о безупречности христианского учения и жизни.
Не меньшее значение имела апологетика и для современного ей христианства.
В тяжелые времена и при тяжелых для христианства условиях, когда она появилась,
смелость и самоотверженность защитников христианства служили средством ободрения
для людей, видевших себя отовсюду окруженными врагами. При виде апологетов,
гонимые и ненавидимые христиане могли убеждаться, что они не оставлены в несчастии,
что у них есть смелые заступники, готовые с опасностью для жизни отстаивать
их права. Убеждение в этом вливало мужество в слабые сердца, склонные к малодушеству
и отчаянию. Тем более оно закаляло людей, твердых волей, и делало их более
спокойными в перенесении несчастий, делало христиан членами Церкви воинствующей.
Кроме морального воздействия апологетика, имела для своего и ближайшего к
нему времени и научно-догматическое значение, так как апологеты положили начало
раскрытию и научному обоснованию догматов. Наиболее потрудились они над раскрытием
тех догматов, которые оспаривались язычниками, причем обращали главное внимание
на те стороны их, какие опровергались язычниками. В силу этого, вопросы об
единстве Божием, о Боге как Творце и Промыслителе, о Божестве Иисуса Христа,
о воскресении мертвых разработаны ими более, чем собственно христианские догматы
об искупительном значении страданий и смерти Иисуса Христа, об отношении Лиц
Святой Троицы и т.д.
Древняя апологетика не потеряла своего значения и до настоящего времени. Для
нас она, во-первых, представляет исторический интерес, как памятник, изображающий
внешнее и внутреннее состояние современных ей христианства и язычества, этих
двух мировых религий, из которых одна выражала вековое уклонение от истины
почти всего человечества, а другая воспоминала людям и восполняла эту истину
при помощи учения, сообщенного Единородным Сыном Божиим. Апологетика рисует,
как между ними происходила колоссальная борьба за мировое значение, и в постепенных
фазах ее развития показывает, как язычество напрягало последние усилия и пускало
в ход все доступные ему средства, а христианство все более и более выражало
надежду на близкое торжество.
Древняя апологетика, затем, стоит в непосредственной связи с настоящей. Те
мнения, которые высказывались язычниками против христианства, нередко высказываются
и современными противниками его. Таким образом, современный апологет может
заимствовать у своих древних собратьев не только выработанные ими приемы и
методы для борьбы с неверием и отрицанием, но и самые возражения против него,
приспособляя, конечно, их к современному состоянию знания вообще и богословской
науки в частности.
Св. Иустин Философ
Св. Иустин, сын Приска, внук Вакха, родился в самарийском городе Сихеме, в
то время носившем название Флавия Неаполя (нового города Флавия) в честь императора
Флавия Веспасиана, восстановившего его из развалин после иудейской войны 70
года. Значительную часть населения этого города составляли греческие и римские
колонисты, к числу которых принадлежала и семья Иустина. Родители его, как
люди состоятельные, дали ему возможность не только получить общее образование,
но и восполнить его специально философским, к которому он проявил особенный
интерес, за что впоследствии получил название Философа.
С ранней молодости Иустина отличали склонность к философствованию, стремление
найти истину, разрешить извечные вопросы о Боге и последней судьбе человека.
Не найдя ответа на запросы своего пытливого ума ни в тех науках, какие он изучал,
ни в языческой религии, ложной в своей основе и потому несостоятельной во всех
отношениях, он обратился к философии, которая считалась источником мудрости
и претендовала на владение истиной. В поисках за истинной мудростью он побывал
у представителей разных философских направлений, но почти все они по тем или
другим причинам не удовлетворили его. Стоик не понравился ему потому что, согласно
доктрине своей школы о самодовлеющей человеческой личности, источнике добра
и зла, счастья и несчастья, он не интересовался вопросом о Боге и загробной
жизни. Перипатетик (последователь Аристотеля) оттолкнул его от себя корыстолюбием,
потребовав вперед плату за ученье. Пифагореец не принял его в число своих учеников,
так как он не знал музыки, астрономии и геометрии, считавшихся подготовительною
ступенью для изучения пифагорейской философии. Только у платоника Иустин, по-видимому,
нашел то, чего так долго искал. Возвышенное учение Платона о предметах, которые
так сильно занимали Иустина, увлекало его, и он, по его собственному выражению,
«надеялся достигнуть созерцания Бога, — этой конечной цели Платоновой философии»
(«Разговор с Трифоном Иудеем», 1 гл.). Но в самый разгар увлечения платонизмом,
когда желанная цель, казалось, была так близка, случилось одно событие, которое
произвело в душе Иустина коренной переворот и убедило его в том, что, ища истину,
он до сих пор шел ложным путем.
Однажды, гуляя на пустынном морском берегу и предаваясь размышлению, он встретил
почтенного незнакомого старца и разговорился с ним. Мало-помалу беседа от обыденных
предметов перешла в философский спор, и незнакомец, узнав об увлечении Иустина
платонизмом, стал доказывать ему, что и эта лучшая из философских систем содержит
в себе массу противоречий и не в состоянии дать полного познания истины, так
как из нее нельзя познать не только существа Божия, но даже природы человеческой
души и ее назначения. Доводы старца были настолько сильны и убедительны, что
Иустин, при всей приверженности к Платоновой философии, должен был признать
их справедливость и убедился в неудовлетворительности учения Платона. Глубоко
опечаленный потерею своей веры в философию Платона, от которой он так много
ожидал, и в то же время страстно желая найти истину, Иустин воскликнул: «Какому
же учителю можно довериться, откуда ожидать помощи, если и у этих философов
нет истины?» («Разговор с Трифоном Иудеем», 7 гл.). В ответ на это старец указал
на пророческие книги, написанные по внушению Святого Духа, из которых можно
получить знания «о начале и конце вещей и о всем том, что должен знать философ».
«Молись, — заключил свою речь незнакомец, — чтобы открылись тебе двери света,
ибо этих вещей никому нельзя видеть или понять, если Бог и Христос Его не дадут
разумения» («Разговор с Трифоном Иудеем», гл. 7). Беседа на этом закончилась,
старец удалился, но слова его произвели глубокое впечатление на Иустина. «Тотчас,
— говорит он, — в сердце моем возгорелся огонь, и меня объяла любовь к пророкам
и тем мужам, которые суть други Христовы; и размышляя с самим собою о словах
его, я увидел, что эта философия есть единая, твердая и полезная» («Разговор
с Трифоном Иудеем», гл. 8).
Любовь к «другам Христовым», т.е. к христианам, зарождалась в Иустине еще
раньше разговора со старцем. Бесстрашное исповедание христианами своей веры,
твердость в перенесении мук и готовность к мученической смерти убеждали Иустина
в неосновательности тех взглядов на христиан, каких держалось большинство язычников.
«Когда я еще услаждался учением Платона, — говорит он, — я слышал, как обносят
христиан, но видя, как они бесстрашно встречают смерть и все, что почитается
страшным, почел невозможным, чтобы они были преданы пороку и распутству» («Апология
II», гл. 12). После же беседы со старцем, когда Иустин углубился в книги Священного
Писания, усвоил их возвышенное учение и ближе познакомился с христианами, держащимися
учения этих книг, он окончательно убедился в превосходстве христианства перед
язычеством и, как искатель и любитель истины, не мог уже больше держаться лжи
(язычества) и сделался христианином. Крещение его произошло в тридцатых годах
второго века.
Приняв крещение и познав в полной мере божественную истину, Иустин стал так
же ревностно распространять ее, как раньше усердно ее искал. С проповедью христианства
он был в Египте, в Малой Азии и дважды в Риме, где, по свидетельству Евсевия
и Фотия, основал богословскую школу. Для большего успеха проповеди он и по
переходе в христианство не снимал своего философского плаща, который, с одной
стороны, привлекал к нему, как к философу, больше слушателей и придавал более
авторитета его словам, а с другой, — давал знать, что он последователь философии,
только не языческой, изобилующей заблуждениями, а христианской, истинной.
Стремясь распространять христианское учение между людьми разных национальностей
и различных религиозных убеждений, он в то же время являлся и ревностным защитником
ненавидимых и гонимых христиан, устно и письменно доказывая несправедливость
такого отношения к ним.
Смелый проповедник и защитник христианства, говоривший во всеуслышание, не
стесняясь тем, что между слушателями могли быть люди, враждебно настроенные
против христианства, за свою святую ревность по вере поплатился жизнью. В Риме
он был представлен на суд префекта Рустика, твердо исповедал перед ним свою
веру во Христа, отказался принести жертву богам и за это был приговорен к смерти
(приблизительно в 166 г. в царствование Марка Аврелия). Церковь дала ему название
мученика и причислила к лику святых.
Лучшими и бесспорными памятниками апологетической деятельности св. Иустина
являются две его апологии (большая и малая) против язычников и «Разговор с
Трифоном Иудеем» (апологетико-полемический трактат против иудеев).
Апология I
Первая апология св. Иустина написана по поводу гонений, бывших в царствование
Антонина Благочестивого (138—161) и адресована самому императору, его сыну
Марку Аврелию, священному сенату и всему народу римскому, как ходатайство «за
людей из всех народов несправедливо ненавидимых и гонимых» (гл. 1).
«Вы называетесь благочестивыми и философами, — говорит св. Иустин императору
и его сыну, — и слывете везде блюстителями правды и любителями наук: теперь
окажется, таковы ли вы на самом деле» (гл. 2). «Наша обязанность — представить
на рассмотрение всех наше учение и жизнь, а ваше дело — выслушать нас и явиться
добрыми судьями» (гл.3).
Как добрым судьям, Иустин указывает им, что несправедливо судить и наказывать
христиан за то только, что они называются христианами, как это практиковалось
в римских судах со времени известного указа Траяна Плинию Младшему. «Одно имя,
— говорит Иустин, — не может представлять разумного основания ни для похвалы,
ни для наказания, если из самых дел не откроется что-либо похвальное или дурное.
Нас обвиняют в том, что мы христиане. Если кто из обвиняемых отречется и скажет
только, что он не христианин, то вы его отпускаете, как бы уже не имея никакого
доказательства его виновности; если же кто объявит себя христианином, то наказываете
его за одно признание, тогда как надлежало бы исследовать жизнь и того, кто
объявил себя христианином, и того, кто отрекся, чтобы из самых дел оказалось,
каков тот и другой» (гл. 4). «Мы просим, — говорит он в другом месте, — чтобы
те, на кого вам доносят, были судимы по делам их, дабы оказавшийся виновным
подвергался наказанию, как преступник, а не как христианин; если же кто окажется
невинным, пусть освобождается, как христианин, не сделавший ничего худого»
(гл. 7).
В виду того, что с именем христианина у язычников связывались различные обвинения
христиан, Иустин старается рассеять этот ложный взгляд. На обвинение христиан
в атеизме, основанное на том, что христиане не поклоняются языческим богам
и не приносят им никаких жертв, он говорит: «Сознаемся, что мы безбожники в
отношении к таким мнимым богам (измышленным демонами), но не в отношении к
Богу истиннейшему, Отцу правды, целомудрия и прочих добродетелей, и чистому
от всякого зла. Но как Его, так и пришедшего от Него Сына, равно и Духа пророческого
чтим» (гл. 6). «Мы не приносим множества жертв, не делаем венков из цветов
в честь тех, которых сделали люди и, поставивши в храмах, назвали богами; ибо
мы знаем, что они бездушны и мертвы и образа Божия не имеют. Да и нужно ли
сказывать вам, когда вы сами знаете, как художники обделывают вещество, обтесывают
и вырезают, плавят и куют, и нередко из негодных сосудов, посредством искусства
переменивши только вид и давши им образ, делают то, что называют богами? Вот
что мы считаем не только противным разуму, но и оскорбительным для Бога, Который
имеет неизреченную славу и образ, между тем как имя Его усвояется вещам тленным
и требующим постоянного попечения» (гл. 9). «Нам передано, что Бог не имеет
нужды в вещественных приношениях от людей. Он, Который, как мы видим, Сам все
подает нам. Мы научены, убеждены и веруем, что Ему приятны только те, которые
подражают Ему в совершенствах — в целомудрии, правде и во всем, что достойно
Бога. Мы научены также, что Он по благости Своей в начале все устроил из безобразного
вещества для человеков, и что они, если по своим делам окажутся достойными
своего назначения, удостоятся жить с Ним и царствовать с Ним, сделавшись свободными
от тления и страдания» (гл. 10). «Кто же из благомыслящих не сознается, что
мы не безбожны, когда почитаем Создателя всего мира, и согласно с тем, как
мы научены, говорим, что Он не требует крови, возлияний и курений, а славим
Его, по мере сил, словом молитвы и благодарением во всех приношениях наших?
Наш учитель в этом есть Иисус Христос, Который для этого родился и был распят
при Понтии Пилате, бывшем правителе Иудеи во времена Тиверия Кесаря; и мы знаем,
что Он Сын Самого истинного Бога, и поставляем Его на втором месте, а Духа
пророческого на третьем» (гл. 13).
Наряду с обвинением христиан в атеизме самым популярным было и обвинение их
в безнравственности и подкидывании незаконно прижитых детей. В ответ на эти
обвинения Иустин указывает, какая целомудренная воздержность и какие взгляды
на брак и на детей господствуют в христианском обществе. «Есть много мужчин
и женщин, лет шестидесяти и семидесяти, которые, из детства сделавшись учениками
Христовыми, живут в девстве. Нужно ли говорить о множестве тех, которые обратились
от распутства и научились целомудрию»? (гл. 15). «Мы или вступаем в брак, не
иначе, как с тем, чтобы воспитывать детей, или, отказываясь от брака, постоянно
живем в воздержании. Чтобы доказать вам, что срамное совокупление у нас не
составляет какого-либо таинства, — один из наших подал александрийскому префекту
Феликсу прошение, чтобы он дозволил врачу оскопить его. Когда же Феликс никак
не хотел подписать прошения, то молодой человек остался девственником и довольствовался
своим собственным сознанием и сознанием единомысленных с ним» (гл. 29).
Для вящего оправдания христиан от обвинения в безнравственности Иустин указывает
на крещальные и воскресные собрания христиан, которые, по мнению язычников,
были главным местом совершения христианами безнравственных действий. «Омытого
водою крещения, — говорит он, — мы ведем к так называемым братьям в общее собрание
для того, чтобы со всем усердием совершить общие молитвы как о себе, так и
о просвещенном и о всех других повсюду находящихся, чтобы удостоиться нам,
познавши истину, явиться и по делам добрыми гражданами и исполнителями заповедей
для получения вечного спасения. По окончании молитв мы приветствуем друг друга
лобзанием. Потом к предстоятелю братии приносятся хлеб и чаша воды и вина;
он, взявши это, воссылает именем Сына и Святого Духа хвалу и славу Отцу всего,
и подробно совершает благодарение за то, что Он удостоил нас этого. После того,
как он совершит молитвы и благодарения, весь присутствующий народ отвечает:
«Аминь». Аминь — еврейское слово — значит: «да будет». После благодарения предстоятеля
и возглашения всего народа так называемые у нас диаконы дают каждому из присутствующих
хлеба, над которым совершено благодарение, и вина, и воды, и относят к тем,
которые отсутствуют. Пища эта у нас называется евхаристиею (благодарением),
и никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, кто верует
в истину учения нашего и омылся омовением в оставление грехов и в возрождение,
и живет так, как заповедал Христос. Ибо мы принимаем это не так, как обыкновенный
хлеб или обыкновенное питье: но как Христос, Спаситель наш, словом Божиим воплотился
и имел плоть и кровь для спасения нашего, таким же образом пища эта есть Плоть
и Кровь Того воплотившегося Иисуса» (гл. 65, 66). «В день же солнца (воскресный)
бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам и селам; и читаются,
сколько позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда
чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание
подражать тем прекрасным вещам (о которых читалось). Когда же окончим молитву,
тогда... совершается евхаристия в указанном выше порядке. Достаточные же и
желающие, каждый по своему произволению, дают, что хотят, и собранное хранится
у предстоятеля; а он имеет попечение о сиротах и вдовах, о всех нуждающихся
по болезни или по другой причине, о находящихся в узах, о странниках издалека,
вообще печется о всех, находящихся в нужде. В день же солнца мы все вообще
делаем собрание потому, что это есть первый день, в который Бог, изменивши
мрак и вещество, сотворил мир, и Иисус Христос, Спаситель наш, в тот же день
воскрес из мертвых» (гл. 67). Такой невинный характер христианских собраний
должен был окончательно убедить всякого непредубежденного человека в неосновательности
обвинения христиан в безнравственности.
Как простой народ видел в имени христианина синоним безнравственности, так
государственная власть за то же имя предъявляла христианам обвинения политического
характера, считая их врагами государства, так как они ожидают какое-то царство
помимо римского, не поклоняются статуе императора и т.д. В апологии, адресованной
лично императору, неудобно было резко порицать несправедливость правительственных
взглядов на христиан. Поэтому Иустин касается немногих государственных обвинений
(и то кратко), в общих чертах показывая их несостоятельность. Он не отрицает,
что христиане ожидают царства, но доказывает, что это царство не политическое,
а Царство Божие — царство не от мира сего. «Когда вы слышите, — говорит он,
— что мы ожидаем царства, то напрасно полагаете, что мы говорим о каком-либо
царстве человеческом, между тем как мы говорим о царствовании с Богом: это
ясно из того, что, когда вы допрашиваете нас, мы сами признаемся, что мы христиане,
хотя знаем, что всякому, кто признается в этом, предлежит смертная казнь. Если
бы мы ожидали человеческого царства, то отрекались бы, чтобы избежать погибели,
или старались бы скрыться, чтобы достигнуть ожидаемого. Но так как наши надежды
устремлены не к настоящему, то не беспокоимся, когда нас умерщвляют, — зная,
что непременно должны умереть» (гл. 11). Отказ христиан воздавать божеские
почести императору Иустин объясняет также не политическими, а религиозными
мотивами. Христианская религия учит, что божеские почести следует воздавать
только одному Богу. Но не покланяясь императору как богу, христиане во всех
других случаях оказывают ему должное почтение и повиновение. Они аккуратно
платят подати, признают императора властелином людей и молятся, чтобы он был
одарен здравым разумом» (гл. 17). В заключение Иустин старается показать, что
христиане не только не враги государства, а наоборот, способствуют его благосостоянию.
«Что же касается до общественного спокойствия, — говорит он, — то мы вам содействуем
и способствуем в том более всех людей, ибо мы держимся того учения, что ни
злодею, равно как ни корыстолюбцу, ни злоумышленнику, ни добродетельному невозможно
скрыться от Бога, и что каждый по качеству дел своих получит вечное мучение
или спасение. Если бы все люди знали это, то никто не избирал бы зла на краткое
время жизни, зная, что он идет на вечное осуждение огненное, но всемерно сдерживал
бы себя и украшался бы добродетелью, чтобы получить блага и избегнуть наказаний.
Преступления совершаются потому, что преступники вполне уверены в возможности
укрыться от людей, назначенных судьями. Но если бы они знали и уверены были,
что от Бога ничего нельзя скрыть, то по крайней мере из страха наказаний старались
бы вести себя хорошо» (гл. 12). Таким образом, считать христиан людьми вредными
и опасными, когда они держатся такого учения, было бы несправедливо. Признание
всеведения Божия должно останавливать их от всего дурного и направлять только
к хорошему.
В среде язычников были и такие, которые обращали внимание не только на жизнь
христиан, но и на их учение. Считая христиан людьми безнравственными, вредными
для благосостояния государства, язычники уже по тому самому составляли заключение
далеко не в пользу христианской доктрины. Они обращались к рассмотрению христианского
учения уже с предвзятою мыслию найти в нем недостатки и поставить их в укор
христианам. Прежде всего язычникам бросалось в глаза позднее, сравнительно
с язычеством, появление христианства. Отсюда они выводили заключение, будто
христианство — не божественное учреждение и стоит гораздо ниже языческих религий.
Св. Иустин противопоставляет этому упреку свою замечательную идею о дохристианских
откровениях Логоса, на основании которой делает вывод, что христианство, воспринявшее
свое учение от воплотившегося Слова, есть учреждение не новое, а очень древнее.
Еще в глубокой древности были люди, просвещаемые Логосом, которых поэтому можно
назвать христианами, хотя они тогда и не носили этого названия. «Христос, —
говорит Иустин, — есть Перворожденный Бога, Он есть Слово, коему причастен
весь род человеческий. Те, которые жили согласно с Словом, суть христиане,
хотя бы (со стороны язычников) считались за безбожников: таковы между эллинами
Сократ и Гераклит и им подобные, а из иудеев — Авраам, Анания, Азария и Мисаил,
Илия и многие другие» (гл. 46). Таким образом, христианство явилось вовсе не
поздно. Христос существовал и действовал всегда. Следовательно, упрек со стороны
язычников в позднем появлении христианства неоснователен.
Еще более укоряли язычники христиан за то, что они считают Богом человека
распятого, т.е. подвергшегося, по понятиям древних, самому позорному наказанию.
«Безумно, говорили они, после неизменного и вечного Бога давать второе место
распятому человеку» (гл. 13), а если им указывали на чудеса Иисуса Христа,
как на доказательство Его Божественности, то они возражали: «что это не препятствует
Христу быть обыкновенным человеком, который творил чудеса посредством магии
и потому показался Сыном Божиим» (гл. 30). Так как догмат о Божестве Иисуса
Христа составляет главный (центральный) пункт христианской доктрины и так как
языческие нападки на него были особенно сильны, то соответственно важности
предмета доказательства Иустина и обильны, и разнообразны. Первое доказательство
Божества Иисуса Христа Иустин видит в том нравственном воздействии, какое Его
учение оказывает на принявших христианство. «Мы, — говорит он, — прежде находили
удовольствие в любодеянии, ныне любим одно целомудрие; прежде пользовались
хитростями магии, а ныне предаем себя благому и нерожденному Богу; прежде мы
более всего заботились о снискании богатства и имения, ныне и то, что имеем,
вносим в общество и делимся со всяким нуждающимся; прежде друг друга ненавидели
и убивали, и не хотели пользоваться одним очагом с иноплеменниками, по разности
обычаев, — ныне, по явлении Христовом, живем вместе и молимся за врагов наших,
и несправедливо ненавидящих нас стараемся убеждать, чтобы они, живя по славным
Христовым правилам, верно надеялись получить с нами одни и те же блага от владычествующего
над всем Бога» (гл. 14). Такую высоконравственную настроенность христиан произвели
заповеди Христовы — о целомудрии (Мф. 5, 28-32), о любви ко всем людям (Мф.
5, 46; Лк. 6, 28), о помощи нуждающимся (Мф. 5, 42; Лк. 6, 30-34), о незлопамятности,
услужливости для всех и негневливости (Мф. 5, 39. 40, 22. 16), о поклонении
единому Богу (Мк. 12, 30) и т.д. (гл. 15-16). Затем, в качестве второго довода,
Иустин проводит близкую параллель между христианским догматом о Лице Иисуса
Христа и языческим учением о богах, с целью доказать язычникам, что с точки
зрения их собственной теологии менее всего следует считать догмат о Божестве
Иисуса Христа неразумным. «Если мы говорили, что Слово, Которое есть первенец
Божий, Иисус Христос, родился без смешения, и что он распят, умер и воскресши
вознесся на небо, то не видим ничего отличного от того, что вы говорите о так
называемых у вас сыновьях Зевса... Если мы говорим, что Он, Слово Божие, родился
от Бога особенным образом и выше обыкновенного рождения, то пусть это будет
у нас обще с вами, которые Гермеса называют Словом-вестником от Бога. А если
кто говорит, что Христос был распят, то и это обще с сынами Зевса, которые
подвергались страданиям. (Эскулап был поражен молнией и взошел на небо; Дионис
был растерзан; Геркулес во избежание трудов бросился в море и т.д.). Конечно,
страдания их, доведшие до смерти, были различны, так что Он, и по особенностям
Своего страдания, ничем не ниже их, но даже выше их: ибо из дел оказывается,
кто лучше. Если мы говорим, что Он родился от Девы, то почитайте и это общим
с Персеем (родившимся от Данаи). Когда объявляем, что Он исцелял хромых, расслабленных
и слепых от рождения и воскрешал мертвых, то и в этом случае должно представить,
что мы говорим подобное тому, что говорят о деяниях Эскулапа» (гл. 21-22).
Проведя параллель между учением о Христе и языческим учением о богах, Иустин
понимал, что она только в некоторой степени ослабляет упрек со стороны язычников,
но не оправдает совершенно христианского учения о божестве Иисуса Христа. Поэтому
он тотчас же оговаривается: «И надобно верить словам нашим, не потому что мы
говорим схоже с вашими писателями, а потому что мы говорим истину» (гл. 23).
После этого он приводит последний, решительный аргумент в пользу христианского
учения. Истинность одного только этого учения, по его словам, подтверждается
свидетельством ветхозаветных пророков, посредством которых пророчественный
Дух предвозвещал будущие события прежде, чем они совершались. Рассказав, что
эти пророчества тщательно собирались и хранились иудеями, а потом при египетском
царе Птоломее Филадельфе были переведены на греческий язык, следовательно,
сделались доступными и для язычников, Иустин говорит: «В этих книгах пророков
мы находим предсказание о том, что Иисус, наш Христос, придет, родится от Девы
и возрастет, будет исцелять всякую болезнь и всякую немощь и воскрешать мертвых,
подвергнется зависти, и будет не узнан, и распят, умрет и воскреснет, и на
небеса взойдет, и будет и наречется Сыном Божиим, также, что некоторые будут
Им посланы проповедовать это во весь род человеческий, и более из язычников
уверуют в Него» (гл. 31). В следующих 2-х главах (32—51) Иустин приводит подлинный
текст пророчеств, местами поясняя, что все пророчества, касающиеся земной жизни
Иисуса Христа, уже сбылись, в чем язычники могут удостовериться, если пожелают
навести надлежащие справки. Исполнение же многих пророчеств дает полное право
верить, что таким же образом сбудется и предсказанное пророками относительно
событий, еще имеющих совершиться.
«Когда мы доказываем, — говорит Иустин, — что все, уже сбывшееся, было предвозвещено
пророками прежде, нежели оно совершилось, то необходимо надобно верить, что
непременно сбудется и то, что подобным образом предсказано, но еще имеет совершиться.
Ибо каким образом исполнились события, предсказанные прежде и неведомые, таким
же образом сбудется и остальное, хотя не знают того и не верят. Пророки предсказали
два пришествия Христова: одно, уже бывшее, в виде Человека неславного и страждущего,
другое, когда Он, как возвещено, со славою придет с небес, окруженный ангельским
Своим воинством, и когда воскресит тела всех бывших людей, и тела достойных
облечет в нетление, а тела нечестивых, способные вечно чувствовать, пошлет
вместе со злыми демонами в вечный огонь» (гл. 52). Доказательство посредством
пророчеств Иустин считает особенно убедительным и неопровержимым. Заканчивая
его, он восклицает: «Каким бы образом поверили мы человеку Распятому, что Он
Первенец нерожденного Бога и произведет суд над всем родом человеческим, если
бы мы не находили свидетельств, предсказанных о Нем прежде, нежели Он пришел
и сделался человеком, и если бы не видели, что точно так и сбылось, — что земля
иудейская опустошена, что люди из всякого народа уверовали в Него посредством
учения апостолов Его, и бросили древние обычаи, в коих жили они по заблуждению?»
(гл. 53).
Попутно с доказательством Божественности Иисуса Христа Иустин доказывает истинность
еще двух, тесно связанных с ним и также оспариваемых язычниками догматов —
о воскресении мертвых и последнем Суде.
Истину воскресения он доказывает следующим сравнением. «Мы надеемся получить
умершие и в землю обратившиеся тела наши, утверждая, что нет ничего невозможного
для Бога. Будем говорить предположительно. Положим, что вы не существовали
бы в настоящем своем виде и не родились бы от таких родителей, как ваши: если
бы кто показал вам семя человеческое и изображение вида человеческого, и стал
утверждать, что из того самого произошло такое существо, то поверили бы вы
этому, не увидев на самом деле? Никто, думаю, не решился бы отрицать (что он
не поверил бы). Таким же образом и ваше неверие происходит от того, что вы
еще не видели воскресшего мертвеца. Но как прежде не поверили бы вы, что из
малой капли можно сделать вас такими, как вы, и однако ж видите, что это делается;
таким же образом судите, что и человеческие тела, разрушившиеся и обратившиеся
в землю наподобие семян, могут, по Божию повелению, в свое время воскреснуть
и облечься в нетление... И Учитель наш, Иисус Христос, сказал: невозможное
человекам возможно Богу» (гл. 18-19).
Воскресение, по словам Иустина, не только возможно, но и необходимо, потому
что с ним связано дело величайшей справедливости — воздаяния каждому по делам
его, т.е. праведники по воскресении получат вечное блаженство, а грешники будут
отданы на вечное мучение. «Мы желаем, — говорит Иустин, — вечной и чистой жизни,
мы стремимся к пребыванию с Богом, Отцом и создателем всего мира, и спешим
исповедать нашу веру, будучи убеждены и веруя, что такой награды достигнут
те, которые делами своими засвидетельствовали перед Богом верность в служении
Ему и любовь к жизни у Него, недоступной для зла... Платон также говорит, что
грешники придут на суд к Радаманту и Миносу и будут ими наказаны; и мы утверждаем
то же самое, но, по-нашему, судиею будет Христос и души их будут соединены
с теми же телами и будут преданы вечному мучению» (гл. 8). «Если бы смерть
вела в состояние бесчувствия, то это было бы выгодно для всех злодеев» (гл.
17). «Когда учим, что души злодеев, и по смерти имея чувствование, будут наказаны,
а души добрых людей, свободные от наказаний, будут жить в блаженстве, то мы
говорим то же, что и философы» (гл. 20). «И пророки учат, что каждому по достоинству
дел воздаются или наказания и мучения, или награды» (гл. 43).
После доказательства истинности главнейших христианских догматов Иустин выясняет
силу и значение креста, который служил таким соблазном для язычников. «Крест,
как предсказал пророк, есть величайший символ силы и власти Христовой, как
это видно и из предметов, подлежащих нашему наблюдению». Крестообразную форму
имеет корабль с поднятым парусом, имеют земледельческие и ремесленные орудия
и человек с распростертыми руками. Наконец, «и ваши символы представляют силу
крестообразной формы. Я разумею знамена и трофеи, с которыми вы совершаете
свои торжественные шествия, являя в них знак вашей власти и силы, хотя вы делаете
это, сами не помышляя о том» (гл. 50). У философов также встречается учение
о кресте. Платон в «Тимее» говорит, что Бог поместил Сына Своего во вселенной
наподобие буквы X (форма креста) (гл. 60).
Если же христиане ведут чистую богоугодную жизнь, если они никогда не являются
врагами государства и если, наконец, они содержат возвышенное, божественное
учение, в некоторых пунктах сходное с мнениями лучших языческих писателей,
то почему же они одни из всех людей подвергаются преследованиям за свою религию?
Объяснение этого непонятного, на первый взгляд, явления Иустин видит в действии
на язычников злых демонов, коренное свойство которых — обольщать людей и вводить
их в заблуждение. Создавши язычество, они разными способами заставили уверовать
в него людей, нетвердых в богопознании, и с тех пор держат их в своей власти,
всячески отвлекая их от истины. Так как христиане проповедуют эту истину, то
демоны являются их естественными врагами и настраивают против них язычников.
«Так называемые демоны, — говорит Иустин, — о том только и стараются, чтобы
отвести людей от Бога Творца и Его Перворожденного Христа Бога, и тех, которые
не могут возвыситься от земли, они пригвоздили и пригвождают к земным и рукотворенным
вещам, а тех, которые стремятся к созерцанию божественного, незаметно совращают,
и если они не имеют здравого рассудка и не ведут чистой и бесстрастной жизни,
— ввергают в нечестие» (гл. 58). «Еще в древности злые демоны, открыто являясь,
оскверняли женщин и отроков и наводили людям поразительные ужасы, так что те,
которые не рассуждали разумом об их действиях, будучи объяты страхом, и не
зная, что это были злые демоны, назвали их богами и давали им такое имя, какое
кто из демонов сам себе избрал» (гл. 5). Отсюда произошли сказания о разных
сынах Зевса (гл. 21) и вся вообще языческая безнравственная мифология (гл.
25), так как демоны через посредство поэтов предварительно рассказывали за
действительность то, что последние описывали в вымышленных ими сказаниях (гл.
23). «Они требуют жертв и служения от тех, которые живут противно разуму (гл.
12), и вообще стараются держать вас в рабстве и служении, — то через сновидения,
то через магические чарования пленяют всех, кто нимало не старается о спасении
своем» (гл. 14). Для обмана и развращения рода человеческого демоны извращали
божественное учение. Они, услышавши предсказания пророков о том, что придет
Христос и люди нечестивые будут наказаны огнем, сделали то, что многие назвались
сынами Зевса, думая тем произвести такое действие, чтобы люди сказание о Христе
почитали за чудесные сказки, подобные тем, которые были рассказаны поэтами.
Так, например, пророчество Моисея: «не оскудеет князь от Иуды...» они извратили
в сказание, что Дионис родится от Зевса, будет изобретателем винограда и т.д.
Пророчество Исайи о рождении Христа от Девы и о вознесении Его на небо представили
в виде сказания о Персее. Пророчество о том, что Он будет исцелять больных
и воскресит мертвых извратили в сказание об «Эскулапе» (гл. 51). После вознесения
Христа на небо они выставили таких людей, которые называли себя богами, как,
например, Симона волхва и Менандра (гл. 26; ср. гл. 56). «Услышавши о христианском
омовении, которое было возвещено пророками, демоны сделали то, что входящие
в храмы их и желающие приблизиться к ним для совершения возлияний и курений
окропляют себя, и даже делают то, что люди идут и омываются перед тем, как
войти в храмы, им посвященные» (гл. 62). Даже таинство евхаристии перенесено
демонами в обряды Митры, где вступающему в мистерию предлагается хлеб и чаша
с водою (гл. 66). Эти же демоны, обличаемые христианами, «выдумали и те порочные
и нечестивые дела, которые возводятся на христиан и для которых нет никакого
свидетеля, ни доказательства (гл. 23). Они производят и то, что живущие неразумно,
воспитанные в страстях и худых обычаях и приверженные к пустым мнениям истребляют
и ненавидят христиан» (гл. 57).
Своим рассуждением о демонах Иустин достиг двух целей: с одной стороны, указал
главный источник ненависти язычников к христианам, а с другой, — доказал ложность
язычества, которое, как произведение демонов, есть удаление от истинного богопознания.
Апология заканчивается повторением просьбы правительству о правосудии. «Если
все сказанное мною, — говорит Иустин, — кажется вам согласным с разумом и истиною,
то уважьте; если кажется вам пустяками, то оставьте в презрении, как пустяки,
и ни в чем невинных людей не осуждайте на смерть, как врагов. Мы наперед говорим
вам, что не избежите будущего суда Божия, если пребудете в вашей неправде,
а мы воскликнем: пусть будет, что Богу угодно» (гл. 68).
Апология II
Вторая апология, поданная тому же Антонину Благочестивому, служит продолжением
и дополнением первой, так как в ней или приводятся новые, или же восполняются
уже встречавшиеся в первой доводы для защиты христианства и христиан. Написана
она по частному случаю, имевшему место в самом Риме. Здесь одна римлянка, обратившись
в христианство, развелась со своим распутным мужем. Чтобы отомстить ей за это,
он заявил властям, что она христианка, вследствие чего она должна была явиться
на суд для дачи показаний. Зная, чем обыкновенно кончаются христианские процессы,
она подала императору просьбу, чтобы ей позволили привести в порядок свои домашние
дела, прежде чем отвечать на обвинение. Просьба ее была уважена. Тогда озлобленный
муж обратил внимание властей на Птоломея, бывшего ее наставником в христианском
учении. Птоломей, представленный на суд префекта Урбика, твердо исповедал себя
христианином и за это был приговорен к смертной казни. Присутствовавший при
этом осуждении другой христианин, по имени Луций, возмущенный нарушением старинного
римского правосудия, сказал Урбику: «Почему ты осудил на казнь человека, который
не виновен ни в блуде, ни в прелюбодеянии, не убийца, не грабитель или вор
и вообще не обличен в каком-либо преступлении, а исповедал только, что он христианин?
Ты, Урбик, судишь, как неприлично судить ни самодержцу благочестивому, ни философу,
сыну кесаря, ни священному сенату». Урбик на это сказал Луцию: «И ты, мне кажется,
такой же?» (христианин). «Да», — ответил Луций, и также был отведен на казнь.
Та же участь постигла и третьего христианина, который подошел на это дело (гл.
2-3).
Не довольствуясь несправедливым осуждением ни в чем неповинных христиан, язычники
часто еще издевались над ними. Видя твердость христиан при перенесении мучений
и бесстрастие перед самою смертью, они насмешливо спрашивали: «Почему же христиане
сами себя не убивают, чтобы отойти к своему Богу и тем избавить язычников от
излишних хлопот (гл. 4), или почему христианский Бог попускает, что люди беззаконные
владычествуют над христианами и мучат их?» (гл. 5). Частые случаи казни христиан,
в роде описанного, и жестокие издевательства над страдальцами побудили Иустина
написать свою вторую апологию, чтобы защитить невинно страждущих и оградить
их от грубых и неуместных насмешек.
Отвечая на первую насмешку, он говорит: «Я скажу, почему мы этого не делаем.
Мы научены, что не напрасно Бог сотворил мир, но для человеческого рода, и
Он услаждается теми, которые подражают Ему в свойственных Ему добродетелях,
и ненавидит тех, которые словом или делом предпочитают зло. Итак, если мы все
станем себя убивать, то будем виновны в том, что, сколько от нас зависит, никто
не родится, не научится Божественному учению, и перестанет существовать человеческий
род, и если будем делать так, то сами поступим противно воле Божией» (гл. 4).
Второй упрек касательно мнимого бессилия христианского Бога защитить Своих
последователей Иустин отражает указанием на всемогущество Божие. Бог, если
захочет, может разрушить целый мир, а не только наказать беззаконных, господствующих
над христианами. Если же он пока не делает этого, то только ради семени христиан,
которое Он признает причиною сохранения мира. «А если бы не это, то уже было
бы невозможно вам более поступать так с нами и возбуждаться к тому злыми демонами;
но судный огонь сошел бы и истребил все без разбора, как прежде воды потопа
не оставили никого, кроме одного с его семейством, который называется у нас
Ноем, а у вас Девкалионом, и от которого произошло такое множество людей —
злых и добрых» (гл. 7). По исполнении времен это так непременно и случится.
Демоны, бывшие во все века главными виновниками страданий людей праведных,
и все служащие демонам будут наказаны вечным огнем (гл. 8). «Но чтобы не сказал
кто, что все, что мы говорим о наказании неправедных людей в вечном огне, есть
только пустые слова и пугала, и что мы внушаем людям жить добродетельно только
по страху, а не потому что это хорошо и прекрасно, — на это отвечу коротко,
что если это не так, то нет Бога, или если есть, то Он не печется о людях;
что и добродетель и порок — ничто, и что законодатели несправедливо наказывают
тех, которые преступают их хорошие предписания. Но так как они не несправедливы,
и Отец их через Слово научает их делать то же, что делает Сам: то не несправедливо
поступают и те, которые сообразуются с ними» (гл. 9).
Отразив языческие насмешки и упреки на основании христианского вероучения,
Иустин затем доказывает язычникам, что это вероучение есть единственно истинное,
так как оно получено от Слова Божия (Иисуса Христа), того Слова, при содействии
Которого и языческие писатели высказывали свои лучшие мысли. «Наше учение,
— говорит Иустин, — возвышеннее всякого человеческого учения, потому что явившийся
ради нас Христос по всему был Слово. И все, что когда-либо сказано и открыто
хорошего философами и законодателями, все это ими сделано соответственно мере
нахождения ими и созерцания Слова, а так как они не знали всех свойств Слова,
Которое есть Христос, то часто говорили противное самим себе. Превосходство
христианского учения перед всяким другим видно и из того, что даже лучшему
языческому учителю, Сократу, никто не поверил так, чтобы умереть за его учение;
напротив, Христу поверили не только философы и ученые, но и ремесленники и
вовсе необразованные, презирая и славу, и страх, и смерть» (гл. 10; ср. гл.
13).
«Итак, я прошу вас, — заканчивает свою апологию Иустин, — благоволите обнародовать
это сочинение, чтобы и другие узнали о наших делах и могли освободиться от
ложного мнения и неведения о добром».
Разговор с Трифоном Иудеем
«Разговор с Трифоном Иудеем» представляет образец апологии христианства против
другого его врага — иудейства, которое, подобно язычеству, но с большим сознанием
и убеждением, ненавидело христианство, пользовалось всяким случаем клеветать
на него, а когда представлялась возможность, употребляло против него и репрессивные
меры. По словам Иустина, иудейские раввины составили особые проклятия против
христиан (гл. 16, 47, 96, 108, 133) и издали повеление, чтобы иудеи не вступали
с христианами ни в какое общение, не вели с ними разговоров вообще и, тем более,
о предметах веры (гл. 38). Иудеи, кроме того, значительно способствовали созданию
и распространению тех клевет и обвинений относительно христианства и христиан,
которые существовали в современном обществе (гл. 17 и 108). Во времена анархии,
как, например, при восстании Вар-Кохебы, когда римская власть была бессильна
оградить христиан от насилий со стороны иудеев, христиан подвергали мучениям
и предавали смертной казни (гл. 95, 133).
Иустин, заявивший себя в своей устной и литературной деятельности таким ревностным
защитником христианства против язычества, не мог оставить без внимания и письменного
опровержения и другого врага христианства, и постарался выяснить неосновательность
его вражды. Он считал себя даже обязанным сделать это, с одной стороны, в надежде,
что иудеи вразумятся его словами и обратятся на путь истины и спасения, а с
другой стороны, из опасения, что за умолчание об истине он будет наказан Богом
(гл. 38, 58, 64, 82).
Борьба с иудейством ставила христианского апологета в иные условия и предъявляла
другие требования, чем борьба с язычеством. Вместо оправдания христиан от различных
обвинений и доказательства истинности христианства в противоположность ложности
язычества, здесь нужно было доказать три положения: 1) что обрядовый закон
Моисеев имеет временный, частный и преобразовательный характер, и с пришествием
Спасителя потерял свое значение; 2) что приходивший на землю в бесславном виде
Иисус Христос есть истинный Мессия, предвозвещенный пророками и прообразованный
ветхозаветными символами; 3) что обетования о Новом Завете Бога с людьми, о
наступлении нового благодатного Царства относятся к христианству. Логический
вывод отсюда, — что иудеи должны не ненавидеть христианство, а принимать его,
как более совершенную божественную религию, явившуюся на смену иудейству. В
борьбе с иудейством апологету нужно было опираться исключительно на Св. Писание.
Такой метод доказательства имеет свои удобства и свои неудобства. Удобство
его заключается в том, что Св. Писание — прочный авторитет для иудеев, но большое
неудобство представляет то, что иудеи некоторые места Св. Писания толкуют по-своему,
в противохристианском смысле. Следовательно, защитник христианства должен не
только привести обличающие иудеев места из Священного Писания, но и установить
такое правильное толкование их, которое исключало бы всякое другое, неправильное.
По полноте и блестящему выполнению такой своеобразной задачи «Разговор с Трифоном
Иудеем» может считаться образцом для древних противоиудейских апологий. Когда
он написан, с точностью неизвестно, но несомненно позднее двух апологий против
язычества, так как на это есть намек в самом «Разговоре» (гл. 120).
* * *
В первых восьми главах «Разговора с Трифоном» Иустин рассказывает, как он
в Ефесе случайно познакомился с Трифоном, философствующим иудеем, который заинтересовался
его философским плащем, и как вследствие этого завязалась между ними продолжительная
беседа. На вопрос Трифона о том, какого философского направления он держится,
Иустин рассказал (2-8 гл.) историю своего обращения в христианство после продолжительного
искания истины у философов и заключил ее словами, что христианство есть «единая,
твердая и полезная философия». Выслушав это повествование, Трифон, верный своим
философским симпатиям и приверженности к иудейству, сказал с улыбкою: «Я одобряю
иное из того, что ты говорил, и удивляюсь твоей ревности о божественном, но
лучше было бы тебе следовать философии Платона или кого другого и жить в подвиге
терпения, воздержания и целомудрия, нежели обольщаться ложными словами и следовать
людям, ничего не стоящим. Ибо когда бы ты оставался верен тем философским началам
и жил неукоризненно, то оставалась бы еще надежда лучшей участи; но теперь,
когда ты оставил Бога и возложил надежду на человека, какие средства спасения
остаются для тебя? Поэтому, если хочешь послушаться меня (ибо я смотрю уже
на тебя, как на друга), то сперва прими обрезание, потом, как узаконено, соблюдай
субботу и праздники и новомесячия Божий и вообще исполняй все, написанное в
законе, и тогда, может быть, тебе будет милость от Бога. Что же касается Христа,
если Он родился и находится где-нибудь, то Он неизвестен другим, и ни Сам себя
не знает и не имеет никакой силы, доколе не придет Илия, не помажет и не объявит
Его всем. А вы, христиане, приняли ложный слух и вообразили себе какого-то
Христа и ради Его так безрассудно губите вашу жизнь» (гл. 9).
Эти слова Трифона о необходимости принятия иудейства как единственного средства
для спасения и о тщетности христианской веры вызвали со стороны Иустина достойный
ответ. «Я докажу, — сказал он, — что мы поверили не пустым басням и не бездоказательным
словам, но учению, которое исполнено Святого Духа и изобилует силою и благодатию»
(гл. 9). Далее он местами из Св. Писания доказывает, что Моисеев закон, которому
иудеи придают такое значение, теперь заменен новым, более совершенным, законом
Христовым, которому следуют христиане, и что иудеи только по своему закоренелому
упорству не хотят признать этого. «Я читал, — говорит Иустин, — что должен
быть некогда последний закон и Завет, крепчайший всех других, который надлежит
соблюдать всем людям, желающим получить наследие Божие. Закон, данный на Хориве,
есть уже ветхий закон и только для вас, — иудеев, а тот, о котором я говорю,
для всех людей вообще; новый закон, положенный над законом, отменяет древнейший,
и затем последующий подобным образом уничтожает прежний. Нам дарован закон
вечный и совершенный, и завет верный, это — Христос, после Которого нет больше
ни закона, ни постановления или заповеди. Об этом новом законе говорят пророки
Исайя (Ис. 51, 4, 5) и Иеремия (Иер. 31, 31-32). Итак, если Бог (в пророчестве
Исайи) предвозвестил, что Он установит новый закон и притом такой, который
будет светом для народов, а мы видим и уверены, что именем распятого Иисуса
люди обратились к Богу от идолослужения и другого беззакония, и до смерти пребывают
в своем исповедании, то все могут понять и из самых этих действий и из сопровождающих
их чудес, что Он есть новый закон и Новый Завет и упование тех, которые из
всех народов ожидали благодеяний от Бога» (гл. 11). «Этот самый закон вы презрели
и новый святой завет Его отвергли и даже теперь не принимаете его и не раскаиваетесь
в своем злодеянии, ибо уши ваши заключены, очи ваши ослеплены, а ваше сердце
огрубело» (Ис. 4, 10; гл. 12).
Развивая далее свою мысль, Иустин доказывает, что в силу отмены всего ветхозаветного
закона потеряли свое значение и отдельные предписания его об омовениях, постах,
обрезании, субботе, жертвах и т.д., в исполнении которых иудеи поставляли свою
праведность. Он выясняет, что и в древности, когда эти постановления имели
обязательную силу, они носили относительный и временный характер. Спасительная
сила заключалась не в них самих, а в соединенных с ними нравственных действиях,
почему в Писании говорится, что Бог выражает Свое прещение, видя их формальное
выполнение без соответствующей чистоты сердца и помыслов. Бог и дал-то их по
особенным условиям характера и жизни иудеев: по их жестоковыйности, чтобы отвлечь
их от идолопоклонства и заставить постоянно помнить о Боге. Относительный,
а не безусловный характер этих предписаний еще более выясняется из того, что
Писание указывает случаи, когда возможны отступления от них. Равным образом
временный их характер доказывается тем, что Бог дал их не от начала мира, а
в определенное время, причем получили оправдание праведники, жившие до издания
этих постановлений. Как временные и относительные, они совершенно не имеют
значения теперь, когда явились новые правила богоугодной жизни.
«Что пользы, — говорит Иустин, — в том омовении, которое очищает только тело?
Омойтесь душею от гнева и любостяжания, от зависти, от ненависти, и тогда все
тело будет чисто». Это дается «через баню покаяния и познания Бога» (крещение),
о которой говорит Исайя (Ис. 6, 10).
Таково же значение и бесквасных хлебов, именно, чтобы вы не делали древних
дел худой закваски (гл. 14).
Чтобы угодить Богу, научитесь соблюдать истинный пост Божий, как говорит Исайя:
«Разрушь всякий союз неправды, разорви сети насильственных договоров, отпусти
угнетенных на свободу и уничтожь всякую неправедную запись. Раздробляй алчущему
хлеб твой и бедных бескровных введи в дом твой; если увидишь нагого, прикрой
его и не презирай домашних от семени твоего» (Ис. 58, 6, 7; гл. 15).
Вместо плотского обрезания «обрежьте грубость сердец ваших и не будьте более
жестоковыйны», как говорит Моисей (Втор. 10, 16, 17; ср. Лев. 26, 40-41; гл.
16). Если бы плотское обрезание было необходимо, как вы думаете, то Бог не
сотворил бы Адама необрезанным, не призрел бы на дары Авеля, приносившего жертвы
в необрезании плоти, не угодил бы ему Енох необрезанный, взятый на небо. Лот
необрезанный спасся из Содома, потому что ангелы и сам Господь вывели его.
Ной, будучи не обрезан, вошел со своими детьми в ковчег. Не обрезан был Мельхиседек,
священник Вышнего, которому Авраам, первый принявший обрезание по плоти, дал
десятину, и благословил его Мельхиседек, по чину которого Бог возвестил через
Давида (Пс. 109, 4) поставить вечного священника (гл. 19). Да и сам Авраам,
будучи еще в необрезании, был оправдан и получил благословение за веру, которую
он имел к Богу, как показывает Писание (Быт. 15, 6); обрезание же он получил
только как знамение, а не для оправдания, что вынуждает нас признать и Писание
и самое существо дела. И неспособность женского пола к плотскому обрезанию
доказывает, что это обрезание дано, как знамение, а не как дело праведности.
Бог так сотворил женщин, что и они могут исполнять все святое и добродетельное
(гл. 23).
Только снисходя к слабости народа, Бог повелел приносить жертвы, чтобы вы
не идолопоклонствовали (гл. 19), а не потому, чтобы они нужны были Ему. Послушайте,
как об этом говорит Он через Амоса (Ам. 5, 18-6, 7), Иеремию (Иер. 7, 21, 22)
и Давида (Пс. 49; гл. 22).
Субботу он повелел соблюдать для того, чтобы вы помнили Бога, как говорит
Иезекииль (Иез. 20, 12, 20; 19-26; гл. 19), но Бог допускает и нарушение субботы.
«Вы видите, что стихии не бывают праздны и не соблюдают субботы» (гл. 23).
Первосвященники приносят в субботу жертвы, обрезание совершается в восьмой
день, хотя бы это была и суббота. «Если Бог знал, что нечестиво обрезание в
субботу, то разве Он не мог повелеть совершать его над рожденными днем прежде
или после субботы? (гл. 27). И Сам Бог в этот день (субботний) управляет миром
(гл. 29).
Бог также повелел вам воздерживаться от некоторых яств, чтобы вы и во время
принятия пищи и пития имели перед глазами Бога, так как вы непостоянны и склонны
оставить познание о Нем, как говорит Моисей (Исх. 32, 6; Втор. 32, 15; гл.
20).
Даже и храм, называемый Иерусалимским, Бог признал Своим домом или дворцом
не потому что имел в нем нужду, а для того, чтобы вы, по крайней мере, там
почитая Его, не идолопоклонствовали. Это подтверждается словами Исайи (Ис.
66, 1; гл. 22).
Если мы не признаем этого, то должны будем впасть в нелепые мысли: или будто
бы не один и тот же Бог был во дни Еноха и всех других, не знавших ни обрезания
плотского, ни соблюдавших субботы и других установлений, предписанных Моисеем,
или будто Богу угодно было, чтобы род человеческий не всегда совершал одни
и те же праведные дела; думать так явно смешно и глупо. Но мы должны исповедовать,
что Бог, будучи всегда один и тот же, предписал эти и им подобные действия
по причине людей грешников. Если же до Авраама не было нужды в обрезании, а
до Моисея в субботе, праздниках и приношениях, то и ныне, когда по воле Отца,
Сын Божий Иисус Христос родился без греха от Девы из рода Авраамова, также
нет в них нужды (гл. 23). Поймите, прошу вас, что кровь обрезания уничтожена
и мы уверовали в спасительную Кровь: другой теперь Завет, другой закон вышел
от Сиона. Теперь, по слову пророческому (Ос. V, 2; Ис. 26, 2, 3; 65, 1-3; II,
5, 6; Иер. 3, 17), в Царствие Божие призваны новые народы (гл. 24-25), а потому
все «уверовавшие во Христа и раскаявшиеся, в чем согрешили, получат наследство
вместе с патриархами, пророками и праведниками, рожденными от Иакова, хотя
не субботствуют, не обрезываются и не соблюдают праздников» (гл. 26). Из слов
пророка Иеремии (Иер. 9, 25, 26) видно, что Бог отвергает народы с обрезанною
плотью и необрезанными сердцами, так что «скиф ли кто или перс, однако, если
имеет познание о Боге и Христе Его и соблюдает Его вечные заповеди, — тот обрезан
прекрасным и полезным обрезанием и есть друг Богу, Который с радостью принимает
его дары и приношения» (гл. 28).
Равным образом временное значение, должествовавшее прекратиться с пришествием
Христа, имели и те установления Моисеева закона, которые были прообразами христианства.
«Таинство агнца, которого Бог повелел закалать, как пасху, было прообразом
Христа, Кровию Коего верующие, по мере свой веры в Него, помазывают дома свои,
— самих себя. А что и эта заповедь об агнце была дана на время, я докажу так.
Бог нигде не позволяет закалать пасхального агнца, как только на том месте,
на котором «пребывало имя Его» (Втор. 16, 5, 6), потому что он знал, что после
страдания Христа придут дни, когда место Иерусалима будет предано врагам вашим,
и все вообще приношения прекратятся. Агнец, которого велено было изжарить всего,
был символом страдания крестного, которым имел пострадать Христос. Ибо когда
жарят ягненка, то его располагают наподобие фигуры креста: один вертел проходит
через него прямо от нижних оконечностей к голове, а другой поперек плечных
лопаток, на которых держатся передние ноги ягненка. Подобным образом те два
козла во время поста, из которых одного отпускали, а другого приносили в жертву,
возвещали двоякое пришествие Христа: первое, когда старцы вашего народа и священники
вывели Его, как козла отпущенного, наложили на Него руки и умертвили, и другое
пришествие Его, так как вы на том же месте Иерусалима узнаете Того, Кого вы
обесчестили и Который был приношением за всех грешников, желающих покаяться
и соблюдающих пост, предписанный Исаиею. Вы также знаете, что и это приношение
двух козлов, которых велено было приносить во время поста, не позволено нигде
совершать, кроме Иерусалима (гл. 40). И приношение пшеничной муки, которую
велено было приносить за очистившихся от проказы, было прообразом хлеба Евхаристии,
который заповедал приносить Господь наш Иисус Христос в воспоминание страдания,
подъятого Им за людей, очищающих свои души от всякого греха, а вместе для того,
чтобы мы благодарили Бога как за то, что Он освободил нас от греха, в котором
мы были, и совершенно разрушил начальства и власти через Того, Который сделался
страждущим по воле Его. Посему-то Бог, по словам Малахии (Мал. 1, 10-12), отвергает
жертвы ветхозаветные, о жертвах же, которые мы язычники приносим на всяком
месте, — о хлебе Евхаристии и также о чаше Евхаристии, еще тогда он предсказывает,
что имя Его мы прославляем, а вы оскверняете. И заповедь, повелевающая, чтобы
младенцы непременно обрезывались в восьмой день, была прообразом истинного
обрезания, которым мы обрезались от заблуждения и греха через Господа нашего
Иисуса Христа, воскресшего из мертвых в первый день недели, который в счислении
всех дней по их круговороту называется восьмым, хотя и остается первым (гл.
41). Двенадцать звонцев [1], висевших на длинной одежде первосвященника,
были символом двенадцати апостолов, которые были укреплены силою вечного Священника
Христа, и голос которых, согласно пророчествам (Пс. 18, 4; Ис. 53, 1, 2), наполнил
всю землю славою и благодатью Бога и Христа Его. Так перечисляя все прочие
постановления Моисеевы, я мог бы доказать, что они были прообразами, символами
и возвещениями того, что имело случиться со Христом, — тех людей, которых вера
в Него была предузнана, равно как и действий, которые надлежало совершать Самому
Христу» (гл. 42).
Доказавши, что обрядовый закон Моисеев имел временное и подготовительное по
отношению к христианству значение, Иустин делает отсюда наставительный для
иудеев вывод: «Итак, вы должны постараться узнать, каким путем можете получать
отпущение ваших грехов и надежду на наследство обещанных благ; а нет другого
пути, кроме того, чтобы вы, познавши нашего Христа и омывшись тем крещением
во оставление грехов, о котором возвещал Исайя, жили потом без греха» (гл.
44). Этим выводом окончательно разрушалась горделивая, высказанная Трифоном
в начале беседы, надежда иудеев вековечно получать спасение через соблюдение
закона Моисеева.
Но иудеи ненавидели христиан не за одно только отвержение закона Моисея, как
потерявшего свое значение, а также и за обоготворение Иисуса Христа, причиною
смерти Которого были сами иудеи и Которого они считали простым человеком, богохульно
выдававшим себя за Бога. Иудеев, как строгих монотеистов, возмущало то, что
христиане, обоготворяя Иисуса Христа, тем самым создают другого Бога, кроме
Бога Творца всего, тогда как согласно Писанию, существует один только истинный
Бог. Выражая этот общеиудейский взгляд, Трифон просит Иустина доказать, есть
ли другой Бог, кроме Творца всего (гл. 50). В ответ на это Иустин, во-первых,
указывает на многие случаи явлений на земле Бога, отличного от Бога Отца. Так,
это второе Божественное лицо являлось Аврааму при дубе Мамврийском (Быт. 18,
27, 28), Аврааму и Лоту перед гибелью Содома (Быт. 18, 13-14, 16-17, 20-23,
33; 19, 1, 10, 16, 23-25), многократно являлось Иакову (Быт. 31, 10-13; 32,
22-30; 28, 10-19) и Моисею явилось в несгораемой купине (Исх. 2, 23; 3, 16;
гл. 56. 58-59). «Тот, — говорит Иустин, — Который в Писании представляется
являвшимся Аврааму, Исааку и Моисею и называется Богом, есть иной, нежели Творец
всего, иной, разумеется, по числу, а не по воле, ибо я утверждаю, что Он делал
только то, что сотворившему все Богу, выше Которого нет другого Бога, угодно
было, чтобы Он делал и говорил» (гл. 56). «Никто, даже и малосмысленный, не
осмелится утверждать, что Творец всего и Отец оставил все, сущее выше неба,
и явился на малой частице земли» (гл. 60).
«Представлю вам, — продолжает Иустин, — и другое свидетельство от Писаний
в доказательство, что, как начало, прежде всех тварей, Бог родил из Себя Самого
некоторую разумную силу, которая от Духа Святого называется также славою Господа,
то Сыном, то Премудростию, то Ангелом, то Богом, то Господом и Словом; Сам
Он называет Себя также «вождем воинства», когда Он явился в образе человеческом
Иисусу Навину (Нав. 5, 13, 14). Ибо Он имеет все эти названия и от служения
Своего воле Отеческой и от рождения по воле Отца. Не видим ли мы подобного
этому и в нас самих? Произнося какое-нибудь слово, мы рождаем его, но не через
отделение, так чтобы уменьшилось слово в нас, когда мы его произносим. Подобным
образом, как мы видим, от огня происходит другой огонь, но так, что не уменьшается
тот, от которого он возжен, а остается тем же, тогда как и возженный от него
действительно существует и светит, без уменьшения того, от которого возжен.
Свидетелем мне будет Слово Премудрости, то Самое, Которое есть Бог, рожденный
от Отца всего, Слово и Премудрость, Сила и Слава Родившего; Оно через Соломона
(Притч. 8, 21-36) говорит о предвечном рождении от Бога Премудрости, Которая
вместе с Ним принимала участие в создании и устроении вселенной (гл. 61, ср.
гл. 128). Тоже самое объявляет Слово Божие и через Моисея (Быт. 1, 26—28; 3,
22), показывая нам, что Бог при сотворении человека говорил к Какому-то от
Него различному по числу и разумному Существу. Говоря «как один из нас» (Быт.
3, 22), Он указал на число Лиц, соприсущих друг другу, и по крайней мере, двух»
(гл. 62).
Таким образом, этими местами Св. Писания Иустин доказал существование второго
Божественного Лица и Его единосущие с Богом Отцом и тем твердо обосновал правильность
христианской веры в Божество Иисуса Христа, не нарушающей веры и в единобожие.
Не имея ничего больше возразить на подавляющие доводы Иустина по этому вопросу,
Трифон, далее, просит его доказать от Писания и другие особенности христианского
вероучения, соблазняющие иудеев, именно, что это второе Божеское Лицо «по воле
Отца снизошло по человечески родиться от Девы, быть распятым и умереть, после
чего воскресло и вознеслось на небо» (гл. 63). В ответ на это Иустин приводит
многочисленные места Св. Писания, из которых открывается, что все черты земной
жизни Иисуса Христа были или предречены пророками, или же прообразованы ветхозаветными
символами и установлениями, и события совершились именно так, как было предсказано
и прообразовано. Так, факт боговоплощения утверждается пророчествами Исайи
(Ис. 53, 8), Моисея (Быт. 49, 8-12) и Давида (Пс. 109, 3, 4; 44, 6-12), в которых
говорится о двояком — божеском и человеческом — происхождении Иисуса Христа,
так как с одной стороны кровь Его будет не от семени человеческого и Он вообще
будет Богом, а с другой, — Он родится от чрева человеческого (гл. 63). О рождении
Его от Девы весьма ясно пророчествует Исайя (Ис. 8, 10-17; гл. 66).
Услышав, что последнее пророчество применяется к Иисусу Христу, Трифон стал
оспаривать мессианский смысл его, говоря, что в нем вместо слова: «дева» нужно
читать: «молодая женщина», и что все пророчество относится к царю Езекии (гл.
67). Это возражение, подрывающее один из главных пунктов христианского вероучения,
побудило Иустина обратиться к подробному разбору данного пророчества, на основании
которого он доказал, что это пророчество не может относиться к Езекии, так
как он не только в период раннего детства, но и никогда во всю свою жизнь не
обладал тем могуществом, которое пророчественно обещается имеющему родиться
отроку. Между тем, оно вполне приложимо ко Христу и буквально исполнилось на
Нем, когда вскоре по рождении Его восточные вохвы пришли к Нему на поклонение
и принесли Ему, как могущественному царю, дары (гл. 77). Неправильность же
иудейского чтения данного места с заменою слова «дева» словом «молодая женщина»
изобличается тем, что Бог обещает Ахазу необычайное знамение — рождение Сына
Девою. «Если бы, — говорит Иустин, — Христу надлежало родиться от совокупления,
подобно всем прочим первородным, то зачем Сам Бог сказал, что Он даст знамение,
которое не обще всем первородным?
Но то, что поистине есть знамение и должно быть предметом веры всего человеческого
рода, именно, что от Девической утробы возьмет Перворожденный всех тварей плоть
Свою, истинно сделается Отроком, об этом Исайя через пророчественный Дух предвозвестил
для того, чтобы когда это исполнится, знали, что это произошло по силе и воле
Творца всего» (гл. 84).
В факте переименования Иисуса Навина из Авсия (Исх. 20, 22; 23, 20, 21; Нав.
5) указано, что имя родившемуся Мессии будет Иисус. Пророк Михей (Мих. 5,2)
предсказал об Его рождении в Вифлееме, что исполнилось во время первой народной
переписи при Октавиане Августе; пророк Исайя указал, что предтечею первого
Его пришествия будет Иоанн Креститель, который уготовит Ему путь (Исх. 40,
1-17). Этот Иоанн, сидя при реке Иордане, восклицал: «Я крещу вас водою для
покаяния, но придет Сильнейший меня, у Которого я недостоин носить сапоги:
Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Мф. 3, 2; гл. 51). И когда Иисус
пришел к реке Иордану, где Иоанн крестил, и сошел в воду, то огонь возгорелся
в Иордане [2], а когда Он вышел из воды, то Дух Святой,
как голубь, слетел на Него и пришел с небес голос, провещанный и через Давида
(Пс. 2, 7), который
как бы от своего лица говорил то, что имело быть сказанным Ему от Отца: «Ты
Сын Мой, Я днесь родил Тебя» (гл. 88) [3].
Что касается бесславности первого пришествия Христова, особенно же Его страданий
до распятия и смерти включительно, то на это особенно много ясных указаний
в Св. Писании, Пророк Исайя говорит, что Он не будет иметь ни вида, ни славы,
ни красоты,, но вид Его бесчестнее и презреннее вида сынов человеческих. «Как
овца, Он будет веден на заклание, и как агнец безгласен перед стригущим его,
так Он не откроет уст Своих» (Ис. 53, 3, 5; гл. 13). Давид, как бы присутствуя
при Его предкрестных душевных муках и крестных страданиях, от лица Его говорит:
«Боже, Боже Мой, воззри на Меня, зачем Ты оставил Меня? Все видящие Меня смеялись
надо Мной и говорили устами, кивая головою: Он надеялся на Господа, пусть освободит
и спасет Его. Не отступи от Меня, потому что скорбь близка, потому что нет
помощника Мне. Все кости Мои, как вода, выступили и разделились. Сердце Мое
сделалось, как воск тающий, в средине внутренности Моей; иссохла сила Моя,
как черепок, и язык Мой пристал к гортани Моей, и Ты низвел Меня в прах смертный;
ибо множество псов окружило Меня, и сборище лукавых обступило Меня. Они пронизали
руки и ноги Мои; пересчитали все кости Мои; а сами они рассуждали и смотрели
на Меня. Они разделили себе одежды Мои, и об одежде Моей бросали жребий» (Пс.
21, 1-23; гл. 98). Все это с буквальною точностью исполнилось на Иисусе Христе
(гл. 99-106).
Трифон опять возразил, что он затрудняется признать возможность и необходимость
для Христа крестных страданий, когда в Писании сказано, что «проклят всякий
распятый» (Втор. 21, 23). Тогда Иустин выяснил ему спасительное значение Христовых
страданий и смысл вышеуказанного проклятия. Пророчество Исайи (Ис. 53, 4-6,
10) ясно говорит: «Он носит грехи наши и мучится из-за нас, и мы вменили Ему
то, что Он в болезни, в язве и в мучении. Но Он был язвен за грехи наши и мучен
за беззакония наши; наказание мира нашего на Нем, через рану Его мы исцелились.
И Господь предал Его за грехи наши. От беззаконий народа его Он идет на смерть.
Если дадите Его в жертву о грехе, то ваша душа увидит семя долговечное». Следовательно,
«Он снизошел быть распятым не потому, чтобы Он имел в этом нужду, но Он совершил
это за род человеческий, который от Адама подпал смерти и обольщению змия,
потому что каждый по своей собственной вине творил зло» (гл. 88). Спасительное
значение креста, на котором был распят Иисус Христос, утверждается и ветхозаветными
прообразами. «Когда народ израильский воевал с Амаликом, то Моисей молился
Богу, распростерши руки свои на обе стороны; Ор же и Аарон поддерживали их
весь день, чтобы они не опустились от утомления. Ибо если он что-нибудь опускал
из этого знамения, представлявшего крест, то народ был побеждаем; если же он
оставался в этом положении, то Амалик был побеждаем в той же степени, и сильный
имел силу от креста. Не потому народ одерживал победу, что Моисей так молился,
а потому что он делал знамение креста (гл. 90). Также образ и знамение, употребленное
против угрызения Израиля от змеев [4], очевидно было воздвигнуто для безопасности
верующих; потому что еще тогда была предвозвещена смерть змию через имеющего
распяться и спасение тем, которые, будучи укушены им, прибегают к пославшему
в мир Сына Своего, Который был распят. «Ибо не в змия веровать научил нас пророчественный
Дух через Моисея, когда объявляет, что змий был в начале проклят от Бога, и
через Исайю (Ис. 27, 1) показывает, что он будет убит, как враг, великим мечем,
который есть Христос» (гл. 91).
Что касается проклятия, положенного в законе на людей распятых, то оно не
безусловно и не «положено на Христа Божия, через Которого Бог спасет всех,
сделавших достойное проклятия (гл. 94). Если Отцу всего угодно было, чтобы
Его Христос принял на Себя проклятие всех, за весь человеческий род, зная,
что Он воскресит Его распятого и умершего, то для чего вы говорите, как о проклятом,
о Том, Который по воле Отца захотел претерпеть это? С другой стороны, сказанное
в Законе «проклят всякий висящий на дереве» укрепляет надежду нашу, зависящую
от распятого Христа, не потому что Бог проклинает этого Распятого, но потому
что Бог предсказал, что вы и вам подобные имели сделать, не зная того, что
Он есть Сущий прежде всего, вечный священник Бога, Царь и Христос. Это, как
вы можете видеть, и исполняется. Ибо вы в своих синагогах проклинаете тех,
которые сделались через Него христианами, также и прочие народы приводят в
действие самое проклятие, убивая тех, которые только объявят себя христианами»
(гл. 95-96).
Распятый Христос пробыл на кресте до вечера, прообразом чего был Моисей, державший
свои руки распростертыми до вечера. «К вечеру погребли Его, а потом Он воскрес
в третий день. Об этом Давид возвестил так: «Я возвал голосом Моим к Господу
и Он услышал меня с горы святой Своей. Я уснул и спал; и опять встал, потому
что Господь поддержал меня» (Пс. 3, 5-6). О том, что Он воскреснет, Исайя сказал
так: «Гроб Его был взят из среды»; и: «дам богатых за смерть Его» (Ис. 57,
2; 57, 2; 53, 9; гл. 97). Касательно Его воскресения в третий день после распятия
написано в памятных записях [5], что люди из вашего рода, состязаясь с
Ним, сказали Ему: «Покажи нам знамение»; и Он отвечал им: «Род лукавый и прелюбодейный
ищет
знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка» (Мф. 12, 38-41.
сн. 16, 1-4). Эти слова Его тогда были прикровенны, так что слушатели не могли
из них понять, что Он после распятия в третий день воскреснет» (гл. 107).
Воскресший из мертвых, по вознесении на небо, будет безмерно возвеличен Богом,
сядет по правую сторону Отца и поставится царем и судией всех народов, как
об этом говорят Даниил (Дан. 8, 9-28) и Давид (Пс. 109, 71, 1-19; 23; 46; 98;
44; гл. 31-38).
Доказавши Божество Иисуса Христа исполнением на Нем многочисленных пророчеств
и прообразов, Иустин, далее, показывает иудею, что со времени пришествия Христа
на землю спасение даруется не через основание закона Моисеева, как было в Ветхом
Завете, а через веру в распятого Иисуса, вследствие чего в Царствие Божие более
будут призваны язычники, уверовавшие в Него, чем иудеи, отвергающие Его. Это
также предречено и прообразовано через Исайю (Ис, 2, 5, 6; 60, 1-3). Господь
говорит: «Идите со мною все боящиеся Бога, желающие видеть блага Иерусалимские.
Идите, будем ходить во свете Господнем; Он отпустил народ Свой, дом Иакова.
Идите все народы, соберемся в Иерусалим, уже неосажденный войною за грехи людей».
«Я открылся тем, которые Меня не ищут, найден теми, которые Меня не спрашивают».
«Я сказал: вот Я, — народам, которые не призывали имени Моего. Я простирал
руки Мои целый день к народу неверному и непокорному, к людям, которые ходят
путем не добрым, но вослед грехов своих. Это народ, который оскорбляет Меня
пред лицом Моим» (гл. 24). В пророчестве Михея говорится: «И многие народы
придут и скажут: придите, взойдем на гору Господню и в дом Бога Иакова: и нам
покажут пути Его и будем ходить по стезям Его... И будет в тот день: Я соберу
сокрушенную, и приму изгнанную и ту, которую Я поразил, и положу сокрушенную
в остаток и угнетенную в народ сильный: Господь будет царствовать над нами
на горе Сионе отныне и до века» (Мих. 4, 1-7; гл. 109). И Захария приточно
показывает таинство Христово и прикровенно возвещает его. Вот слова его: «Радуйся
и веселись дочь Сиона! Ибо вот Я иду и поселюсь среди тебя, говорит Господь.
И многие народы присоединятся к Богу в тот день, и будут Моим народом» (Зах.
2, 10, 3, 2). Это откровение относится к нам, верующим во Христа, к нам, которые,
будучи преданы блудодеянию и всякому вообще гнусному делу, совлекли с себя
благодатию, дарованною нашим Иисусом по воле Отца Его, все нечистое и злое,
во что мы были облечены. На нас восстает диавол, всегда действующий против
нас и желающий всех привлечь к себе; но Ангел Божий, т.е. сила Божия, ниспосланная
нам через Иисуса Христа, запрещает ему и он удаляется от нас. И мы как будто
выхвачены из огня, потому что избавлены и от прежних грехов, и от мучения и
пламени, которые готовит нам диавол и все слуги Его, и от которых опять избавляет
нас Иисус Сын Божий (гл. 115-116). Исайя говорит, что «те, которым не было
возвещено о Нем, увидят, и которые не слыхали, уразумеют» (Ис. 52, 15; гл.
110). Это тот народ, о котором Бог некогда дал обетование Аврааму и обещал
сделать его отцом многих народов, разумея не аравитян, египтян или идумеев,
ибо и Измаил сделался отцом великого народа, и Исав; аммонитян и теперь великое
множество. Ной же был отец и самого Авраама и вообще всего человеческого рода,
а другие были родоначальниками тех или иных народов. Что же больше здесь дает
Христос Аврааму? То, что Он своим голосом призвал его подобным названием и
повелел ему выйти из земли, в которой он жил. И нас всех Он призвал тем же
голосом, — и мы теперь вышли из того образа жизни, который вели мы, живя худо,
подобно другим обитателям земли. И вместе с Авраамом наследуем святую землю
и получим наследие в бесконечную вечность, так как мы дети Авраама по одинаковой
с ним вере. Ибо как он поверил голосу Божию и это вменилось ему в праведность,
так и мы дети Авраама по одинаковой с ним вере. Ибо как он поверил голосу Божию
и это вменилось ему в праведность, так и мы, уверовавши голосу Божию, провещанному
снова апостолами и предвозвещенному нам пророками, отреклись, даже до смерти,
от всего в мире.
Посмотрите, как Он обещал то же самое Исааку и Иакову. Так Он говорит Исааку:
«Через семя твое благословятся все народы земные» (Быт. 26, 4) и Иакову: «Через
тебя и через семя твое благословятся все племена земные» (Быт. 28, 14). Об
Иуде Он говорил: «Не оскудеет князь от Иуды и правитель от чресл Его, пока
не придет то, что отложено для Него; и Он будет чаяние народов» (Быт. 49, 10).
Ясно, что это сказано не об Иуде, а о Христе, ибо мы все из всех народов ожидаем
не Иуду, но Иисуса, который и отцов ваших вывел из Египта (гл. 119-120). Бог,
говоря об этом Христе через Давида, не сказал: «Через семя Его благословятся
народы», но через Него Самого: «Имя Его вовек, выше солнца взойдет и все народы
благословятся через Него» (Пс. 71, 17). Если же через Христа благословятся
все народы, и мы, составившиеся из всех народов, веруем в этого (Иисуса): то
Он есть Христос, а мы — люди, через Него благословенные. Если же Он в первое
Свое пришествие бесславное, безвидное и уничиженное так воссиял и такую возымел
силу, что нет ни одного народа, в котором был бы неизвестен, и повсюду люди
из всякого народа покаялись обратились от своего прежнего порочного образа
жизни, так что и демоны повинуются имени, Его и все начальства и царства трепещут
имени Его более всех умерших: то неужели во время славного Своего пришествия
Он не поразит всех ненавидящих Его и несправедливо отступивших от Него, а Своих
последователей не успокоит и не даст им все ожидаемые блага? Итак, нам дано
и слышать и разуметь, и спасаться через этого Христа и знать все, что принадлежит
Отцу (гл. 121). У Исайи (Ис. 42, 1-4) Бог, говоря о Христе, приточно называет
Его Иаковом и Израилем, на имя которого будут надеяться народы. Поэтому, как
от этого одного Иакова, названного также и Израилем, весь род ваш назван Иаковом
и Израилем: так и мы, соблюдающие заповеди Христовы от родившего нас для Бога
Христа, называемся не только Иаковом, Израилем, Иудою, Иосифом и Давидом, но
и истинными сынами Божиими, и на самом деле таковы (гл. 123).
О призвании новых народов в Царствие Божие свидетельствуют и прообразы. Бракосочетания
Иакова были образами того, что имело совершиться через Христа. Жениться на
двух сестрах одновременно нельзя было Иакову; посему он служил Лавану за дочерей
его и, будучи обманут в младшей, служил ему еще семь лет. Лия — ваш народ и
синагога, а Рахиль — наша Церковь. Христос доныне служит за них и за рабов
их обеих. Если Ной отдал в рабство двум сынам своим семя третьего сына, то
теперь Христос пришел для восстановления и свободных детей и рабов их, почитая
достойными тех же прав всех, соблюдающих заповеди Его, точно так, как родившиеся
у Иакова от свободных жен и родившиеся от рабынь все были сынами равночестными:
Иаков служил Лавану за пестрый и многовидный скот, и Христос потерпел рабство
даже до креста за разнообразных людей из всякого народа, приобретши их Своею
Кровью и таинством крестным. Глаза Лии были слабы, и ваши душевные очи весьма
немощны. Рахиль похитила богов Лавана и скрыла их даже до сего дня: и наши
отеческие и вещественные боги погибли для нас (гл. 134).
В потопе также было таинство людей спасаемых. Ибо праведный Ной при потопе
с прочими людьми (с женою своею, тремя сыновьями своими и женами их), составляя
числом 8 человек, были символом того дня, в который наш Иисус Христос явился,
восставши из мертвых, и который есть по числу восьмой, но по силе всегда первый.
Христос, перворожный всей твари, сделался также началом нового рода, возрожденного
Им посредством воды, веры и дерева, содержащего таинство креста, подобно как
Ной спасся на древе, плавая с семейством своим (гл. 138).
И другое таинство, которого вы не знаете, было предвезвещено событием во время
Ноя. В благословениях, которыми Ной благословил двух своих сыновей (Сима и
Иафета), он изрек и проклятие на своего внука (Ханаана, сына Хама) (Быт. 9,
24-27). Таким образом, как были благословены два народа, сыны Сима и Иафета,
и сперва сынам Сима было определено обладать жилищами Ханаана, а от них те
же владения должны были, по предсказанию, получить, в свою очередь, сыны Иафета.
И как один народ, народ ханаанский, был предан в рабство тем двум народам.
Но Христос пришел по данной Ему от Всемогущего Отца власти, и призывая людей
к дружеству, благословению, покаянию и совокупной жизни, обещал им, как было
показано, обладание, имеющее быть в той же земле всех святых. Потому люди всех
стран, рабы ли или свободные, если они веруют во Христа и признают истину в
Его словах и в словах Его пророков, знают, что они будут вместе с Ним в той
земле и получат вечное нетленное наследие. Поэтому Иаков, который сам был образом
Христа, вступил в сожитие с двумя рабынями двух своих сводных жен, и прижил
от них сыновей, чтобы предуказать, что Христос примет и всех потомков Ханаана,
которые находятся среди племени Иафета, наравне со свободными сынами, и будет
иметь их всех детьми и сонаследниками. Таковы именно мы, но вы не можете понять
этого, потому что вы не можете пить от живой воды Божией, но из «сокрушенных
колодцев, которые не могут сохранять воды», как говорит Писание (Иер. 2, 13).
Такие сокрушенные колодцы ископали для вас ваши учителя, которые, как ясно
говорит Писание, «учат учениям, заповедям человеческим» (Ис. 29, 13). И кроме
того, они обольщают себя и вас, думая, что тем, которые по плоти происходят
от семени Авраамова, хотя бы они были даже грешники и неверующие, и непокорные
Богу, несомненно будет дано Его вечное царство, — несправедливость чего доказывается
самими Писаниями. Иначе Исайя не сказал бы так: «И если бы Господь Саваоф не
оставил нам семени, мы были бы как Содом и Гоморра» (Ис. 1, 9). И Иезекииль:
«Если Ной и Иаков и Даниил будут просить за своих сынов и дочерей, не дастся
им. Но ни отец не погибнет за сына, ни сын за отца; но всякий погибнет за свой
собственный грех, а всякий спасается своими собственными правыми действиями»
(Иез. 14, 20 след.; 18, 4-20). И Исайя опять: «они посмотрят на члены тех,
которые согрешили против Меня; червь их не успокоится, и огонь их не угаснет,
и они будут зрелищем для всякой плоти» (Ис. 66, 24; гл. 139-140).
По окончании разговора собеседники расстались, высказывая пожелание всяких
благ друг другу (гл. 142).
1. В Библии нет указаний на 12 звонцев; поэтому нужно думать, что Иустин их
смешал с 12 камнями на священнической одежде Аарона (Исх. 28, 9 и след.).
2. Мысль о воспламенении Иордана Иустин заимствовал, по всей вероятности,
из каких-либо апокрифических сочинений его времени, так как об этом ничего
не говорится в канонических евангелиях.
3. Близкий к этому текст слов, сказанных с неба, находится, по свидетельству
Епифания, в евангелии евионитов.
4. Медный змей на шесте, изображающий фигуру креста.
5. В евангелиях.
Татиан
Младший современник и ученик Иустина, Татиан, родом из Ассирии («Речь против
Еллинов», гл. 42), принадлежал к числу классически образованных людей своего
времени. Греко-римская поэзия, мифология, история, философия и ораторское искусство
были ему хорошо известны, так что он сам про себя говорит, что «весьма славился
в языческой мудрости» (там же, гл. 1). Кроме того, предпринимая для восполнения
своих знаний путешествия в различные страны, славившиеся своими школами и учителями,
он обогатился сведениями о быте, нравах и религиозных воззрениях многих народов
Азии и Европы, с которыми ему приходилось встречаться.
Но и такой богатый запас разнородных сведений не удовлетворил Татиана, как
не отвечающий на запросы ума и сердца человека, желающего постигнуть истину
и составить себе миросозерцание не на таких шатких основах, как языческая религия,
мораль и философия, полные всякого рода недостатков. В стремлении найти истину,
он посвятился в какие-то греческие мистерии (там же, гл. 29), вероятно, элевзинские,
но и это не улучшило дела, так как и мистерии были выражением того же язычества
и, следовательно, не могли удовлетворить человека, желающего стать выше его.
Прибытие в Рим, где, как в центре материальной и духовной жизни тогдашнего
мира, всего рельефнее обнаруживалась полная несостоятельность язычества во
всех отношениях, еще более усилило убеждение Татиана, что язычество не обладает
истиной. Это печальное для него убеждение заставило его «углубиться в себя
и исследовать, каким образом найти истину» (там же).
Истина, наконец, перед ним открылась. Ему попали в руки книги Св. Писания,
которые произвели на него глубокое впечатление «по простоте их речи, безыскусственности
писателей, удобопонятности объяснения всего творения, предведению будущего,
превосходству правил и, наконец, по учению об этом едином Властителе над всем»
(там же). К этим книгам расположило его и то, что они гораздо древнее всех
памятников эллинской образованности. Затем Татиан увидел высоконравственную
жизнь христиан, чуждую всего суетного (гл. 11) и основанную на единомыслии
и согласии с верою (гл. 26 и 32), оценив по достоинству целомудрие и возвышенный
характер христианских женщин (гл. 33 и 34) и особенно был поражен готовностью
христиан бестрепетно умирать за свои религиозные убеждения (гл. 4). Все это
вместе взятое убедило его в превосходстве христианства перед язычеством, и
он обратился к «варварской мудрости» христианства, по всей вероятности, в том
же Риме, где в нем особенно сильно назрела нужда в новой лучшей религии. В
Риме Татиан познакомился с св. Иустином, сделался его учеником (свт. Ириней
Лионский. «Против ересей», I, 28), вошел с ним в особенно близкие отношения
и вместе с ним терпел одинаковые преследования от их общего врага, философа
Кресцента («Речь против эллинов», гл. 19). По примеру своего учителя, он также
сделался проповедником и защитником христианства. Есть основание думать, что
он преемствовал Иустину в должности учителя в основанной последним в Риме богословской
школе; по крайней мере, известно, что Родон, один из христианских писателей,
учился в Риме у Татиана (Евсевий. «Церковная История», V, 13).
После мученической смерти Иустина Татиан удалился на Восток, в Сирию, и здесь
увлекся гностицизмом. О дальнейшей его судьбе нет никаких известий. Время его
смерти предположительно определяется 175 годом.
Из многих сочинений, приписываемых Татиану Евсевием, Иеронимом и Климентом
Александрийским, до нашего времени дошла одна только, бесспорно принадлежащая
ему, написанная в православный период его жизни, апология под заглавием «Речь
против эллинов». В ней апологет доказывает превосходство христианства перед
язычеством по веро- и нравоучению и по степени древности происхождения, причем
о христианстве говорит кратко, тогда как о ненормальностях язычества трактует
очень подробно, так что в ней полемический элемент значительно преобладает
над апологетическим. К особенностям этого труда Татиана относятся крайняя несистематичность
изложения и слишком беспощадная критика язычества, в том числе и языческой
философии, к которой его предшественник и учитель относился с большим уважением,
находя в ней проблески Божественной истины. Резкость и односторонность суждений
Татиана объясняется его восточным увлекающимся темпераментом.
Речь против эллинов
Не будьте, эллины, враждебно расположены к варварам [1] и не питайте ненависти к их учению. Ибо, какое из ваших учреждений получило начало не от варваров? Астрономию изобрели вавилоняне, магию — персы, геометрию — египтяне, письмена — финикияне. Тосканцы изобрели пластику; летописи египтян научили вас составлению историй. Тирренцы изобрели игру на трубе, писать письма выдумала, по свидетельству Гелланика, женщина, некогда бывшая царицею персов, которой имя было Атосса (гл. 1).
Что хорошего приобрели вы от философствования? Аристипп, ходивший в пурпурной одежде, согласно своему убеждению, вел распутную жизнь. Аристотель, который неразумно положил предел Провидению и ограничил счастье теми предметами, которые ему нравились вопреки долгу наставника, слишком льстил Александру, забывши, что он еще юноша. По учению Аристотеля, не могут быть счастливы те, которые не имеют ни красоты, ни богатства, ни здоровья телесного, ни знатности (гл. 2). Нечего также слушать и Зенона, который учит, что Бог есть виновник зла и пребывает в нечистых местах, в червях и в делающих непотребное. Посему не должны привлекать вас торжественные собрания философов, которые вовсе не философы, которые противоречат сами себе и болтают, что каждому придет на ум (гл. 3).
Зачем вы, эллины, хотите возбудить против нас общественные власти? За что я подвергаюсь ненависти, как самый преступный человек, если не хочу пользоваться учреждениями некоторых? Велит ли царь платить подати? Я готов. Велит ли господин служить и повиноваться? Я признаю себя рабом. Ибо человека нужно почитать по-человечески, но бояться должно только Бога, Которого нельзя видеть человеческими глазами и выразить никаким искусством. Если мне велят отвергнуться Его, в этом только не послушаюсь и скорее умру, чем покажу себя лжецом и неблагодарным. Бог наш не получил начала во времени, потому что Он один безначален и Сам есть начало всего. «Бог есть Дух» (Ин. 4, 24) не живущий в материи [2], но Создатель вещественных духов и форм материальных. Он невидим и неосязаем, ибо Он Сам виновник вещей чувственных и вещей невидимых. Его мы познаем через творение Его, и невидимое могущество Его постигаем через дела Его. Не хочу поклоняться творению, созданному Им для нас. Как я признаю за богов деревья и камни? Кроме того, мы не должны умилостивлять неизъяснимого Бога посредством каких-либо даров, ибо Он ни в чем не нуждается и потому не должен быть нами преклоняем, как нуждающийся (гл. 4).
Бог был в начале: а начало есть, как мы приняли, разумная сила [3].
Поскольку же Он есть сила и основание видимого и невидимого, то вместе с Ним
было все; с Ним существовало, как разумная сила, и Само Слово, бывшее в Нем.
Оно, как мы знаем, есть начало мира. Родилось же оно через сообщение, а не
через отсечение. Ибо, что отсечено, то отделяется от первоначала. А что произошло
через сообщение и приняло свободное служение, то не уменьшает того, от кого
произошло. Как от одного факела зажигается много огней, и притом свет первого
факела не уменьшается от зажжения многих факелов: так и Слово, происшедшее
от могущества Отца, не лишило Родителя Слова. Вот и я говорю, а вы слушаете,
но от передачи слова я беседующий не лишаюсь слова, но, произнося звуки, я
хочу привести у вас в порядок ту материю, которая прежде была без порядка.
Слово, в начале рожденное, в свою очередь произвело наш мир, создавши Само
Себе вещество. Материя не безначальна, как Бог, и не имеет власти равной с
Богом, как безначальная; но она получила начало и не от кого-нибудь другого
произошла, а произведена единым Творцом всего (гл. 5).
Посему мы веруем, что по окончании всего будет воскресение тел
— не так, как учат стоики, по мнению которых после некоторых периодов времени
одни и те же существа всегда являются и погибают без всякой пользы, — но однажды,
по исполнении наших веков, и единственно ради восстановления одних человеков
для суда. Суд же производят над нами не Минос, не Радамант, но Сам Бог Творец
будет судьею. Мы веруем вследствие вот каких оснований. Как я, не имевший прежде
бытия, родился, таким же точно образом я родившийся, через смерть переставая
существовать и быть видимым, опять буду существовать, по подобию того, как
некогда меня не было, а потом родился. Пусть огонь истребит мое тело, пусть
погибну в реках или морях, пусть буду растерзан зверями, но я сокроюсь в сокровищнице
богатого Господа. Бог, когда захочет, восстановит в прежнее состояние сущность,
которая видима для Него одного (гл. 6).
Небесное Слово, по примеру Отца, родившего Его, сотворило человека
— во образ бессмертия, дабы как Бог бессмертен, так и человек, получивший причастие
божества, имел также и бессмертие. Впрочем Слово, прежде сотворения человеков,
создало ангелов. Тот и другой вид творения создан свободным и не по естеству
добрым, ибо это принадлежит одному Богу, а люди могут делаться добрыми по свободному
определению своей воли; так что нечестивый по справедливости будет наказан,
потому что сделался худым через себя, а праведник по достоинству получит похвалу
за добрые дела, потому что он по свободе своей не преступал воли Божией. Поэтому,
когда люди последовали одному (ангелу), который по своему первородству был
мудрее прочих, и приняли его за Бога, хотя он восстал против закона Божия,
то могущество Слова отлучило от общения с Собою как начальника безумия, так
и последователей его. Вследствие этого сотворенный по образу Божию, оставляется
высшим духов [4] и делается смертным, а тот первородный за свое
преступление и безрассудство стал демоном; вместе с ним и те, которые подражали
ему и увлеклись его мечтаниями, составили полк демонов и по причине свободной
воли преданы своему безумию (гл. 7).
Эти последние сделали людей жертвою своего отступничества. Они,
показавши людям порядок расположения звезд, ввели судьбу, которая чужда справедливости,
ибо судья ли кто или подсудимый, такими сделались по определению судьбы; убийцы
и убиваемые, богачи и бедняки — порождения той же судьбы (гл. 8). Гневлив ли
кто или терпелив, воздержан или невоздержан, богат или беден кто, таким бывает
от назначения тех, которые располагают рождением; ибо распределение Зодиака
есть дело богов. Но мы выше судьбы, и вместо блуждающих демонов знаем одного
Господа неизменного; и не подчиняясь судьбе отвергаем и ее законоположителей.
Скажи мне, ради Бога, каким образом связанный и изгнанный из своего царства
Кронос поставляется распорядителем судьбы? Как дарит царства он, который сам
уже не царствует? (гл.9).
Зачем мне почитать богов, которые любят дары и сердятся, если
не получают их? Пусть они управляют судьбой, я не хочу покланяться блуждающим
звездам. Каким образом Антиной, красивый юноша, по смерти помещен на луне?
Кто возвел его туда? Зачем вы святотатствуете в отношении к Богу? Зачем обезображиваете
Его творение? Ты закалаешь овна и ему же поклоняешься; телец есть на небе,
а ты убиваешь подобного ему (на земле). Так называемый Евгонасий (Геркулес)
подавляет вредное животное, и удостаивается чести орел, пожирающий Прометея,
создателя человека. Хорош Цикн, хороши сыновья Зевса (Кастор и Поллукс), похитители
дочерей Левкиппа (гл. 10).
Итак, каким образом я могу допустить рождение по судьбе, когда
вижу таких ее распорядителей? Не хочу царствовать, не желаю быть богатым, отказываюсь
от военачальства, ненавижу блуд; не замышляю плавать на корабле ради ненасытной
жадности, не вступаю в борьбу для получения венцов; я свободен от безумного
честолюбия, презираю смерть, я выше всякого рода болезни, печаль не снедает
моей души. Если я раб, сношу рабство; если свободен, не хвастаюсь благородством
своим. Я вижу, что одно и то же солнце для всех, что одна смерть постигает
всех, живет ли кто в удовольствиях или в бедности. Богатый сеет и бедный пользуется
тем же посевом. Богачи умирают, такой же исход жизни имеют и нищие. Богатые
нуждаются в очень многом, хотя пользуются доверенностью и честью; а бедный
и умеренный легче достигает того, чего он желает для себя. Что за судьба, что
ты умираешь всякий раз, как предаешься похотям? Умри для мира, отвергнув его
безумие; живи же для Бога, и познав Его, отвергни древнее рождение. Мы сотворены
не для того, чтобы умирать, но умираем по своей вине, свободная воля погубила
нас; бывши свободными, мы сделались рабами, продали себя через грех. Богом
ничего худого не сотворено, — мы сами произвели зло; а кто произвел его, может
снова отвергнуть его (гл. 11).
Мы знаем два вида духов, из которых один называется душою, а
другой выше души и есть образ и подобие Божие. Тот и другой дух находятся в
первых человеках, так что они с одной стороны состояли из вещества, а с другой
были выше его. Подобным образом и мир, заключающий в себе более или менее прекрасные
произведения могущества Творца, по воле Его получил вещественный дух [5].
Итак, демоны, которые составлены из вещества и получили от него дух, сделались
невоздержными и безнравственными. Им-то вы, эллины, поклоняетесь, — существам,
которые произошли из материи и уклонились от надлежащего порядка. Они в своем
безумии увлеклись гордостью и, возмутившись, покусились восхитить себе божество.
Господь же всего попустил быть им в обольщении до тех пор пока мир окончится
разрушением, придет Судия, и все люди, которые, несмотря на препятствия от
демонов, стремились к познанию совершенного Бога, в день суда получать полнейшую
похвалу за свои подвиги. Стремитесь к нам желающие научиться, ибо не рассчитываем
ни на красноречие, ни на вероятные доказательства, ни на софистические извороты,
но пользуемся словами Божественного происхождения (гл. 12).
Душа сама по себе не бессмертна, эллины, но смертна. Впрочем,
она может и не умирать. Душа, не знающая истины, умирает и разрушается вместе
с телом, а после при конце мира воскресает вместе с телом, и получает смерть
через нескончаемые наказания. Но если она просвещена познанием Бога, то не
умирает, хотя и разрушется на время. В начале дух обитал вместе с душою, но
потом оставил ее, потому что она не захотела следовать ему. Хотя она удержала
в себе некоторые искры могущества его, но отделившись от него, не могла созерцать
высших вещей; ища Бога, она, по заблуждению, вымыслила многих богов, последуя
ухищрениям демонов (гл. 13).
Таковы и вы, эллины; вы признали владычество многих, а не Одного,
и решались последовать демонам, как будто они могущественны. Им не легко умереть,
потому что не имеют плоти; но они, живя, творят дела смерти, и сами умирают
всякий раз, как научают греху своих последователей. И то, что в настоящее время
составляет их преимущество, именно, что они не умирают подобно людям, останется
с ними и тогда, когда будут подвергнуты мучениям: они не будут причастниками
вечной жизни, и вместо смерти не получат блаженного бессмертия (гл. 14).
Итак, нам должно теперь искать снова то, что потеряли, соединить
душу свою со Святым Духом и вступить в союз с Богом. Человек есть образ и подобие
Божие. Следует сказать о том, в чем состоит образ и подобие Божие. Что не может
быть сравниваемо, то ничто иное есть, как само сущее, а что сравнивается, т.е.
только подобие. Совершенный Бог бесплотен, а человек есть плоть. Душа есть
связь плоти, а плоть есть вместилище души. Если существо, так составленное,
будет держать себя наподобие храма, то Бог благоволит обитать в нем через духа,
Им посылаемого. Если же храмина человека не такова, то он будет превосходить
животных только членораздельными звуками, а во всем прочем образ жизни его
будет такой же, как у них, и он не есть уже подобие Божие. Вещество хотело
владычествовать над душею, и демоны по своей свободе передали людям законы
смерти; люди же, после утраты бессмертия, смертью через веру [6] победили
смерть, и через покаяние им дано такое название, какое приписывает слово: «немного
они умалены пред ангелами» (Пс. 8, 5). Кто побежден, опять может победить,
если устранить причину смерти (гл. 15).
Мы не безумствуем, эллины, и не вздор говорим, когда проповедуем, что Бог родился в образе человека. Вы порицаете нас, но сравните свои басни с нашими рассказами. Аполлон фиговолосый в угождение Адмету пас кривоногих быков. Прометей, прибитый к Кавказу, понес наказание за свое благодеяние, оказанное людям. Зевс, по-вашему, завистлив. Посему, в виду ваших собственных сказаний, принимайте нас, по крайней мере, как передаются сказания, подобные вашим. Но мы не имеем ничего нелепого, а ваши рассказы — чистый вздор. Если вы говорите о рождении богов, то этим признаете их смертными. Послушайтесь меня, эллины, и не объясняйте иносказательно ни басен, ни богов ваших. Допустивши это, вы уничтожите своих богов. Ваши боги или нечестивы, если они таковы, какими представляете их, или если обратить их в естественные явления, они уже не то, что говорите. Но я говорил это только условно, а в самом деле наше познание о Боге неприлично сравнивать с мнениями тех, которые погрузились в вещество и нечистоту (гл. 21).
И какие у вас учреждения? Я не раз видел одного человека, и
при виде его удивлялся, а потом чувствовал презрение, потому что он по наружности
представлял ложно то, чего нет у него внутри. Он один являлся обличителем всех
богов, представителем суеверия, порицателем геройских подвигов, изобразителем
убийств, наставником блуда и корыстолюбия, учителем разврата, и при всем том
его хвалят. Но я отверг всю ложь его, его нечестие, его занятия и, наконец,
самого этого человека. А вас увлекают подобные люди, и вы порицаете тех, которые
не разделяют ваших чувств. Хороши у вас аудитории, где рассказываются срамные
дела ночные, где услаждают слушателей произношением гнусных речей (гл. 22).
Я видел людей, которые озабочены упражнением тела: им предлагают
награды и венцы, их вызывают учредители игр, — не к прекрасному подвигу, но
к тому, чтобы затеять спор и ссору, и кто сильнее дерется, тот получает венец.
И это еще меньшее из зол, а о больших кто может говорить без возмущения? Некоторые,
предавшись праздности, из-за мотовства продают себя на смерть: бедный продает
себя, — богатый покупает убийц. Вы убиваете животных, чтобы есть мясо, и покупаете
людей, чтобы доставить душе пищу из человеческого тела и питаете ее самым безбожным
пролитием крови (гл. 23).
Что удивительного и великого делают ваши философы? Они отпускают
длинные волосы, отращивают бороду, носят звериные когти; они говорят, что ни
в чем не нуждаются; но, как Протей, нуждаются в кожевнике для сумы, в портном
для одежды, в дровосеке для палки, в богачах и в поваре для своей прожорливости.
Некоторые говорят, что Бог есть тело, а я говорю, что Он бестелесен; говорят,
что мир неразрушим, а я утверждаю, что разрушится; говорят, что сожжение мира
бывает в разные времена, а я говорю, что это будет один раз; бессмертье приписывают
одной душе, а я и телу вместе с душою. Чем мы вредим вам, эллины? Почему вы
ненавидите, как самых отъявленных злодеев, тех, которые следуют слову Божию?
Мы не едим человеческого мяса: вы лжесвидетельствуете, когда говорите так;
а у вас Пелонс делается ужином для богов, хотя был любимцем Посейдона; Кронос
пожирает детей и поглощает Митиса (гл. 25).
Зачем вы присваиваете мудрость только себе, тогда как вы не
имеете ни другого солнца, ни другого восхода звезд, ни лучшего происхождения,
ни даже смерти, отличной от других людей? Бога же вы не знаете. Поэтому вы
ничто; ваши действия несообразны с разумом. Посему-то, когда мы узнали, что
вы таковы, — мы оставили вас, и уже не трогаем вашего, но следуем слову Божию (гл.
26).
Не нелепо ли, что нас ненавидят без всякого исследования и по
несправедливому предубеждению, тогда как разбойника не наказывают по одному
только обвинению, прежде чем тщательно исследуется справедливость его (гл. 27).
Мы отделились от общепринятого и земного учения, мы повинуемся
заповедям Божиим, следуем закону Отца нетления и отвергли мнения человеческие;
не одни богатые у нас философствуют, но и бедные даром пользуются учением;
ибо все, что исходит от Бога, так высоко, что нельзя заплатить за них дарами
мирскими. Мы допускаем всех, кто хочет слушать, будет ли он старик или юноша;
и всякому вообще возрасту у нас отдается честь; впрочем, распутство от нас
далеко. Вы смеетесь, но некогда восплачете. Не глупо ли, что вы удивляетесь
Нестору, который усиливается сравняться с юношами в битвах, тогда как он с
трудом отсекает по старческой слабости упряжку коней; а смеетесь над теми,
которые у нас борются со старостью и размышляют о делах божественных? Кто не
будет смеяться над вами, когда вы говорите об амазонках, Семирамиде и других
воинственных женщинах, а наших девиц порицаете? (гл. 32).
Послушайте, до чего доходит пустота у эллинов, — вы, которые
говорите, что мы занимаемся пустяками среди женщин и юношей, среди девиц и
старух, и насмехаетесь над нами за то, что мы не с вами. Произведения искусств
заключают в себе много вздора, хотя уважают их более богов ваших; относительно
женщин вы ведете себя непристойно. Что за прекрасное учение произвела вам Главкиппа,
родившая чудовище, как показывает ее медная статуя, сделанная Никератом афинянином,
сыном Авктемона? Пракситель и Геродот сделали вам статую распутной Фрины, а
Эвтикрат — Пантевхиды, сделавшейся беременной от прелюбодея. Геродот Олинфский
изобразил Гликеру, блудницу и Аргосскую музыкантшу. Вриаксис поставил статую
Пазифее; воспоминая ее распутство, вы едва не желаете, чтобы и ныне были подобные
женщины. Сапфо была блудница, бесстыдная женщина, и сама воспевала свое распутство;
а у нас все женщины целомудренны, и девицы, сидящие за прялками, поют божественные
песни гораздо лучше, чем эта девица ваша. Посему вы должны стыдиться того,
что вы ученики презренных женщин, а смеетесь над женщинами, преданными нашему
учению, и над общественными собраниями, которые они посещают (гл. 33).
Думаю, что теперь кстати доказать, что наша философия древнее
учений эллинских. Пределами у нас будут Моисей и Гомер, потому что они оба
жили в древнейшие времена; последний древнее всех поэтов и историков, а первый
— родоначальник всей мудрости у варваров. Итак, возьмем их для сравнения, и
мы найдем, что наше учение древнее не только образованности эллинов, но и самого
изобретения письмен. Самое раннее время жизни Гомера, по Кратесу, определяется
спустя 80 лет после взятия Трои, а самое позднее — в пятисотых годах по взятии
Трои (гл. 31).
Пусть даже Гомер был не позже троянской войны, а современником
ее; пусть думают, что он жил прежде изобретения букв. Окажется, что вышеупомянутый
Моисей на много лет древнее взятия Трои и времен Троя и Дардана (гл. 36). Египетский
историк Птоломей говорит, что иудеи при царе египетском Амазисе вышли из Египта
под предводительством Моисея в те страны, которые они заняли. По словам его,
Амазис был современником царя Инаха; а время, которое протекло от Инаха до
разрушения Трои, заключает в себе двадцать поколений (400 лет) (гл. 38).
Итак, из сказанного видно, что Моисей жил ранее древних героев
и войн. Поскольку же он древнее по времени, то ему должно верить более, нежели
эллинам, которые, не признавая этого, заимствовали у него учения (гл. 40).
1. Всем нациям, исключая греческую.
2. Этим
не отрицается вездеприсутствие Божие, но опровергается пантеистическое учение
стоиков, что Божество разлито
во всех явлениях природы.
3. Два употребленные подряд слова «начало» имеют различный смысл: первое означает, что Бог существовал прежде сотворения мира, а второе указывает на то, что Бог есть начало бытия.
4. Т.е.
духом, как высшим началом души, которое есть образ и подобие Божие.
5. Жизненный
дух, который находится в разной степени во всех тварях.
6. В
истинного Бога, ради Которого верующий умирает для мира и греха.
Афинагор
Об Афинагоре, одном из лучших апологетов II века, оставившем нам два образцовых
по содержанию и стилю литературных произведения, сохранились самые скудные
биографические сведения. Ни Евсевий Памфил, ни блаж. Иероним, ни патр. Фотий,
усердно собиравшие сведения о всех церковных писателях древности, в своих знаменитых
трудах [1] ни разу не упоминают имени Афинагора. Единственными источниками,
знакомящими нас с Афинагором, являются — цитата свт. Мефодия, еп. Патарского
(† 311-312),
отрывок из церковной истории Филиппа Сидета (V в.), надписания к сочинениям
Афинагора и адрес его апологии, но эти источники дают слишком мало сведений
об Афинагоре, а показания Филиппа Сидета, кроме того, не все отличаются достоверностью.
Свт. Мефодий в своем сочинении «О воскресении» [2] дословно, с незначительными
лишь изменениями отдельных выражений, цитует трактат о диаволе из 24 главы
апологии Афинагора, не скрывая и источника заимствования, как это видно из
его фразы: «подобно тому, как и у Афинагора сказано». Буквальное сходство между
трактатами свт. Мефодия и Афинагора показывает, что свт. Мефодий имел под руками
апологию Афинагора и пользовался ею, а это в свою очередь свидетельствует о
том, что сочинения Афинагора в конце третьего века были известны, если не всей
христианской церкви, то, по крайней мере, церквам Малой Азии, откуда был родом
свт. Мефодий и где он проходил свое епископское служение в г. Патаре и Олимпе
(в Ликии). Кроме общего факта известности Афинагора в Малой Азии, цитата свт.
Мефодия больше ничего не дает.
Свидетельство Филиппа Сидета много полнее и носит вид краткой биографии Афинагора:
здесь говорится о языческих философских убеждениях Афинагора, о пути, каким
он пришел к христианству, об его просветительской и апологетической деятельности.
В одном из сохранившихся отрывков «Христианской Истории» Филиппа Сидета, читаем:
«Александрийским училищем первый управлял Афинагор, славившийся во время Адриана
и Антонина, которым он и представил прошение за христиан, — муж, исповедовавший
христианство в тоге философа и бывший начальником академической [3] школы.
В намерении писать против христиан еще прежде Цельса, он обратился к Св. Писанию,
чтобы
вернее бороться, но так был пленен благодатию Святого Духа, что, подобно великому
Павлу, вместо преследователя сделался учителем той веры, которую преследовал.
Учеником его был Климент, автор «Стромат», а учеником этого Климента был Пантен
(слово 44).
Если бы весь труд Филиппа Сидета не так низко ценился в древности, как это
можно видеть из неблагоприятных отзывов о нем церковного историка Сократа («Церковная
История» VII, 27) и патр. Фотия («Библиотека», XXXV), если бы и в данном отрывке
в немногих словах не заключалось много исторических погрешностей, например,
Афинагор считается первым катехетом (наставником) александрийской школы, говорится,
что апология его была подана Адриану и Антонину, а не Марку Аврелию и Коммоду,
и наконец, Пантен считается учеником Климента, а не наоборот, то тогда свидетельство
Филиппа имело бы громадную важность, как единственное обстоятельное сообщение
об Афинагоре. Но и при настоящих условиях оно имеет некоторую цену, потому
что в нем есть и бесспорно достоверные сведения об Афинагоре, и такие, которые
очень правдоподобны, а ошибочные мнения Филиппа можно объяснить свойством того
источника, с которым он имел дело, и слабостью критических приемов у него самого.
Так, название Афинагора Философом, а его апологии «прошением за христиан»,
относится к числу несомненно достоверных, как вполне согласное с надписанием
сочинений Афинагора. Характер правдоподобия носят сообщения Филиппа Сидета
о способе обращения Афинагора в христианство и об его учительствовании в Александрии.
Нет ничего удивительного, если Афинагор обратился в христианство после знакомства
с книгами Св. Писания, как это известно и относительно других апологетов. Равным
образом, можно допустить, что он имел богословскую школу в Александрии. Философы,
и по обращении в христианство, имели обыкновение собирать около себя учеников
и составлять нечто в роде школы. Такая школа была у Аристида в Афинах, а у
св. Иустина в Риме. Ошибка Филиппа Сидета заключается в том, что он частную
школу Афинагора смешал с «училищем святых словес» и приписал Афинагору наставничество
в этом последнем. Также смешал он и порядок мнимого основателя главной александрийской
богословской школы, во главе ее, а Климента раньше Пантена. Возможность подобных
ошибок у Филиппа Сидета объясняется, с одной стороны, некритическим отношением
к собранным сведениям, за что его укоряет Сократ, а главное, тем, что он черпал
их из источника, который имеет свойство, сохранивши общий факт, не сохранять
или видоизменять частности. Сведения об Афинагоре Филипп Сидет заимствовал,
очевидно, не из письменных документов, так как иначе о них знал бы Евсевий,
собиратель и знаток церковной письменности, или другие писатели, продолжавшие
и восполнявшие его труд, а из устного предания. Скорее всего, это было предание
церквей малоазиатских или тесно связанной с ними церкви галльской. Так как
в этих церквах гонение на христиан сильнее всего разразилось в царствовании
Марка Аврелия, то, естественно, они преимущественно перед другими сохранили
память об Афинагоре, который явился их защитником перед этим императором. С
таким предположением согласно и то, что более раннее свидетельство об Афинагоре,
находящееся у свт. Мефодия Патарского, также исходит из Малой Азии. Наконец,
Филипп Сидет, как уроженец малоазиатского города Сиды (в Памфилии), мог быть
хорошо осведомлен о предании своей родной страны и сообщил в своей «Истории»
те сведения об Афинагоре, которые оно в течение веков собирало и сохраняло,
как благодарную память о дорогом человеке.
Последним источником наших сведений об Афинагоре служат написания его сочинений
и адрес апологии. Из них мы узнаем, что Афинагор был афинянин, христианский
философ, и подал свою апологию императорам Марку Аврелию и Коммоду.
От Афинагора осталось два сочинения — апология под названием «Прошение о христианах»
и трактат «О воскресении мертвых».
1. «Церковная История» Евсевия; «Каталог» Иеронима;
«Библиотека» Фотия.
2. Сохранившемся
в отрывках у св. Епифания («Против ересей», кн. II) и Фотия.
3. Т.е. платонической.
Афинагора
Афинянина философа христианского прошение о христианах
«Марку Аврелию Антонину и Люцию Аврелию Коммоду.
Великие государи! В вашей империи народы держатся разных обычаев и законов,
и никому из них не возбраняется законом и страхом наказания следовать отечественным
постановлениям, как бы ни были они смешны. Только нам, называющимся христианами,
вы не оказываете вашего внимания, и даже позволяете гнать, притеснять и мучить
нас, и все это за одно имя, которое вооружает против нас толпу (гл. 1).
Конечно, если кто обличит нас в великом или малом преступлении, мы не просим
избавить нас от наказания, но признаем справедливым нести наказание, как бы
ни было оно сильно и жестоко. Но если обвинение основывается на одном имени,
то долг ваш, величайшие, человеколюбивые и мудрейшие государи, законом оградить
нас от обид. Имя само по себе не считается ни хорошим, ни худым, а оказывается
дурным или добрым по худым или добрым делам, которые подразумеваются под ним
(гл. 2).
Нас обвиняют [1] в трех преступлениях: в безбожии, в ядении человеческого
мяса, подобно Тиесту, в гнусных кровосмешениях Эдиповских (гл. 3).
Буду отвечать на каждое из обвинений. Что касается обвинения в безбожии, напрасно
на нас возводимого, то наше учение признает единого Бога, творца этой вселенной,
Который Сам не сотворен, ибо сущее не получает бытие, а только не сущее, —
но все сотворил» (гл. 4).
Несправедливость обвинения христиан в безбожии, при содержании ими такого
учения, Афинагор доказывает многочисленными доводами.
Во-первых, он указывает на то, что многие поэты и философы, как Эфрипид, Софокл,
Филолай, Лисий, Опсим, Платон и Аристотель, также учили о едином Боге и не
казались безбожниками (гл. 5-6).
«Итак, — говорит Афинагор, — если все вникавшие в начало вселенной, хотя по
большей части, невольно согласны в том, что божество едино; если и мы признаем
Богом того, кто устроил этот мир, то почему же тем позволено безнаказанно говорить
и писать о божестве, что хотят, а нам запрещено это законом, хотя мы можем
подтвердить истинными свидетельствами и доказательствами то, что мы думаем
и во что правильно веруем, именно, что Бог один. Поэты и философы догадочно
касались этого предмета, потому что думали приобрести познание о Боге не от
Бога, а каждый сам собою: посему каждый из них различно учил и о Боге, и о
материи, и о формах, и о мире. А что мы знаем и во что веруем, в том имеем
свидетелями пророков, которые по вдохновению от божественного Духа возвещали
и о Боге и о вещах божественных» (гл. 7).
Во-вторых, Афинагор указывает, что и разум требует признания единобожия. «Что
от начала один есть Бог Творец всего, это вы увидите из следующих соображений,
которые составляют разумное оправдание нашей веры. Если от начала было два
бога или многие, то они находились или в одном и том же месте, или каждый в
своем собственном. Но в одном и том же месте быть они не могли. Бог Творец
мира находится выше сотворенного и окрест всего, что Он сотворил и устроил,
то где будет другой бог, где прочие? Выше мира и Бога? В другом мире или окрест
другого? Но если в другом мире или около него: то он уже не около нас, ибо
он не владычествует над миром, и сам не велик могуществом, ибо он пребывает
в ограниченном месте. Если же этого места нет и в другом мире, ибо Бог Творец
все наполняет, ни окрест другого, ибо все Им объемлется: то и его самого нет,
как нет места, в котором бы он обитал. И что делает Он, когда есть другой Бог,
Которому принадлежит этот мир? Промышляет ли он? Если не промышляет, то ничего
не сотворил. Если же он ничего не творил и не промышляет; если нет никакого
другого места, где бы он находился, то есть только этот изначальный и единый
Бог Творец мира» (гл. 18).
Просвещенным императорам, которым могли быть знакомы повсюду распространенные
тогда книги Св. Писания, Афинагор считал возможным утвердить истину единоверия
и на пророческом авторитете. Для этого он указывает на свидетельство Моисея
(Исх. 20, 2-3) и Исайи (Ис. 44, 6; 43, 10-11; 71, 1), которыми исключается
всякая возможность признания других богов, кроме истинного Бога (гл. 9).
Доказавши ссылками на авторитет поэтов, философов и на требование разума,
что христиане не безбожники, когда содержат учение о едином Боге, Афинагор,
далее, через раскрытие христианского учения о Боге Троичном в Лицах, Творце
и Промыслителе мира, доказывает, что этот непонятный для язычников единый Бог
не есть отвлеченная идея, абстракция, но живое Существо, находящееся в близких
отношениях к миру. «Мы, — говорит он, — также признаем и Сына Божия: и никому
да не покажется смешным, что у Бога есть Сын. Сын Божий есть Слово Отца, как
Его идея и как действенная сила, ибо по Нему и через Него все сотворено, потому
что Отец и Сын суть одно. А так как Сын в Отце и Отец в Сыне, по единству и
силе духа, то Сын Божий — ум и слово Отца. Он есть первое рождение Отца, не
так, чтобы оно получило бытие во времени, — ибо Бог, как вечный ум и вечно
словесное (logicoz) существо, искони имел в Себе Самом слово (logicoz) но Он
произошел от Него для того, чтобы быть идеею и действенною силою для всех материальных
вещей, которые находились в виде бескачественной природы и недейственной земли,
— легчайшие частицы были смешаны с тяжелейшими. Наши слова подтверждает и Дух
пророчественный: «Господь создал Меня как начало путей Своих в дела Свои» (Притч.
8, 22). Утверждаем, что и этот самый Дух Святой, действующий в пророках, исходит
от Бога, подобно лучу солнечному, истекая из Него, и возвращаясь к Нему. Итак,
кто после сего не удивится, услышав, что называют безбожниками тех, которые
исповедуют Бога Отца и Бога Сына и Духа Святого и признают их единство в силе
и различие в порядке? Впрочем, этим не ограничивается наше богословское учение:
но мы признаем и множество ангелов и служителей, которых Творец и Зиждитель
мира Бог через Свое Слово поставил и распределил управлять стихиями, и небесами,
и миром, и всем, что в нем, и благоустройством их» (гл. 10).
Доказательство, что христиане не безбожники, Афинагор видит не только в их
возвышенном учении об истинном Боге, но и в их нравоучении. «И самыми правилами,
которыми мы руководствуемся, правилами, которые не от человека происходят,
но изречены и преподаны Богом, мы можем убедить не почитать нас за безбожников.
Какие же это правила, в которых мы воспитываемся? «Говорю вам: любите врагов
ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за гонящих вас; да будете
сынами Отца вашего, Который на небесах, Который повелевает солнцу Своему восходить
над злыми и благими и посылает дождь на праведных и на неправедных» (Лк. 6,
27-28; Мф. 5, 44-45). У нас вы найдете людей необразованных, ремесленников
и стариц, которые не ударяют, когда их бьют; не жалуются на суде, когда отнимают
у них имение; подают нуждающимся, и любят ближнего, как самих себя. Стали ли
бы мы соблюдать себя в такой чистоте, если бы мы не признавали, что Бог бодрствует
над человеческим родом? Конечно, нет. Но так как мы веруем, что отдадим отчет
во всей настоящей жизни Богу, сотворившему и нас, и мир, то мы избираем жизнь
воздержную, человеколюбивую и уничиженную, — зная, что здесь не можем потерпеть,
хотя бы нас лишали жизни, никакого зла, которое бы сравнялось с благами, нам
уготованными там от Великого Судии за кроткую, человеколюбивую и скромную жизнь»
(гл. 11-12).
Так как обвинение христиан в безбожии основывалось главным образом на том,
что они не признают языческих богов и не приносят им жертв, то Афинагор доказывает,
что и с этой точки зрения христиане не безбожники, так как они, при почитании
истинного Бога, отказываются почитать только богов ложных и несуществующих.
«Так как многие из обвиняющих нас в безбожии измеряют благочестие числом жертв,
и обвиняют нас в том, что мы не признаем тех же богов, каких чтут ваши города:
то прошу вас, самодержцы, обратите внимание на два предмета, и, во-первых,
на то, почему мы не приносим жертв. Создатель вселенной и Отец не имеет нужды
ни в крови, ни в дыме, ни в благоухании цветов и курений, будучи Сам совершеннейшее
благоухание и не имея недостатка ни в чем внутри или вне. Если мы, признавая
Бога Создателем, Который все содержит и наблюдает ведением и всеуправляющею
мудростью, воздеваем к небу чистые руки: то какие еще нужно Ему жертвоприношения?
Что мне всесожжения, в которых Бог не нуждается? Ему нужно приносить жертву
бескровную и служение разумное (гл. 13).
А что мы не признаем и не чтим тех богов, каких чтут ваши города, — это упрек
совершенно безрассудный. Сами те, которые обвиняют нас в безбожии за то, что
мы не почитаем тех богов, которых они признают, не согласны между собою касательно
богов. Если же сами они разногласят между собою касательно своих богов, то
зачем обвиняют нас, что мы не согласны с ними? (гл. 14).
Но пусть они почитают одних и тех же богов. Что же? Если многие, не умея различить,
что такое вещество и что такое Бог, и какое между ними различие, поклоняются
сделанным из вещества идолам: то неужели для них и мы, которые отделяем и различаем
безначальное и происшедшее, сущее и не сущее, постигаемое умом и воспринимаемое
чувством, и каждому из этих предметов даем приличное название, неужели и мы
станем поклоняться идолам? Если бы мы те или другие виды вещества принимали
за богов, то мы оказались бы не имеющими никакого понятия о Боге истинном,
ибо в таком случае мы равняли бы с вечным разрушимое и тленное (гл. 15).
В защиту своего дела мне должно представить точные доказательства и касательно
имен богов, что они новы, и касательно изображений их, что они сделаны, так
сказать, вчера или третьего дня. Орфей, Гомер и Гезиод дали и имена и генеалогию
тем, кого называют они богами. Об этом свидетельствует и Геродот: «Я думаю,
что Гезиод и Гомер жили за четыреста лет до меня, не более: они-то составили
для эллинов теогонию, дали прозвания богам, разделили между ними почести и
искусства, и обозначали их вид» («История», II, 53). А изображения их не были
в употреблении, пока не было пластики, живописи и ваяния. Вообще время появления
изображений и статуй так недавно, что можно бы поименовать художника каждого
бога. Итак, если они боги, то почему не существовали от начала? Почему они
моложе тех, кто их сделал? Почему нужны были им люди и их искусство, чтобы
существовать? Они — земля, камни, вещество и искусная работа (гл. 17).
Но некоторые говорят, что это только изображение, а боги — те, в честь которых
сделаны эти изображения, что моления, которые обращаются к сим последним, и
жертвы относятся к богам и совершаются для них; что нет другого средства, кроме
этого, приблизиться к богам, ибо трудно видеть богов открыто, и в подтверждение
справедливости этого представляют действия некоторых идолов: поэтому исследуем,
какая сила заключается в именах богов. Обратите, прежде всего, внимание на
следующее. Не от начала, как говорят (Гомер и Орфей) боги существовали, но
каждый из них родился так же, как рождаемся и мы. А если было время, когда
они не существовали, как говорят о них повествующие о богах: то — они не боги.
Ибо безначальное вместе и вечно; а то, что получило бытие, подвержено и тлению.
И я говорю то же, что и философы (Платон, стоики; гл. 18-19).
В мифах, кроме того, говорится, что боги имеют плоть, кровь, семя, страсти
гнева и похоти, подвергаются скорби и ранам; даже и смертными оказываются,
влюбляются друг в друга, влюбляются в людей и т.д. Все эти речи нужно считать
вздором и достойными смеха. Ибо в Боге нет ни гнева, ни похоти и пожелания,
ни детородного семени; Бог не неистовствует» (как Арей; гл. 20-21).
Среди образованных язычников, особенно среди философов, давно уже (с IV в.
до Р. X.) создалось убеждение в несостоятельности мифологии, если принимать
ее сказания о богах в буквальном смысле. Поэтому в целях очищения ее от всего,
носящего чувственный, а зачастую, и зазорный характер, было придумано аллегорическое
толкование мифов, в силу чего боги сделались олицетворением сил и явлений природы.
Имея это в виду, Афинагор доказывает, что аллегорическое толкование мифов не
только не служит в пользу богов, но самым очевидным образом свидетельствует,
что эти боги не существуют.
«Но все это, может быть, — говорит он, — поэтические вымыслы, которые имеют
смысл единственный: «Зевс означает огонь, как говорит Эмпедокл, — Юнона и Плутон
жизненное начало, и слезы Нистиды — воды источников». Итак, если Юпитер — огонь,
Юнона — земля, Плутон — воздух и Нистида — вода, а огонь, вода, воздух суть
стихии: то ни один из них — не Бог, потому что их состав и происхождение из
вещества. Вещество же тленное, текучее и изменяемое нельзя считать равночестным
нерожденному и вечному, и всегда одинаковому в себе — Богу. Что же касается
тех, которые говорят, что Кронос — время, Рея — земля, которая зачинает и рождает
от Кроноса, то таким мы скажем: если Кронос есть время, то изменяется; если
он годовая перемена, то сменяется; а божество — бессмертно, неподвижно и неизменяемо.
Следовательно, Кронос не есть Бог» (гл. 22). Так как одним из важных устоев
язычества, при всей его внутренней слабости, были чудеса, приписываемые богам,
то апологет, взявший на себя труд доказать ложность языческого понятия о богах,
должен был считаться и с ними. Афинагор не отрицает факта возможности и действительности
этих чудес, но объясняет их действием демонов. «Вы, — говорит он, — может быть
спросите, каким же образом действуют некоторые из идолов, если не боги те,
которым мы воздвигаем статуи? Ибо невозможно, чтобы бездушные и неподвижные
изображения действовали сами по себе, без движущего. Что в некоторых местах
и городах, у тех или других народов бывают некоторые действия под именем идолов,
этого не отвергаем и мы; но если одни получали от них пользу, а другие вред,
мы не почитаем поэтому богами тех, которые производили то и другое. Впрочем,
тщательно исследуем, каким образом по вашему мнению действуют идолы, и кто
действует, присвояя себе их имена (гл. 22-23).
Есть дух, обращающийся около вещества, который сотворен от Бога, как и прочие
ангелы сотворены Им, и поставлен для управления веществом и его видами. Бог
сотворил ангелов для промышления о вещах, сотворенных Им, так что Богу принадлежит
всеобъемлющее и общее промышление обо всем, а промышление о частях — ангелам,
к ним приставленным. Как у людей есть свобода выбирать добро и зло, так и у
ангелов. Одни из них, свободные, какими и сотворены были от Бога, пребыли в
том, к чему Бог сотворил их и определил; а другие злоупотребили своим естеством
и предоставленною им властью. Таковы князь вещества и видов его, и другие из
тех, которые были около него, как главного, помощниками. Последние возымели
вожделение к девам и были побеждены плотью; а тот сделался небрежен и лукав
в управлении, ему вверенном. От совокупившихся с девами родились так называемые
исполины. Сии-то ангелы, ниспадшие с неба и обитающие в воздухе и на земле
и уже не могущие взойти на небо, равно и души исполинов, которые суть собственно
демоны, блуждающие вокруг мира, производят действия, одни, именно демоны, —
соответственные природе, какую они получили, а другие, именно ангелы, — тем
вожделениям, которые они возымели. Князь же вещества, как видно из самых событий,
изобретает и устрояет противное благости Божией (гл. 24-25).
Демоны привлекают язычников к идолам, ибо они привязаны к крови жертв и ею
услаждаются. Неразумные и мечтательные движения души производят видения, соединенные
с страстным влечением к вещественным изображениям. Когда нежная и удобопреклоненная
душа, неведущая и неопытная в твердом учении, чуждая истины и не постигающая
Отца и Творца вселенной, исполнится ложных о себе представлений, то обращающиеся
около вещества демоны, жаждущие жертвенного дыма и крови, обольстители людей,
— призвав себе на помощь эти увлекающие толпу обманчивые движения души, и действуя
на умы людей, внедряют в них эти видения, как бы они происходили от идолов
и статуй; и когда душа сама собою, как бессмертная, разумно движется, предузнавая
будущее или испытуя настоящее, то демоны присвоют себе эту славу» (гл. 26-27).
Афинагор не сделал вывода из последнего рассуждения, но он ясен: если в видениях
и чудесах, приписываемых богам, действуют демоны, то существование языческих
богов не доказывается и самым сильным доводом в их пользу. Значит, их совсем
нет. Для окончательного убеждения в этом язычников Афинагор приводит рассуждение
в духе Евгемеровой теории, почитающей богов простыми людьми чаще всего — царями,
обоготворенными невежественным потомством за какие-либо выдающиеся их качества
или заслуги. «Геродот и Александр, сын Филиппа, уверяют, будто они слышали
от египетских жрецов, что боги были люди (Геродот. «История», 2, 144, 156).
Их почитали происшедшими с неба первыми царями, и частью по незнанию истинного
богопочитания, частью же из благодарности к их начальствованию возводили в
богов и вместе с женами. Невероятно, чтобы жрецы, почитавшие идолов, лгали,
когда говорили, что это были люди. Также говорят и из эллинов важнейшие поэты
и историки, например, о Геракле (Гомер), об Эскулапе (Гезиод, Пиндар и Эврипид).
Говорить ли мне много о Касторе, или Полидевке, или об Амфиарее, которые, так
сказать, вчера или третьего дня родились от людей, а теперь почитаются за богов?»
(гл. 28-29).
«Итак, мы не безбожники, — заключает Афинагор, — так как признаем Бога, Творца
вселенной, и Его Слово» (гл. 30).
Покончив с обвинением в безбожии, Афинагор переходит к двум другим самым ходячим
обвинениям христиан — в распутстве, соединенном с кровосмешением, и людоедстве.
Несправедливость их он доказывает указанием на высоконравственное и гуманное
христианское учение, при содержании которого христиане не только не совершают
возводимых на них тяжких преступлений, но и не могут совершать их. Возможность
возникновения этих обвинений, в числе других мотивов, он объясняет желанием
язычников приписать христианам те безнравственные действия, которые они сами
совершают, научаемые примером своих богов. «Нас обвиняют, — говорит он, — также
в каких-то пиршествах и нечестивых смешениях, дабы казалось, что не без причины
ненавидят нас. Но согласитесь, что те, которые образцом всей жизни имеют Бога
— так, чтобы каждый из нас был перед Ним чистым и неукоризненным, — те и в
мыслях никогда не допускают ни малейшего греха. Ибо, если бы мы были убеждены,
что существует одна только настоящая жизнь на земле, то еще можно бы подозревать,
что мы служим плоти и крови, но так как мы знаем, что Бог и ночью и днем присущ
нашим мыслям и словам, и видит находящееся в нашем сердце, то мы также убеждены,
что если мы увлеклись грехом вместе с другими, нас постигнет жизнь худшая,
в огненных мучениях. Поэтому-то невероятно, чтобы мы добровольно грешили и
подвергали себя наказанию великого Судии (гл. 31).
Нисколько не удивительно, если они приписывают нам то, что говорят о своих
богах, торжествуя страсти их под именем мистерий. Только если они стали обвинять
нас в распутстве и безразличном совокуплении, то им следовало бы наперед возненавидеть
Зевса, который имел детей от матери Реи и дочери Коры и женился на собственной
сестре; или выдумавшего это Орфея, который представил Зевса более преступным
и нечестивым, чем самый Фиест; ибо последний сделал кровосмешение с дочерью
по оракульскому изречению, желая остаться царем и отмстить за себя. Мы же так
далеки от подобных преступлений, что нам не позволено даже смотреть с вожделением
(Мф. 5, 28). Итак, о тех, которые считают сладострастный взгляд за прелюбодеяние
и которые ожидают суда даже за мысли; о тех можно ли думать, что они ведут
развратную жизнь? У нас есть закон, который повелевает соблюдать величайшую
непорочность между нами самими и ближними. Поэтому, смотря по возрасту, иных
мы считаем сыновьями и дочерями, других братьями и сестрами, а престарелым
отдает честь как отцам и матерям. Кого мы называем братьями и сестрами и прочими
родственными именами, о тех мы весьма заботимся, чтобы тела их остались неповрежденными
и нерастленными (гл. 32).
И жену каждый из нас, которую он взял по установленным у нас законам, имеет
только для деторождения. Между нами найдешь даже многих и мужчин, и женщин,
которые состареваются безбрачными, надеясь теснее соединиться с Богом. Нужно
или оставаться таким, каким кто родился, или вступать в один брак, ибо второй
брак есть благовидное прелюбодеяние (Мф. 19, 9). Таковы-то наши правила, наши
нравы. Те, которые устроили торжище блудодеяния и предлагают юношам гнусные
пристанища всякого постыдного удовольствия, и даже мужчин не щадят, и всячески
оскорбляя красивейшие и благообразнейшие тела, и бесчестя сотворенную Богом
красоту — те самые обвиняют нас за то, что сознают за собою и что приписывают
своим богам, как нечто похвальное и достойное богов своих (гл. 33-34).
Итак, кто из здравомыслящих может сказать, когда таков наш образ жизни, что
мы человекоубийцы? Ибо невозможно есть человеческое мясо, не убив наперед кого-нибудь.
Первое — ложь, а насчет второго, если кто спросит их, видали ли они то, о чем
говорят: то никто не будет так бесстыден, чтобы сказать, будто он видел это.
У нас есть и слуги, от которых невозможно укрыться: однако и из них никто не
говорил такой наглой лжи на нас. Ибо тех, которые, как известно, не хотят смотреть
и на справедливо казнимого: тех кто обвинит в человекоубийстве или человекоядении?
Если мы утверждаем, что женщины, вытравливающие зародившихся младенцев, делают
человекоубийство и дадут Богу отчет за вытравливание, то как же сами станем
убивать человека? Какой же человек, верующий в воскресение, согласится сделаться
гробом тех, которые вправе воскреснуть? Невозможно, чтобы одни и те же люди
веровали в воскресение тел наших и вместе употребляли их в пищу, как недостойные
воскресения? Кто убежден, что никто не укроется от суда Божия и что самое тело
понесет наказание вместе с душою, для которой оно служило орудием неразумных
влечений и страстей, те — весьма основательно думать — будут избегать и малейшего
греха (гл. 35-36).
Вы же, государи, удостойте меня вашего царского одобрения за то, что я опроверг
клеветы и доказал наше благочестие, кротость и благонравие. Какие люди более
заслуживают получить просимое, как не мы, которые молятся за вашу власть, чтобы
сын, как требует справедливость, наследовал от отца царство, и чтобы ваша власть
более и более утверждалась и распространялась и все вам покорствовало?» (гл.
37).
1. На основании
христианского имени.
Афинагора Афинянина философа христианского о воскресении мертвых.
Христианский догмат о воскресении принадлежит к числу трудно постигаемых и
наиболее оспариваемых язычниками. Даже мысль о бессмертии души, проводимая
в мифологии и философии, разделялась не всем античным язычеством: многие думали,
что смерть есть совершенное прекращение жизни, так что душа погибает и истлевает
вместе с телом. Идея же о бессмертии человека в полном его составе была совершенно
чужда языческому сознанию. Поэтому христианское учение о воскресении людей,
с теми же телами, какие они имели при жизни на земле, казалось язычникам чистым
абсурдом. «Вечную жизнь души, — говорит Цельс, — допустить возможно. Но что
касается тел, то... тела, по выражению Гераклита, суть не более, как грязь,
и Бог не может и, конечно, не захочет определить их к вечному существованию.
Ибо это было бы противно Его разуму (Ориген. «Против Цельса», 5, 14). Невозможность
воскресения доказывалась и другими, довольно остроумными доводами. Так, например,
всегда указывалось на трудность составить цельное тело из частиц, подвергшихся
гниению и полному разрушению. Затем указывалось, что некоторые тела людей были
съедены рыбами, птицами и зверями и, следовательно, как пища, вошли в состав
их организма. Каким же образом при воскресении они могут отделиться от тел,
с которыми вошли в соединение? Еще труднее их выделить, если животные, пожравшие
людей, сами были съедены другими людьми и так же, переработавшись в пищу, вошли
в новый организм. Возможны переходы частей человеческого тела непосредственно
в другой человеческий организм, например, во время голода, или в припадке сумасшествия,
когда люди пожирают друг друга. Как же при этих условиях последует выделение
частиц тела? Если они перейдут к организму, к которому первоначально принадлежали,
то получит ущерб и окажется неполным другой организм, в котором они сделались
одною из составных частей. Если же останутся в этом последнем, то в первом
будет недочет (гл. 4).
Афинагор в своем трактате о воскресении опровергает все эти хитросплетенные
возражения и доказывает, что воскресение не только возможно, но и необходимо.
Возможность воскресения он утверждает на всеведении и всемогуществе Божием.
«Бог, — говорит он, — не может не знать природы имеющихся воскреснуть тел,
целых ли членов или их частей, не может не знать, куда поступила каждая частица
по разрушении тел и какая из стихий приняла каждую частицу, разрушившуюся и
соединившуюся с сродным себе, хотя для людей совершенно неуловимы частицы тел,
соединившиеся с сродными себе частями вселенной. Ибо Тот, Который прежде устроения
каждой вещи знал природу будущих стихий, из которых должны произойти тела человеческие,
и те части их, из которых Он намеревался взять пригодное для устройства тела
человеческого, — Тот, очевидно, и после разрушения целого тела не может не
знать, куда поступила каждая из частиц, которые Он употребил для полного образования
каждого тела (гл. 2).
Что могущество Божие достаточно для воскрешения тел, это доказывает самое
происхождение их. Ибо если Бог в первоначальном творении создал несуществовавшие
тела человеческие и самые начала их, то Он и разрушившиеся каким-либо образом
воскресит с такою же легкостью, так как для Него это равно возможно. Какой
силе свойственно было создать вещество, украсить безвидное и неустроенное многими
и различными формами, части стихий соединить в одно, и семя единое и простое
разделить на многое, расчленить бесчленное и дать жизнь безжизненному: той
же самой силе свойственно соединить разрушившееся, воздвигнуть лежащее, опять
оживотворить умершее и тленное изменить в нетленное. Тому же Творцу и той же
силе и премудрости свойственно и то, что расхищено множеством разных животных,
извлечь из них и присоединить опять к собственным членам и их составам, хотя
бы оно вместе с ними, разрушившись, обратилось в первые начала по естественному
их разложению (гл. 3).
Бог приготовил для каждого животного пищу сродную и соответственную его естеству
и роду, и не всякому веществу предоставил входить в соединение или смешение
со всяким телом, и не затрудняется в отделении того, что соединилось. Не все,
что принимает кто-нибудь, обращается в сродную пищу животному, но иное, тотчас
по принятии окружающими желудок частями, портится и изблевывается, отделяется
или иным образом извергается, так что не подвергается даже первоначальному
и естественному пищеварению, а не только что не соединяется с питающимся веществом.
Равным образом и не все, что сварилось и подверглось первоначальному изменению,
вполне поступает в питающие части тела, ибо иное в самом чреве утрачивает питательную
силу, а иное после вторичного изменения и переваривания в печени отделяется
и соединяется с чем-либо другим, не имеющим питательной силы. И после изменения
совершающегося в печени, не все поступает в пищу людям, но отделяется в обыкновенных
извержениях, и та пища, которая иного свойства и чужда природе, скоро портится,
если встретится с сильнейшим веществом, или легко портит другое, если само
сильнее его, и обращается в негодные соки и ядовитые качества, как не приносящая
ничего сродного или соответственного питаемому телу. Лучшим доказательством
этого служит то, что у многих животных от такого рода пищи происходит боль
или опасное повреждение или смерть, когда они примут что-либо ядовитое и противное
их природе. Итак, если по различию природы животных различны виды свойственной
им пищи, то, очевидно, что ничто противное природе никогда не соединится с
ними, так как оно не составляет сродной и соответственной им пищи (гл. 5-6).
Если бы даже кто допустил, что из таких веществ пища, хотя она и противна
природе тела, однако, войдет в него, и изменится во что-либо влажное или сухое,
в теплое или холодное, то из такого предположения противникам не будет никакой
пользы, ибо воскресшие тела составятся опять из своих собственных частей, а
из упомянутых веществ ни одно не будет их частью, и при воскресении их не воскреснет,
так как для поддержания жизни тогда не нужны будут ни кровь, ни влага, ни желчь,
ни воздух. Таким образом, если обсудить, как следует, то, что мы теперь исследовали,
и даже допустить предположения, выставляемые противниками, то нельзя доказать
истины того, что они утверждают, — чтобы тела человеческие когда-нибудь смешались
с другими, подобными им, по неведению ли кто, введенный в обман другим, вкусил
такого тела, или сам по себе от голода или в припадке сумасшествия осквернил
себя телом однородного с ним существа (гл. 7).
Тела людей никогда не могут соединиться с подобными им телами, для которых
эта пища противоестественна, хотя нередко проходит через их чрево по какому-нибудь
ужасному несчастию; не имея питательной силы и рассеявшись по тем частям вселенной,
от которых получили первоначальное свое происхождение, вещества соединяются
с сими последними на время, на сколько каждому из них придется; потом же они
опять отделятся от них премудростью и силою Того, Кто снабдил всякое животное
существо свойственными ему силами — и соответственно природе соединяются каждое
со своим, хотя бы были они сожжены огнем, или сгнили в воде, хотя бы были поглощены
зверями или другими животными, хотя бы иной член, отторгнутый от целого тела,
разложился прежде прочих членов. Соединившись опять друг с другом, они займут
прежнее место, чтобы составить то же тело, и дать новую жизнь тому, что умерло
и совершенно разрушилось» (гл. 8).
Доказав таким образом, что Бог может воскресить умершие и разрушившиеся при
всевозможных условиях человеческие тела, Афинагор, далее доказывает, что Богу
и угодно воскресить их. «Неугодное Богу, — говорит он, — бывает неугодно Ему
или как несправедливое или как недостойное. Но, очевидно, что воскресение не
делает несправедливости никому из посторонних существ. Равным образом нельзя
сказать и того, чтобы представлялась какая несправедливость по отношению к
самому человеку воскресшему. Нельзя сказать и того, чтобы недостойным Бога
делом было воскресить и составить разрушившееся тело. Ибо, если не было недостойно
Его создать тело худшее, — тленное и подверженное страданию, тем более не недостойно
Его создать лучшее, — тело нетленное и чуждое страдания» (гл. 10).
Воскресение людей умерших, наконец, по словам Афинагора, не только возможно
для Бога и угодно Ему, но и необходимо «как на основании той причины, по которой
произошел первый человек и потомки его, так и на основании общей природы всех
людей; равно и на основании будущего суда, который произведет над ними Создатель
за всякие действия» (гл. 11) и, наконец, на основании высшего назначения человека.
Рассматривая вопрос с точки зрения цели, с какою человек сотворен, Афинагор
говорит, что «Бог сотворил человека не напрасно, — ибо Он премудр, а никакое
дело премудрости не бывает напрасно, — и не для собственной пользы; ибо Он
ни в чем не нуждается. Также и не для кого-нибудь из созданных Им творений
Он сотворил человека. Итак, если человек сотворен не без причины и не напрасно,
то, очевидно, — для жизни самих сотворенных и притом для жизни, которая не
на краткое время возжигается, а потом совершенно угасает. Тем, которые носят
в себе образ Самого Творца, владеют умом и одарены разумным смыслом, Творец
определил вечное существование, чтобы они, познавая своего Творца и Его силу
и премудрость, и следуя закону и правде, безболезненно пребывали во веки с
тем, с чем проводили предшествующую жизнь, находясь в тленных и земных телах.
Те существа, которые сотворены для самого бытия своего и жизни, так как причина
бытия соединена с самою их природою и усматривается только в самом их бытии,
никогда не могут подвергнуться ни от какой причины совершенному уничтожению
их бытия. Итак, если Творец всего создал человека для того, чтобы он был причастником
разумной жизни, и чтобы он, сделавшись созерцателем Его величия и сияющей во
всем премудрости, всегда пребывал в таком созерцании, согласно с намерением
Его и с природою, какую получил человек, то причина сего создания удостоверяет
в непрерывности его существования, а непрерывность в воскресении, без которого
человек не существовал бы всегда» (гл. 12-13).
Обращаясь к природе человека, Афинагор находит новое доказательство воскресения
в двухчастном ее составе, который убеждает, что полный человек немыслим без
тела и души; следовательно, вечное существование человека возможно только при
наличности того двухчастного его состава, который составлял необходимое условие
его земной жизни. «Природа сотворенных людей, — говорит Афинагор, — равно утверждает
веру в воскресение. Если вообще природа человеческая состоит из бессмертной
души и тела, которое соединено с нею при сотворении; если ни природе души самой
по себе, ни природе тела отдельно Бог не даровал самостоятельного бытия и жизни,
но только людям, состоящим из души и тела, то тело и душа в человеке составляют
одно живое существо, которое испытывает и свойственное душе и свойственное
телу. Если же есть единство и гармония во всем этом живом существе, если есть
согласие между действиями души и отправлениями тела, то должна быть одинакова
и последняя цель всего этого. Одна же действительно будет последняя цель, если
живое существо, назначенное к известному концу, будет находиться в том же своем
составе. Оно будет совершенно тем же живым существом, когда будет иметь те
же все части, из которых состоит это живое существо. А части эти тогда только
явятся в свойственном им соединении, когда те из них, которые разрушились,
опять соединятся в состав живого существа. Образование же состава тех же людей
по необходимости ведет к воскресению тел, умерших и разрушившихся; ибо без
него те же части не соединились бы между собою по природе, и не восстановилось
бы естество тех же людей. Если нет воскресения, то не останется природа человеков,
как человеков. Если же природа человеческая не останется существовать, то напрасно
душа связана с немощами тела и его состояниями, напрасно и тело удерживается
от достижения того, к чему стремится, будучи направляемо и сдерживаемо уздою
души; вообще сказать, напрасно самое творение людей и их природа. Если же решительно
во всех делах Божиих и исходящих от Него дарах нет ничего напрасного, то совершенно
необходимо, чтобы бессмертной душе соответствовало вечное пребывание и тела,
сообразно с его природою» (гл. 15).
Факт смерти человека, т.е. временного разрушения его телесной организации,
по мысли Афинагора, не противоречит учению о вечном пребывании человека в полном
его составе, потому что смерть и телесное разрушение есть такое же свойственное
человеческой природе изменение, как сон, переход от одного возраста к другому
и т.д. «Не должно, — говорит Афинагор, сокрушаться, что отделение души от тела
и разложение частей разрывает непрерывность жизни, — не должно отвергать воскресения.
Ибо во время сна, по-видимому, также прерывается жизнь, состоящая в сознательном
ощущении, и однако ж мы не отказываемся называть такое состоянию жизнью. По
этой причине, я думаю, некоторые называют сон братом смерти по одинаковости
состояния умерших и спящих, по спокойствию и нечувствительности ко всему, что
существует и происходит, и даже к бытию собственной жизни. Вообще, природа
людей изначально и по мысли Творца получила в удел — подвергаться изменениям
и имеет жизнь и пребывание не одинаковое, но прерываемое то сном, то смертью,
то переменами в каждом возрасте, так как последующий возраст не обнаруживается
ясно в предыдущем. Кто поверил бы, если бы не был научен опытом, что в безразличном
и бесформенном семени заключено столь много и столь великих сил, такое разнообразие
частей, возникающих и слагающихся в нем, как-то: костей, нервов, хрящей, мускулов,
плоти, внутренностей и прочих составов тела? Ни во влажных семенах ничего этого
не видно, ни у младенцев не замечается того, что обнаруживается у юношей, ни
в возрасте юношеском того, что свойственно мужам зрелым, ни у сих последних
того, что бывает у стариков. Если же здесь порядок единственных явлений внушает
веру в то, что еще не удостоверено самыми явлениями: тем более разум, исследуя
истину в естественном порядке удостоверяет в воскресении, имея надежнейшие
и более сильные, чем опыт, основания к подтверждению истины» (гл. 16-17).
Истина воскресения утверждается и на понятии о правосудии Божием. «Необходимо,
чтобы правосудие простиралось на всего человека, состоящего из души и тела,
если праведный суд полагает возмездие за действие обеим частям, и не одна душа
должна получить возмездие за то, что сделано ею вместе с телом, — ибо она не
сама по себе увлекается к грехам относительно телесных удовольствий, пищи или
других чувственных благ, — и ни одно только, — ибо оно само по себе не способно
рассуждать о законе и правосудии: но человек, состоящий из того и другого,
подлежит суду. За каждое из своих действий, между тем разум не находит этого
воздаяния ни в настоящей жизни, — ибо в настоящей жизни нет его по достоинству,
так как многие безбожники, преданные всякому беззаконию и нечестию, не испытывают
несчастий до самой смерти, и напротив, те, которые жизнь свою провождают во
всякой добродетели, подвергаются скорбям, обидам, клеветам, мучениям и всяким
бедствиям, — ни после смерти, — ибо человек не состоит еще из обеих частей,
пока душа отделилась от тела, а тело разложилось на то, из чего оно было составлено,
и не сохраняет ничего из прежней своей природы или вида, ни даже память о соделанном:
то следствие очевидно для всякого; именно, что надлежит, по апостолу, «тленному
сему» и рассыпавшемуся «облещись в нетление», дабы, когда умершие оживут через
воскресение, и опять соединится разделившееся или совершенно разрушившееся,
каждый получил должное за то, «что с телом соделал, благое или злое» (1 Кор.
15, 53 и 2 Кор. 5, 10; гл. 18).
Наконец, воскресения требует и высшее назначение человека, отличающее его
от всех земных существ [1]. «И для произведений природы, и для произведений
искусства должна быть свойственная каждому цель: в этом убеждает нас всеобщий
смысл и
свидетельство наглядного опыта. Если же это несомненно, то совершенно необходимо,
чтобы и назначение людей, как особенных по своей природе существ, не имело
ничего общего с другими. Беспечальность не может быть собственно их целью,
ибо это было бы у них обще с существами, лишенными всякого чувства; не может
также и наслаждение тем, что питает и услаждает тело, и обилие удовольствий,
— ибо тогда необходимо имела бы преимущество жизнь скотская, а жизнь добродетельная
была бы бесцельна. Равным образом не может быть назначением человека блаженство
души, отделенной от тела. Ибо мы рассматриваем жизнь, или назначение не одной
какой-либо из частей, из которых состоит человек, но человека, состоящего из
обеих. Если же цель относится к обеим частям, а между тем она по причинам,
высказанным выше, не может быть указана для живущих людей ни в этой жизни,
ни по отделении души от тела, то совершенно необходимо, чтобы назначение людей
находилось в каком-либо ином состоянии этого двучастного живого существа. А
если это необходимо следует, то непременно должно быть воскресение тел, умерших
и совершенно разрушившихся, и вторичное существование тех же людей, ибо они
не могут существовать как те же люди, если те же самые тела не будут возвращены
тем же самым душам. Но чтобы то же самое тело приняло ту же самую душу, это
не иначе возможно, как только через воскресение. Когда это совершится, тогда
достигнется цель, сообразная с природою людей. Никто не погрешил бы, если бы
сказал, что цель сознательной жизни и разумного суждения — в постоянном и непрерывном
занятии тем, к чему больше и прежде всего приспособлен естественный разум —
в созерцании Сущего и непрестанном услаждении Его заповедями, хотя многие из
людей, слишком пристрастно и сильно предавшиеся земному, не достигают этой
цели: каждый подвергается суду и каждому будет соразмерна награда или наказание
за добрую или худую жизнь» (гл. 24-25).
1. Последнее
доказательство воскресения служит дополнением к первому, так как там и здесь
говорится о цели и назначении человека, с тем только различием, что там говорилось
о цели сотворения человека, о первой причине его бытия, а здесь имеется в виду
последняя цель человеческой жизни.
Свт. Мелитон, еп. Сардинский
Свт. Мелитон, один из выдающихся церковных деятелей и писателей, о котором
свидетельства древности отзываются с величайшим уважением и похвалою, был епископом
малоазиатского города Сард (в Лидии). Из его сочинений видно, что он получил
обширное образование — ораторское, философское и собственно христианское. С
целью выполнения последнего и для изучения в подлиннике книг Св. Писания, он
предпринимал путешествие ко святым местам, где протекали события священной
истории. «На том самом месте, — говорит он, — где происходили проповедь и события,
я изучал книги Ветхого Завета». (Евсевий. «Церковная История», IV, 26). Результатом
этого изучения было составление в шести книгах «извлечений из закона и пророков
относительно Спасителя и всей веры нашей», которым предшествовал общепризнанный
ветхозаветный канон (там же). Затем, по свидетельству Евсевия, он принимал
деятельное участие в прекращении спора о времени празднования Пасхи, волновавшего
лаодикийскую церковь после мученической кончины еп. Сагариса, и написал по
этому поводу две книги о Пасхе (там же). Доблестный пастырь, так неутомимо
трудившийся в деле внутреннего процветания и умиротворения Церкви, отозвался
и на ее внешние нужды, так как в его время происходило гонение на христиан,
вызванное эдиктом императора Марка Аврелия. Евсевий говорит, что в 237 олимпиаду
(169-172) Мелитон Сардийский подал Антонину апологию за христиан (Евсевий.
«Церковная История», IV, 13, 26). Выражение «подал» наводит на мысль, что свт.
Мелитон не затруднился даже поездкою в Рим для представления своей апологии
императору.
Помимо плодотворной деятельности, древность отметила и другие выдающиеся достоинства
свт. Мелитона. Поликрат, еп. Ефесский, в своем послании к римской церкви называет
его евнухом, т.е. девственником, и говорит, что он делал все по внушению Святого
Духа, за что по воскресении мертвых его ожидает епископствование на небе (Евсевий.
«Церковная История», V, 24). Тертуллиан, бывший почти современником его, говорит,
что многие христиане считали его за пророка. Евсевий считает его, наряду с
Аполлинарием, свт. Иринеем и другими выдающимися лицами, верным хранителем
православия, апостольского предания и святой веры (Евсевий. «Церковная История»,
IV, 21),
Свт. Мелитон скончался и погребен в Сардах в 70-х годах второго века.
Евсевий указывает многие сочинения, принадлежавшие Мелитону, как, например,
книги об образе жизни и пророках, о Церкви, слово о воскресном дне, о природе
человека, вышеупомянутые «извлечения» и книги о Пасхе и др., но от большинства
этих сочинений сохранились до нашего времени или одни только названия, или
же незначительные отрывки. Из сохранившихся литературных произведений Мелитона
для нас имеют значение два отрывка из его апологии и речь к императору Антонину
(Марку Аврелию). Первый отрывок сохранен Евсевием (Евсевий. «Церковная История»,
IV, 26), второй найден в пасхальной хронике, а «Речь» только в 1855 году открыта
ученым Куртоном в числе других сирских манускриптов Британского музея.
Отрывок 1-й
Этот отрывок имеет большую ценность как исторический памятник, рисующий государственное
отношение язычества к христианству, когда на основании эдикта Марка Аврелия,
были дозволены специальные розыски христиан и доносы на них с вознаграждением
доносчиков из имущества казненных.
Чтобы свободнее говорить о несправедливости этого эдикта, не возбуждая против
себя гнева императора, к которому обращалась апология, Мелитон показывает вид,
что oн не знает истинного виновника совершающихся над христианами несправедливостей
и жестокостей. «Ныне, — говорит он, — чего никогда еще не было — подвергается
гонению род людей благочестивых, преследуемый злыми указами по Азии. Бесстыдные
доносчики и охотники поживиться чужим имуществом, находя себе повод в таких
распоряжениях, явно разбойничают, днем и ночью грабят людей ни в чем неповинных.
И если это делается по твоему повелению, — пусть делается так, царь справедливый
никогда не захочет чего-либо несправедливого; и мы охотно принимаем участь
такой смерти. Только одну просьбу приносим тебе, чтобы ты сам узнал наперед
людей, которые поступают с таким упрямством [1], и потом
справедливо рассудил, достойны ли они смерти и какого-либо наказания, или сохранения
жизни и спокойствия.
Если же это определение и новое распоряжение, которое неприлично было бы даже
в отношении враждебных варваров, вышли не от тебя, то мы еще более просим не
предоставлять нас такому грабительству. Наша философия [2] первоначально
процветала среди варваров [3], потом в могущественное
владычество предка твоего Августа встретилась
с подвластными тебе народами и явилась добрым предзнаменованием для твоего
царства. Ибо с тех пор римская держава возвеличилась и прославилась; и ты сделался
вожделенным преемником престола и будешь владеть им вместе с сыном [4],
если будешь охранять ту философию, которая возрастала вместе с империей и началась
с Августом,
и которую предки твои чтили наравне с другими религиями. А что наше учение
расцвело вместе с благополучным началом империи, именно к ее добру, важнейшим
доказательством служит то, что с владычества Августа не случилось ничего худого,
напротив, согласно общему желанию, все было счастливо и славно. Из всех императоров
только Нерон и Домициан по внушениям некоторых зложелательных людей старались
оклеветать наше учение и от них-то ложная клевета на нас распространилась к
последующим поколениям по неразумному обыкновению верить молве. Но их неверие
исправили твои благочестивые предки, много раз письменно порицая тех, которые
относительно христиан осмеливались затевать что-либо новое. Из них дед твой
Адриан писал как другим, так и проконсулу Азии Фундану [5];
а твой отец, когда уже и ты разделял с ним правление, писал различным городам,
и между прочим
лариссянам, солунянам, афинянам и всем эллинам, чтобы относительно нас они
не предпринимали ничего нового. Что же касается до тебя, то мы еще более убеждены,
что, питая одинаковые с ними или даже более человеколюбивые и разумные мысли
о христианах, ты сделаешь все, о чем мы тебя просим».
1. Т.е. христиан.
Христианское учение
2. Христианское учение
3. Иудеев, причисляемых греками к варварам.
4. Коммодом.
5. Текст эдикта Адриана, запрещающего наказывать христиан за ложное
обвинение, приводится в конце 1-й апологии Иустина.
Отрывок 2-й
«Мы не служим камням бесчувственным, но поклоняемся единому Богу, который
прежде всего и выше всего, и Христу истинному Богу, Слову предвечному».
Речь Мелитона Философа, которую он держал перед императором Антонином, чтобы
научить его познанию Бога и показать ему путь истины
Предмет «Речи» очень несложен: Мелитон развивает одну только мысль, что недостойно
человека вместо Бога истинного почитать богов ложных и их изображения, каковы
бы ни были побудительные причины для этого почитания.
В введении к своей речи Мелитон говорит, что «не легко обратить скоро на правый
путь такого человека, который долгое время прежде находился в заблуждении,
Однако ж это возможно. Ибо если человек хотя немного отвращается от заблуждения,
свидетельство истины становится удобоприемлемым для него», Затем, приступая
к главному предмету своей речи, он указывает, что коренное заблуждение язычества
«состоит в том, что человек оставляет то, что поистине есть, и служит тому,
чего поистине нет. Но есть нечто поистине, и это называется Богом; Он поистине
есть, и все существует через Его силу. Он не есть сотворенное существо, не
получил начала во времени; но Он от вечности, и существует во веки веков, Он
не изменятся, тогда как все изменяется. Никакое зрение не может видеть Его,
никакой разум — понять Его, никакое слово — объяснить Его. Любящие же Его называют
Его Отцом и Богом истины. Посему, если человек, оставляя Свет, говорит, что
есть иной бог, то смысл его слов тот, что он одну из тварей называет богом.
Ибо если человек огонь называет богом, то это не бог, потому что огонь, и если
он называет воду богом, то это — не бог, потому что вода; и если эту землю,
по которой мы ходим, это небо, которое мы видим, если солнце, луну, или одну
из этих звезд, которые совершают предписанное им течение, и если золото или
серебро человек называет богом, то все это не вещи ли, которыми мы пользуемся,
как хотим? И если это дерево, которое мы сожигаем, и если эти камни (которые
мы сокрушаем) кто-нибудь называет богом, то могут ли они быть богами, когда
они служат для употребления людям? Не тяжко ли же согрешают те, которые в словах
своих смешивают великого Бога с этими вещами, которые существуют только по
Его повелению? Однако ж, я говорю, что когда человек не слышит, и не различает
и не знает, что Господь — превыше всех этих тварей, он, может быть, не заслуживает
осуждения, потому что никто не осуждает слепого, если он идет непрямо. Но теперь,
когда по всей земле слышится голос возвещающий, что есть Бог истинный, и каждому
человеку дано око, чтобы видеть, теперь не имеют извинения те, которые и хотели
бы, но стыдятся из-за того, что многие разделяют их заблуждение, обратиться
на правый путь. Посему я советую им открыть глаза свои — и видеть. Ибо зачем
человеку стыдиться тех, которые с ним заблуждаются? Скорее — он должен убеждать
других, чтобы последовали ему; и если они не убедятся, пусть спасает душу свою
от среды их».
Чтобы яснее доказать безумие языческого богопочитания и идолопочитания, Мелитон
объясняет, «каким образом и по каким причинам стали делать изображение царей»
и тиранов, и как потом сравняли их с богами. Жители Аргоса сделали статуи Геркулеса,
потому что он был сын их города, отличался храбростью и своею силою убивал
вредных животных, а еще больше потому, что аргосцы боялись его, так как он
насильствовал и у многих отнял жен. Актийцы [1] обожали
царя Диониса, потому что он первый ввел вино в их стране. Афиняне обожали Афину,
дочь Зевса,
царя
острова
Крита, потому что она основала замок афинский и там поставила царем Эриктина [2],
своего сына, который родился от ее прелюбодеяния с кузнецом Гефестом, сыном
жены ее отца. Писать ли мне о Нево, который почитается в Мабуге? Все жрецы
мабугские знают, что это изображение фракийского мага Орфея. А Адран есть изображение
персидского мага Зерадушта [3]. Таким же образом и прочие люди делали
статуи своих царей и почитали их.
Но ты существо разумное, свободное и знающее истину, размысли об этом сам
с собою; верь Тому, Кто воистину есть Бог, открой перед Ним сердце твое, вверься
Ему, и Он даст тебе вечную жизнь бессмертных, ибо все содержится в руках Его.
Другие же предметы почитай тем, что они суть, изображения как изображения,
статуи как статуи, и не поставляй какой-нибудь сотворенной вещи на место Несозданного.
Бог же, вечно живущий, входит в душу твою, ибо душа твоя есть Его образ, так
как и она невидима, неосязаема, не имеет вида и своею волею движет все тело.
Итак, знай, что если ты почитаешь неизменяемого, то и ты, так как он вечен,
когда оставишь видимое и преходящее, будешь вечно предстоять перед Ним, исполненный
жизни и знания; и дела твои будут тебе богатством неумаляющимся, сокровищем
неоскудевающим. Но знай, что венец твоих добрых дел есть познание Бога и служение
Ему. И знай, что Он от тебя ничего не требует, ни в чем не нуждается.
Кто же этот Бог? Тот, Кто Сам есть истина, и слово Коего есть истина. Но что
есть истина? То, что не создано, не сотворено, не образовано, т.е. бытие, которое
не имеет начала и называется истиною. Итак, если человек поклоняется чему-либо,
сделанному руками, то он почитает не истину, и также не слово истины. Какое
преступление больше того, когда человек обожает свое богатство, и оставляет
Того, Кто дает ему богатство, ругается над человеком и обожает изображение
его, убивает животное и почитает образ его? Если тебе нравится художественное
произведение, то пусть же тебе понравится дивное творение Бога, все создавшего.
И по Его образцу работают художники, — стараются сделать так, как создано Богом,
но не достигают сходства».
Язычники в защиту своего богопочитания выставляли или могли выставить мотивы,
оправдывающие его; поэтому Мелитон добросовестно рассматривает все эти мотивы
и доказывает их непрочность. «Ты, может быть, скажешь, — говорит он, — почему
Бог не устроил так, чтобы я почитал Его, а не статую? Говоря таким образом,
ты хочешь быть простым орудием, а не живым человеком; Бог же сотворил тебя
так, как Ему было угодно, и дал тебе разум и свободу. Он поставил перед тобою
множество вещей, чтобы ты обсуждал все и выбирал благое. Он поставил перед
тобою небо и на нем звезды; он поставил перед тобою солнце и луну, которые
ежедневно обтекают небо; Он поставил перед тобою великую землю, которая покоится
и стоит перед тобою в одинаковом виде; и дабы ты не подумал, что она стоит
собственною силою, Он потрясает ее, когда хочет; он поставил перед тобою облака,
которые по Его повелению испускают воду с высоты и насыщают землю, дабы ты
познавал из сего, что Тот, Кто производит это, больше всего существующего,
и дабы ты постигал благость Того, Кто дал тебе разум, способный рассуждать
о всем этом. Посему я советую тебе познать самою себя, и ты познаешь Бога.
Познай, как в тебе есть то, что называется душою, как через нее око видит,
ухо слышит, уста говорят, движется все тело. Итак, из того, что в тебе есть,
но невидимо, познай, каким образом Бог по собственной воле управляет миром
как бы телом, та что если Ему угодно будет отнять свою силу, то мир упадет
и разрушится. Итак, ничто не препятствует тебе, как свободному, переменить
твой худой образ жизни, искать и обрести Того, Кто есть Господь всего, и служить
Ему всем сердцем твоим; ибо Он независтно сообщает познание о Себе тем, которые
ищут познать Его».
На другое оправдание язычества, что под видом идолов почитается сокровенный
Бог, Мелитон возражает, что говорящие так «не знают, что Бог на всяком месте,
что Он никогда не находится в отсутствии и ничего не делается, чего бы Он не
ведал. А ты, жалкий человек, которому Бог присутствует в тебе, вне тебя и над
тобою, идешь и покупаешь себе из дома художника дерево, которое обрезано и
обработано в поругание Бога; приносишь жертву этому истукану, и не знаешь,
что тебя видит око Всевидящее, и что тебя осуждает слово истины».
Наконец, самым сильным доводом в пользу языческого почитания богов и идолов
было то, что оно завещано древностью, которой усвоялся священный характер.
Мелитон на это говорит, что не все то хорошо, что делали или каковыми были
предки. «Почему же, спрашивает он, стараются сделаться богатыми те, которым
отцы оставили бедность; и те, которых не научили отцы, стараются научиться
и узнать то, чего не знали их отцы? И почему сыновья слепых видят, а хромых
ходят? Не хорошо для человека, если он следует предкам, которые дурно жили:
но хорошо, если мы уклоняемся от этого пути, дабы избегнуть того, что постигло
предков. Посему расследуй: если отец твой поступал хорошо, то следуй ему и
ты; а если он жил дурно, то ты живи хорошо, и пусть дети твои подражают тебе.
Сыновьям своим скажи так: есть Бог, Отец всего, существо безначальное и несозданное,
все содержащее в Своей воле. Он создал светила, чтобы твари видели друг друга,
а Сам сокрылся в Своем могуществе от всех Своих тварей; ибо твари изменяющейся
невозможно видеть Неизменного. Те же, которые склоняются к убеждению и достигают
до состояния неизменяемости, видят Бога, сколько это можно для них; они также
могут избежать истребления, когда потоп огненный устремится на весь мир. Был
потоп водный, и погибли все люди и животные во множестве воды, и сохранились
праведные в деревянном ковчеге, по повелению Божию. Таким же образом, в последнее
время, будет потоп огненный, и сгорит земля с горами ее, сгорят люди вместе
с идолами, которых они сделали, и со статуями, которым они поклонялись, и сгорит
море с островами его, но праведные сохранятся от гнева, как сохранились праведные
в ковчеге от вод потопа. И тогда восстенают те, которые не знали Бога и делали
себе идолов, как они увидят, что и идолы их погибают вместе с ними, и ничто
не может помочь им».
1. Жители Акты,
под которой разумеется Аттика.
2. Эрехфея.
3. Зороастра.
Свт. Феофил Антиохийский
Где и когда родился свт. Феофил и как он провел свою молодость, неизвестно.
Из его первой книги к Автолику (14 гл.) можно только видеть, что он родился
и воспитался в язычестве, а христианство принял уже в зрелых летах, после знакомства
с книгами Священного Писания. Особенно сильное впечатление произвели на него
«книги святых пророков, которые по вдохновению от Духа Божия предсказывали
и прошедшее так, как оно совершилось, и настоящее так, как оно происходит,
и будущее в том виде, как оно исполнится» (там же). Убедившись на основании
этих книг в превосходстве богооткровенного учения перед язычеством, Феофил
оставил прежнюю веру и познал истинного Бога, на служение Которому он до конца
своих дней посвятил свои силы и способности. Его глубокая сознательная вера,
научное образование, приобретенное в языческий период его жизни, и совершенный
образ жизни обратили на него всеобщее внимание, как на выдающегося члена христианской
общины. Поэтому, когда умер пятый антиохийский епископ Эрос (168), он был избран
ему в преемники. В епископском служении ему открылось широкое поле деятельности
на пользу Церкви, изнутри колеблемой еретиками-гностиками, а извне угрожаемой
язычеством. Свт. Феофил показал себя истинным пастырем в эти трудные для Церкви
времена, как видно из похвального отзыва о нем Евсевия. «Так как, — говорит
Евсевий, — в это время еретики, подобно плевелам, нисколько не менее грозили
чистому семени апостольского учения, то пастыри Церкви повсюду старались отогнать
их от стада Христова, как диких зверей, иногда наставлениями и увещаниями к
своим братиям, иногда открытой борьбой против врагов, то устными состязаниями
и опровержениями, то через сочинения. Восставал на них, вместе с другими, и
Феофил: это видно из превосходной его книги, написанной против Маркиона» (Евсевий.
«Церковная История», IV, гл. 24). Далее Евсевий говорит, что он писал и против
Гермогена (там же). Памятником борьбы Феофила с заблуждениями язычества служит
его апология. Как долго он был епископом, с точностью неизвестно, так как разные
авторитетные источники расходятся в показании времени; в одном только они согласны,
что свт. Феофил немногим пережил императора Марка Аврелия (161—180) и умер
в восьмидесятых годах II века, в царствование Коммода. Пастырские труды и святая
жизнь Феофила, ценимые при жизни его, еще более были оценены по смерти его:
Церковь причислила его к лику святых.
Евсевий и Иероним приписывают свт. Феофилу несколько сочинений, содержащих
в себе полемику против гностиков, толкование Св. Писания и назидания верующим,
но о нас сохранилась одна только его апология в 3 книгах, адресованная Автолику.
Этот Автолик был лично знакомый Феофилу образованный язычник, с которым Феофил
вел неоднократные продолжительные беседы о верах языческой и христианской,
причем Автолик отстаивал язычество и нападал на христианство, а Феофил наоборот.
Предмет этих бесед в их постепенном порядке и составил содержание апологии
свт. Феофила.
Книга первая
В первой книге свт. Феофил касается тех вопросов, оспариваемых Автоликом,
— о существовании духовного и непостижимого чувствами Бога, о воскресении мертвых
и о значении христианского имени.
Воспитанный на человекообразных представлениях, античный язычник не мог представить
себе Бога исключительно духовным Существом, без каких-либо чувственных форм;
поэтому, слыша о почитании христианами невидимого бестелесного Бога, он считал
это учение чистым абсурдом. «Покажи мне твоего Бога, — победоносно заявляет
Автолик, думая тем поставить Феофила в безвыходное затруднение и показать неосновательность
и бездоказательность христианского учения о Боге». «Покажи мне твоего человека [1],
— отвечает Феофил, — и я покажу тебе моего Бога. Покажи, что очи души твоей
видят, и уши сердца твоего слышат. Ибо как телесные глаза у зрячих людей видят
предметы этой земной жизни, или как уши различают звуки, подлежащие слуху:
так точно есть уши сердца и очи души, чтобы видеть Бога. И Бог бывает видим
для тех, кто способны видеть Его, у кого именно открыты очи душевные. Человек,
когда в нем есть грех, не может созерцать Бога» (гл. 2).
Ты скажешь мне: «Ты, видящий, опиши мне вид Бога. Послушай, друг мой: вид
Бога неописуем и неизъясним, ибо не может быть видим плотскими глазами. Его
слава бесконечна, величие необъятно, высота непостижима, могущество неизмеримо,
мудрость неисследима, благодеяния неизреченны» (гл. 3). Он созерцается и познается
из Его провидения и действий. Царя земного, хотя не все видят, но признают
его бытие и знают о нем по его законам, распоряжениям, войскам и изображениям.
А ты не хочешь таким же образом познавать Бога из Его дел и сил? Рассмотри
дела Его, — преемственные смены времен года и перемены воздухов, благочинное
течение звезд, правильное последование дней и ночей, месяцев и годов, разнообразную
красоту семян, растений и плодов, многоразличные виды животных четвероногих,
птиц, гадов и рыб, речных и морских, также данный животным инстинкт к рождению
и воспитанию потомства не для их собственной пользы, а для употребления человека,
— Промысл Божий, приготовляющий пищу для всякой плоти, — то подчинение, которое
определено животным по отношению к человеческому роду, — течение приятных потоков,
периодическое выпадение росы и дождей и т.д. Сей Бог мой есть Господь вселенной,
Который один простер небо и положил широту поднебесной, Который утвердил землю
на водах (Пс. 23, 2) и дает дух, питающий ее, дыхание коего животворит все,
и с удержанием коего вселенная разрушится. О Нем ты говоришь, человек, Его
духом дышишь, и Его-то не знаешь. Это произошло у тебя от помрачения души и
окаменения сердца твоего. Бог Словом Своим и Премудростью сотворил все; ибо
«Словом Его небеса утвердились и Духом Его вся сила их» (Пс. 32, 6). Превосходна
Его Премудрость: «Бог премудростию утвердил землю и устроил небеса разумом»
(Притч. 3, 19). «Если ты разумеешь это, друг, и живешь чисто, свято и праведно,
то можешь видеть Бога. Когда же отложишь смертное и облечешься в бессмертие,
тогда узришь Бога, как следует. Ибо воздвигнет Бог плоть твою бессмертную вместе
с душею» (гл. 5-7).
Последний довод о наступлении полного Богопознания после всеобщего воскресения
имел бы убедительную силу в том случае, если бы Автолик верил в воскресение
мертвых, а так как он не признавал его, то Феофил, чтобы не быть голословным,
должен был доказать истину воскресения. Возможность признания воскресения он
утверждает на вере, играющей такую важную роль в жизни людей, и на явлениях,
аналогичных с воскресением, а возможность его осуществления — на всемогуществе
Божием. «Почему ты не веруешь? — спрашивает он Автолика, — Или не знаешь, что
во всех делах предшествует вера? Какой земледелец может получить жатву, если
прежде не вверит земле семени? Какой больной может излечиться, если прежде
не доверится врачу? Итак, если земледелец верит земле, и больной — врачу, а
ты не хочешь довериться Богу, имея от Него столько залогов? Первое — то, что
Он сотворил тебя из небытия в бытие, Он образовал тебя из небольшой влажной
сущности и малейшей капли, которая и сама некогда не существовала; Бог произвел
тебя в эту жизнь. Веришь же ты, что созданные людьми статуи суть боги и делают
дивные вещи. А не веруешь, что Бог, сотворивший тебя, может некогда воссоздать
тебя» (гл. 8).
Далее Феофил показывает, что существование языческих богов также основано
на вере, так как язычники принимают на веру мифологические сказания, не смущаясь
крайней извращенностью в них понятия о Божестве (гл. 9-10).
Но и эти доводы не убедили Автолика. Как раньше он требовал показать ему Бога
христианского, чтобы он мог признать Его существование, так теперь он требует
показать ему воскресшего мертвеца, чтобы он мог поверить воскресению. На это
Феофил говорит ему: «Что великого в том, что поверишь, увидев событие? С другой
стороны, Бог доставляет тебе много доказательств, располагающих верить Ему.
Не бывает ли также воскресение семян и плодов? Ибо, например, когда брошено
в землю зерно пшеницы или других семян, то прежде оно умирает и разлагается,
потом же поднимается и встает колосом. И деревья не производят ли, по повелению
Божию, в определенные времена плоды, прежде скрытые и невидимые? Если же хочешь
видеть более дивное зрелище в доказательство воскресения — не только от земных
вещей, но и от небесных, то представь совершающееся ежемесячное воскресение
луны, как она убывает, исчезает и опять восстает. Вникни еще, друг мой, в дело
воскресения, совершающееся в тебе самом, хотя ты не ведаешь о сем. Ты может
быть подвергался какой-нибудь болезни и терял дородность тела, крепость и красоту,
но, получив милость от Бога и исцеление, снова возвращал телесное здоровье,
красоту и силу. Итак, не будь неверующим, но веруй, дабы, если теперь не уверуешь,
не вынужден был тогда уверовать посредством вечных мучений. Тщательно читай
пророческие писания, и они самым верным путем приведут тебя к тому, чтобы избегнуть
вечных мучений и получить вечные блага Божии. Ибо «Тот, Кто дал уста, чтобы
говорить, образовал уши, чтобы слышать, и сотворил глаза, чтобы видеть (Исх.
4; 2; Пс. 93, 3), исследует все и совершит суд праведный, воздавая каждому
сообразно с его делами. Тем, которые постоянно посредством добрых дел ищут
нетления, Он дарует вечную жизнь, радость, мир, покой и множество благ, «которых
ни глаз не видел, ни ухо не слышало и которые не всходили на сердце человека»
(1 Кор. II, 9), а тех, которые не веруют, презирают и не покоряются истине,
но повинуются неправде, возьмет огонь вечный» (гл. 13-14).
Помимо отрицания христианских истин, Автолик, как и все язычники, относился
с презрением и насмешкою к христианскому имени, как к показателю всего дурного,
в чем заподозревались христиане. Чтобы рассеять это общеязыческое заблуждение,
Феофил показывает, откуда получилось это имя и какое доброе значение оно имеет.
«То, что помазано, — говорит он, — то приятно, благополезно и не должно быть
осмеиваемо. Кто, вступая в эту жизнь или выходя на палестру, не помазывается
маслом? А ты не хочешь помазаться елеем Божиим? Потому-то мы и называемся христианами,
что помазуемся елеем Божиим» [2] (гл. 12).
1. Т.е. внутреннего
человека, таков ли он, каков он должен быть для того, чтобы видеть Бога.
2.
Имя христианин Феофил производил не от Христа, а от помазания елеем при крещении.
Книга вторая
Вторая книга к Автолику содержит в себе критику языческого идолопочитания,
богопочитания и учения о божестве и мире философов и поэтов, и в противоположность
этому излагает богооткровенное учение о сотворении мира и человека и последующей
человеческой истории до рассеяния народов.
Феофилу прежде всего «кажется смешным, что ваятели, живописцы или плавильщики
делают, пишут, вытесывают, отливают и изготовляют богов, которые после того,
как будут отделаны художниками, ни во что ставятся ими; когда же их купят и
поставят в так называемый храм или какой дом, то не только купившие приносят
им жертвы, но и те, которые их сделали и продали, приходят с усердием и с запасом
жертв и возлияний поклониться им и почитают их за богов, забывая, что эти боги
— камень, медь, дерево, краска или другое какое вещество» (гл. 2).
Не менее противным здравому смыслу кажется Феофилу и то, что язычники воздают
божеские почести тем, которых сами считают простыми людьми, происшедшими естественным
образом (гл. 2-3).
Далее он указывает, что даже высшие авторитеты языческой мудрости — философы
— запутались в противоречиях относительно воззрений на Божество. Так, некоторые
из стоиков говорят, что вовсе нет Бога, или если есть, утверждают, что Он ни
о чем не печется, кроме Себя Самого. Платон и его последователи признают Бога
безначальным, Отцом и Творцом всего, но затем полагают, что «Бог и материя
безначальны и что последняя совечна Богу», чем разрушают свое собственное учение
о творчестве Божием, а равно унижают Божеское могущество, как не имеющее силы
создать материю (гл. 4).
Поэты, творцы теогонии и мифологии, создали также низменные и недостойные
Бога представления о Нем. Гомер родоначальником богов считает океан, т.е. воду,
«но Бог, если Он творец всего, как и действительно есть, — Он есть создатель
воды и морей» (гл. 5). Следуя Гезиоду, также нужно считать богов явившимися
позднее мира и нельзя выяснить, кем же сотворена материя, из которой произошел
мир (гл. 5-6).
Делая оценку повествованиям поэтов, Феофил говорит: «Они сложили басни и глупые
сказания о своих богах, ибо представляли их не богами, но людьми. И о происхождении
мира они передали нелепые и противоречивые сказания. Кроме того, они то вводили
множество богов, то говорили о единовластительстве Божием, и тогда, как одни
признавали Промысл, другие отвергали его бытие. Поэтому Эврипид делает следующее
признание: «С полною надеждою изучаем мы многое, но напрасно трудимся и ничего-то
мы не знаем» («Фиест»). Таким образом, они невольно признаются, что не знают
истины (гл. 8).
В противоположность таким ненадежным авторитетам, на которых зиждутся основы
язычества, Феофил указывает на прочные авторитеты, на которых основывается
богооткровенное учение, содержимое христианами. «Были, — говорит он, — люди
Божий, исполненные Святого Духа и истинные пророки, Самим Богом вдохновенные
и умудренные, которые получили свыше ведение, святость и праведность. Они-то
удостоились чести быть органами Божиими и сосудами премудрости от Бога, по
которой они говорили о сотворении мира и о всем прочем. Все они говорили согласно
друг с другом и о том, что было прежде них, и о том, что совершалось при них,
и о том, что ныне исполняется перед нашими глазами; поэтому-то мы уверены и
касательно будущего, что оно также исполнится, как свершилось первое» (гл.
9).
И прежде всего пророки согласно научили нас, что Бог сотворил все из ничего.
«В начале сотворил Бог небо [1] и землю; земля же была невидима и неустроена
и тьма (была) над бездною и Дух Божий носился над водою» (Быт. 1, 1-2). Таким
образом, материя, из которой Бог сотворил и устроил мир, получила начало и
создана от Бога» (гл. 10).
Затем Феофил подлинными словами Библии передает историю шестидневного творения
и освящения седьмого дня (гл. 11), в заключение чего говорит: «Этого семидневного
творения никто из людей не может надлежащим образом объяснить, ни изобразить
всего домостроительства его, хотя бы имел тысячу уст и тысячу языков; даже
хотя бы кто жил тысячу лет на этом свете, и тогда не будет в состоянии об этом
сказать что-либо достойным образом, по причине превосходного величия и по богатству
премудрости Божией, присущей в этом шестидневном творении. Многие писатели,
подражая сему, пытались рассказать творение мира, однако не сказали даже искры
похожего на истину» (гл. 12).
Библейский рассказ о творении Феофил истолковывает и в буквальном, и в переносном
смысле. Так, например, море он сравнивает с миром, в котором «закон Божий и
пророки, источающие сладость, милосердие, правду и учение святых заповедей»,
уподобляются приливам рек и источников, питающих моря. «Подоносные, имеющие
спокойные места и пристани, острова уподобляются святым церквам, в которых,
как в благоустроенных пристанях, сохраняется учение истины, к которым прибегают
желающие спастись, как скоро они сделаются любителями истины и захотят избежать
гнева и суда Божия» (гл. 13). Те три дня, которые были прежде создания светил,
суть, по мнению Феофила, образы Троицы, Бога и Его Слова и Премудрости» (гл.
15). Последнее толкование важно в том отношении, что свт. Феофил первый из
отцов Церкви употребил слово Троица. В творении человека он останавливает внимание
своего слушателя на таких особенностях, которые отличают создание человека
от создания других земных предметов и живых существ. «Словами: «сотворим человека
по образу и подобию Нашему», — говорит Феофил, — Бог, во-первых, показывает
достоинство человека. Сотворив все словом, Он как бы почитал это маловажным,
и только создание человека бессмертного почитает делом, достойным Своих рук.
Далее, как бы нуждаясь в помощи, Бог говорит: «сотворим человека по образу
и подобию». Никому другому не сказал Он: «сотворим», как Своему Слову и Своей
Премудрости. «И создал Бог человека из персти от земли, и вдунул в лицо его
дыхание жизни и человек стал живой душой» (Быт. 2, 6-7). Поэтому весьма многими
душа названа бессмертною. Сотворив человека и дав благословение на то, чтобы
он размножался и наполнял землю, Бог все покорил его власти и господству» (гл.
18-19).
Покончив с толкованием творения, Феофил опять возвращается к библейскому тексту
и говорит о помещении человека в раю, с запрещением есть плоды от дерева познания
добра и зла, о сотворении Евы (Быт. 2, 15-25), о грехопадении первых людей
и наказании за него (Быт. 3, 1-24, гл. 2-21). На истории грехопадения он должен
был прервать нить библейского повествования, так как Авто-лик превратно истолковал
хождение Бога в раю, видя в этом случае ограничение Бога пространством и думая
поймать Феофила на противоречии с его прежним указанием на невозможность ограничить
Бога каким-либо местом. Феофил пояснил Автолику, что «Бог и Отец всего необъятен
и не находится в каком-либо месте, ибо нет места упокоения Его. Слово же Его,
через которое Он все сотворил, будучи Его силою и премудростью, приняв вид
Отца и Господа всего, — Оно ходило в раю под видом Бога и беседовало с Адамом.
И само Священное Писание научает нас, что Адам говорил, что «он услышал голос».
Что же такое голос, как не Слово Бог, которое есть и Его Сын? Не так, как ваши
поэты и мифологи говорят о сынах богов, рожденных от совокупления, но как истина
сказывает — Сын есть Слово, всегда сущее в недре Бога. Но прежде, нежели что-либо
произошло, Бог имел Его советником, так как Он есть Его ум и мысль. Когда же
Бог восхотел сотворить то, что Он определил, Он родил сие Слово внепроявленное,
перворожденное всей твари, не так, однако, чтобы Сам лишился Слова, но Он родил
Слово и вместе со Словом всегда пребывал. Посему нас учат священные писания
и все духоносцы, из них Иоанн говорит: «В начале было Слово и Слово было у
Бога», показывая этими словами, что и сперва был один только Бог и в Нем Слово.
Потом он говорит: «Бог был Слово; все через Него сотворено и без Него ничто
не сотворено» (Ин. 1, 1-3). Итак, сие Слово, Которое есть Бог и от Бога рождено,
Отец вселенной, когда хочет, посылает в какое-либо место, и Оно, посланное
Богом, когда является, бывает слышимо и видимо и находится в известном месте»
(гл. 22).
Феофил разрешает и другой недоуменный вопрос, вызываемый историей грехопадения,
именно: каким был человек до грехопадения, смертным или бессмертным по природе.
По мнению Феофила, «он сотворен по природе ни смертным и ни бессмертным. Ибо
если бы Бог сотворил его вначале бессмертным, то сделал бы его Богом; если
же, наоборот, сотворил бы его смертным, то Сам оказался бы виновником Его смерти.
Итак, Он сотворил его ни смертным и не бессмертным, но способным к тому и другому,
чтобы, если устремится он к тому, что ведет к бессмертию, исполняя заповедь
Божию, получил от Него в награду за это бессмертие, и сделался бы Богом; если
же уклонится к делам смерти, не повинуясь Богу, сам был бы виновником своей
смерти. Ибо Бог создал человека свободным и самовластным. Как непослушанием
человек навлек на себя смерть, так повиновением воле Божией желающий может
доставить себе вечную жизнь. Ибо Бог дал нам закон и святые заповеди, исполняя
которые всякий может спастись и, достигнув воскресения, наследовать нетление»
(гл. 27).
Продолжая после этих необходимых разъяснений библейских рассказ, Феофил говорит
о рождении у изгнанных из рая Адама и Евы первых детей — Каина и Авеля (Быт.
4, 1-2), об убиении первым второго и проклятии за это Каина (8-12), о первоначальном
потомстве Каина и зарождении среди него первых искусств (17-22), о рождении
у Адама и Евы Сифа (25; гл. 29-30). Опустивши дальнейшую родословную Адама
до Ноя и его семейства включительно, как указанную в другой его книге [2],
Феофил начинает свою речь с событий, последующих за потопом, и доводит свой
рассказ
до рассеяния народов и расселения их по разным странам (гл. 31-32).
Из своего повествования Феофил делает заключение, что «только одни христиане
обладают истиной, так как научены Святым Духом, Который говорил в святых пророках
и все предвозвестил», тогда как языческие мудрецы, поэты и историки, не опиравшиеся
на достоверные источники, не могли сказать об этом истины и ввели множество
богов, которые сами родились после возникновения городов, войн и т. д. (гл.
33). Если же в языческих сочинениях встречаются правдоподобные и приближающиеся
к истине известия, то они представляют результат знакомства с несомненно истинными
сказаниями пророков (гл. 37). «Итак, — говорит Феофил Автолику, — должно учиться
желающему учиться. Старайся же чаще со мною сходиться, чтобы, слыша еще живую
речь, верно узнать истину» (гл. 38).
1. Небо, как видно из дальнейшего рассказа, Феофил понимает в физическом смысле,
не подразумевая под ним мира ангельского, как установлено нашими догматиками.
2.
Которая утеряна.
Книга третья
В третьей книге дается разбор обвинений христиан в безнравственности и в позднем
появлении их религии, изобличающем, по мнению язычников, ее неистинный характер.
На первый пункт обвинений дается ответ, что безнравственность царит среди самих
язычников, узаконяемая примером их богов, тогда как христиане содержат божественное
учение, проникнутое требованием самой строгой нравственной чистоты от своих
последователей. Обвинение же в новизне христианской религии опровергается сравнением
библейской и языческой хронологии, которое дает видеть, что священные книги
христиан восходят к такой глубокой древности, какой не имеют за собою книги
языческие.
Обвиняя христиан в безнравственности, язычники указывали, что христиане «имеют
общих для всех жен и живут в незаконном смешении, даже совокупляются с собственными
сестрами и, что всего безбожнее и бесчеловечнее, едят человеческую плоть» (гл.
4).
Прежде чем опровергать эти обвинения и показывать их неприложимость к христианам,
Феофил указывает Автолику на книги Зенона, Диогена и Клеанфа, «которые учат,
что дети могут варить и пожирать своих собственных отцов, и если кто не захочет
вкусить или извергнет часть отвратительной пищи, может и сам, неядущий, быть
съеден». В книгах же Геродота он находит действительные случаи антропофагии
или каннибализма. Так, по словам Геродота, Камбиз [1], убив детей Гарпага
и сварив, предложил отцу их в пищу. Об индийцах он также рассказывает, что
у них отцы
были пожираемы собственными детьми (гл. 5).
«И о незаконных совокуплениях, — говорит Феофил, — согласен почти весь заблуждающийся
хор ваших философов. И первый — Платон, наиболее почтенный из них по своей
философии, в первой книге [2] своего сочинения о политике
выразительно как бы узаконяет, что должны быть у всех общие жены, пользуясь
примером сына
Зевсова
и законодателя Критян [3], на том основании, будто через это увеличивается
чадородие и будто удручаемые трудами получают утешение от таких общений...
Да и что мне
еще говорить об этом, когда о так называемых у них богах они проповедывали
подобные дела (гл. 6)? Поэты ваши полногласно воспевают великие злодеяния Зевса.
Нужно ли перечислять распутство так называемой матери богов, или Зевса Латиария,
жаждущего крови человеческой, или оскопленного Атиса? Умалчиваю о храмах Антиноя
и о прочих, называемых богами: ибо что рассказывается об них, возбуждает смех
в различных людях» (гл. 8).
Совершенно другим характером, по словам Феофила, отличается христианское учение.
«Мы, — говорит он, — признаем Бога, единого, Создателя, Творца и Устроителя
всего мира, Который учит нас поступать правдиво, быть благочестивыми и делать
добро (гл. 9). В данном Им через Моисея Законе повелевается чтить единого истинного
Бога и отвергать всех других богов, почитать родителей, не прелюбодействовать,
не убивать, не красть, не свидетельствовать ложно, не завидовать (Исх. 20,
4, 12-17) и не притеснять пришельца (Исх. 23, 9; гл. 9-10). Когда же народ
иудейский, которому был дан этот закон, преступил его, то Бог, благий и милосердый,
не желая погубить иудеев, послал к ним пророков из братьев их, вразумлять их
и напоминать им заповеди закона и обращать их к покаянию, чтобы впредь не грешили».
О покаянии и обращении к Богу говорили пророки — Исайя (Ис. 55, 6; 31, 6),
Иеремия (Иер. 6, 9) и Иезекииль (Иез. 18, 21-23). О справедливости учили —
Исайя (Ис. 1, 16; 58, 6-8), Иеремия (Иер. 6, 16), Осия (Ос. 12, 6 и 13, 4),
Иоиль (Иоил. 2, 16) и Захария (Зах. 8, 9). О чистоте говорит Соломон (Притч.
6, 25 и 6, 27-29) и еще сильнее евангельский голос, который запрещает даже
смотреть на женщину с вожделением, жениться на разведенной или разводиться
с женою (Мф. 5, 28-32). Пророки и евангелие, наконец, учат любить врагов (Ис.
66; Мф. 5, 44, 46), не тщеславиться добрыми делами (Мф. 6, 3), повиноваться
начальствам и властям, и молиться за них (1Тим. 2, 2; гл. 11-14).
«Итак, смотри, — заключает отсюда Феофил — те, которые так учат, могут ли
жить распутно и входить в незаконные совокупления, или, что всего безбожнее,
есть человеческую плоть, особенно когда непозволительно нам смотреть даже на
игры гладиаторов, чтобы нам не быть участниками и свидетелями убийства? Не
должно смотреть и на остальные зрелища, чтобы не осквернились наши глаза и
уши, принимая участие в произносимых там словах. Ибо скажет ли кто об ядении
человеческой плоти, — там пожираются дети Фиеста и Тирея; или о прелюбодеянии,
— там представляются на сцене не только прелюбодеяния людей, но и богов, о
которых возвещают благозвучно, получая за это почести и награды. Да будет далека
от христиан мысль о делах такого рода: у них находится целомудрие, выполняется
воздержание, соблюдается единобрачие, сохраняется чистота, истребляется неправда,
искореняется грех, уважается справедливость, почитается закон, совершается
богопочтение; Бог исповедуется, истина господствует, благодать сохраняет, мир
ограждает, Слово Божие руководит, мудрость учит, жизнь управляет, Бог царствует
(гл. 15).
Хочу теперь с помощью Божией подробнее изложить тебе хронологию, чтобы ты
узнал, что не ново и не баснословно наше учение, но древнее и достовернее всех
ваших поэтов и писателей, писавших о неизвестном. Сколь же более знаем истину,
наученные от святых пророков, исполненных Святого Духа Божия! Потому-то все
пророки говорили согласно друг с другом, и предвозвещали будущие события всего
мира. Ибо любящие знание или лучше — любящие истину из самого исполнения предвозвещенных
и уже совершившихся событий могут убедиться, что вполне истинно и то, что возвещено
ими о летах до потопа, о том, сколько лет прошло от сотворения мира до нашего
времени, и таким образом могут увериться, что лживо говорили ваши писатели
и что неистинно сказанное ими» (гл. 16-17).
Древность библейского сказания Феофил, во-первых, доказывает древностью автора
первых книг Библии — Моисея, который жил раньше многих лиц и событий, считавшихся
у язычников очень древними. Так, выход евреев из Египта под предводительством
Моисея, по счислению Феофила, предшествовал на 330 лет переселению Даная в
Аргос и на 900 или 1000 лет — троянской войне [4] (гл. 21).
Затем он указывает, что построение Соломонова храма, состоявшееся спустя 560
лет по выходе евреев из Египта, было на 133 года и 8 месяцев раньше основания
Карфагена, в чем можно убедиться из истории тирского царства Менандра Ефесянина,
в которой дается полная хронология тирских царей от Иерома (Хирама), современника
Соломона, до Пигмалиона, в царствование которого был основан Карфаген (гл.
22). Наконец, один из самых поздних пророков — Захария писал раньше, чем появилось
законодательство Солона (гл. 23).
Достоверность библейского сказания Феофил доказывает как не допускающею никаких
сомнений и колебаний ясностью и правдивостью рассказа, например о потопе (гл.
19), так и самой точной хронологией еврейских патриархов, судей и царей (гл.
23-24), которою время от сотворения мира до потопа определяется в 2242 года
(гл. 24 и 28), тогда как языческие писания о давно прошедших временах не имеют
этих признаков истинности рассказа. Аполлоний Египтянин произвольно насчитывает
от сотворения мира пятьдесят миллионов три тысячи семьдесят пять лет (гл. 16).
О потопе «Платон говорит, что он был не по всей земле, а только на равнинах,
и что некоторые спаслись бегством на высочайшие горы. Другие же говорят, что
были тогда Девкалион и Пирра, и они спаслись в ковчеге, и что Девкалион, вышед
из ковчега, бросал назад камни, из которых сделались люди. Иные же говорили,
что был Климент при другом потопе» (гл. 18).
«Итак, — замечает Феофил, — из рассмотрения времен и всего нами сказанного,
можно видеть древность пророческих писаний и божественность нашего учения,
— что не ново это учение, и не баснословны и не ложны наши верования как думают
некоторые, но самые древние и истинные (гл. 29), — древнее и истиннее писаний
греческих и египетских, и всяких других историков. Геродот, Фукидид, Ксенофонт
и другие историки начинали писать с царствования Кира и Дария, и не имели возможности
сказать более достоверное о древних и первоначальных временах» (гл. 26).
«Итак, если хочешь, прилежно читай эти книги мои, чтобы тебе иметь советника
и залог истины» (гл. 29).
1. Факт, указанный Феофилом, Геродот приписывает не Камбизу,
а Астиагу, который сварил сына Гарпага (Геродот. «История». 1,119).
2. Не в первой, а в пятой.
3. Миноса.
4. Феофил, очевидно, следует мнению Иосифа Флавия, которого
держались Тертуллиан и Кирилл, тогда как более правильно от
Моисея до троянской войны
насчитывают
около 400 лет (Татиан, Климент, Александр и Евсевий).
Ермий
До крайности скудные сведения об Ермие почерпаются только из заглавия его
сочинения, из которого видно, что Ермий назывался философом и написал книгу
о предмете, хорошо ему известном и некогда близком его сердцу. Труд его носит
название «Осмеяние языческих философов».
В положении обращавшихся в христианство язычников, бывших философами, или,
по крайней мере хорошо знакомых с языческой философией, возможно двоякое отношение
к ней: или известное уважение к лучшим из ее воззрений, как это видно из примера
св. Иустина, или же, в целях доказать несравненное превосходство над нею богооткровенной
истины, строгое осуждение всех выработанных ею понятий. Последнее замечается
у всех почти апологетов и особенно бросается в глаза в труде Татиана. Ермий
в своих взглядах на философию примыкает к этой второй категории христианских
писателей. И более трезвое отношение к предмету своего прежнего увлечения и,
в особенности, слова ап. Павла «премудрость мира сего есть безумие перед Богом»
(1 Кор. 3, 19), убедили его, что языческая мудрость философов не только не
может идти ни в какое сравнение с мудростью христианскою, полученною от Самого
Бога, но и не заключает в себе ничего истинного. Поэтому осмеяние философских
систем всех направлений занимает весь его небольшой литературный труд, не оставляя
места для изложения христианских истин и защиты христиан. Он показывает, что
философы, несмотря на их многочисленность и присутствие среди них крупных мыслителей,
не выработали истинного представления даже о человеке и тем более не могли
придти к соглашению относительно основного начала, от которого произошел весь
мир. Каждый философ создал свою теорию, несогласную с другими и отрицающую
их.
На основании внутренних признаков, издание сочинения Ермия относятся к концу
II века по Р. X.
Ермия Философа осмеяние языческих философов
Апостол Павел в послании к Коринфянам возвещает: «Премудрость мира сего есть
глупость в очах Божиих» (1 Кор. 3, 19), и это сказал он не мимо истины, ибо
философы, излагая свои учения, не согласны между собою ни в словах, ни в мыслях.
Так, одни из них душу человеческую признают за огонь, как Демокрит; другие
— за воздух, как стоики; иные за ум, иные за движение; другие — за испарение,
другие за силу истекающую из звезд, другие за число, одаренное силою движения,
как Пифагор и т.п. (гл. 1). Далее, одни говорят, что природа души бессмертна,
другие, — что она смертна, третьи, — что она существует на короткое время;
одни низводят ее в состояние животных, другие — разлагают в атомы; одни утверждают,
что она переходит в тела трижды, другие назначают ей такое странствование в
продолжение трех тысяч лет. Как назвать эти мнения? Не глупостью ли, или безумием,
или нелепостью, или всем этим вместе? То я бессмертен, и радуюсь; то я смертен
и плачу; то разлагают меня на атомы; я становлюсь водою, становлюсь воздухом,
становлюсь огнем; то я не воздух и не огонь, но меня делают зверем, или превращают
в рыбу, и я делаюсь братом дельфинов. Смотря на себя, я прихожу в ужас от своего
тела, не знаю, как и назвать его, человеком ли, или собакой, или волком, или
быком, или птицей, или змеем, или драконом, или химерою. Те любители мудрости
превращают меня во всякого рода животных, в земных, водяных, летающих, многовидных,
диких или домашних, немых или издающих звуки, бессловесных или разумных. Я
плаваю, летаю, парю в воздухе, пресмыкаюсь, бегаю, сижу. Является, наконец,
Эмпедокл, и делает из меня растение» (гл. 2).
Еще больше разногласия и взаимоотрицания находит Ермий в философских понятиях
о мире и Боге. Он указывает, что Анаксагор за начало всех вещей считает ум,
Парменид — единое, вечное, беспредельное, неподвижное и совершенно равное себе,
Анаксимен — воздух, Эмпедокл — ненависть и любовь, Фалес — воду, Анаксимандр
— вечное движение, Архелай — теплоту и холод, Платон в начале всех вещей ставит
Бога, материю и идею, Аристотель — два начала: одно деятельное, а другое страдательное,
Ферекид — Зевса, Хфонию и Кроноса, понимаемых в смысле эфира, земли и времени,
Левкипп — атомы, Демокрит — сущее и несущее (полноту и пустоту), Клеанф — Бога
и материю. Карнеад и Клитомах учат, что природа вещей непостижима; Пифагор
говорит, что начало всех вещей есть единица, а из ее разнообразных форм и чисел
происходят стихии. Эпикур указывает на недостаточность Пифагоровского измерения
единицею, так как кроме этого мира есть множество других беспредельных миров
(гл. 3-10).
Излагая разнообразнейшие философские взгляды, Ермий картинно изображает, как
он, усвоив каждое новое учение, увлекался им и признавал его истинность, но
потом, после знакомства с другими учениями, отвергал прежние и отдавал предпочтение
новейшему из них, пока, наконец, от разнообразия полученных идей и впечатлений
у него не закружилась голова. Кроме того, он отмечает смешные стороны в жизни
философов, например, что Эмпедокл бросился в вулкан Этну, Клеанф нашел смерть
на дне колодезя, а пифагорейцы отличались важностью и молчаливостью, учение
свое передавали, как таинства, и главным доказательством его истинности выставляли
то, что это «сам Пифагор сказал». От такой своеобразной манеры рассказа сочинение
Ермия читается легко и с интересом.
В заключение он говорит: «Все это я высказал с тою целию, чтобы видно было,
как философы противоречат друг другу в мнениях, как исследования их теряются
в бесконечности, ни на чем не останавливаясь, и как недостижима и бесполезна
цель их усилий, не оправдываемая ни очевидностью, ни здравым разумом» (гл.
10).
Тертуллиан
Ряд западных апологетов, выступивших на защиту христианства в самом конце
второго века, начинает собою Тертуллиан.
Квинт Септимий Флоренс Туртуллиан родился (приблизительно в 150-160 г.) в
африканском городе Карфагене от языческих родителей. Хорошие материальные средства
его отца, бывшего центурионом (сотником) проконсульского войска, дали Тертуллиану
возможность изучить все, что считалось необходимым знать тогдашнему образованному
человеку, — историю, мифологию, красноречие, философию, физику и другие науки.
Он знал даже по-гречески и мог не только читать, но и легко писать на этом
языке. А так как в Карфагене, как и в Риме, в его время самою модною и необходимою
наукою, которая давала доступ ко всем государственным должностям, считалась
юриспруденция, то Тертуллиан и в этом отношении не отстал от века, сделав ее
своею специальностью. Во всех его литературных произведениях сразу чувствуется
блестящий оратор и хороший знаток римского права. Кроме того, и Евсевий называет
его точным знатоком римских законов (Евсевий. «Церковная История», II, 2).
На этом основании все исследователи полагают, что первой его профессией было
преподавание красноречия и адвокатура.
Вступив в жизнь по выходе из школы, Тертуллиан показал себя истинным африканцем
со всеми его достоинствами и недостатками. Когда кипучая, пуническая кровь
и молодые силы потребовали исхода и удовлетворения, Тертуллиан, подобно большинству
молодых людей своего круга, предался удовольствиям разгульной жизни. Карфаген
был именно таким городом, где увлечься подобною жизнью было всего легче. Самый
климат, чувственная религия, недостаток морали, всеобщий цинизм и развращение,
едва прикрытые внешними приличиями, представляли такие соблазны, против которых
могли устоять лишь немногие. Цирк, театр и другие чувственные удовольствия
завладели вниманием Тертуллиана, но ненадолго. Его недюжинная натура не могла
удовлетворяться тем, чем удовлетворялось большинство. Вся эта пустая жизнь
с ее мимолетными удовольствиями оказалась мелкою и ничтожною для его мощного
духа, одаренного гораздо лучшими потребностями, чем желание чувственных наслаждений.
Но где же было искать удовлетворения той духовной жажды, которая неизбежно
явилась после того, как он покончил со своею разгульной жизнью? Очевидно, —
не в язычестве, которое было несостоятельно во всех отношениях. Религиозно-нравственная
сторона его стояла ниже всякой критики и никоем образом не могла удовлетворить
образованного человека, переросшего ее грубые, невежественные понятия. Философия,
которая одна могла несколько примирять с язычеством, во время Тертуллиана дробилась
на множество школ, противоречащих одна другой и, не пришедши ни к каким положительным
результатам, закончила свои исследования полным скептицизмом, сомнением даже
в возможности достоверного познания. Все это понял Тертуллиан, когда трезво
взглянул на дело. Он увидел теперь, что язычество действительно не в состоянии
ответить на многие, самые существенные запросы человеческого духа. Это значительно
охладило его ревность к язычеству, которому раньше он так искренно служил,
осмеивая и преследуя христианство. «И мы некогда смеялись над этим», — говорит
он, указывая на христианские догматы о единстве Божием, о творении человека,
о воскресении мертвых, о вечных наградах и наказаниях («Апологетик», гл. 18).
Не разрывая своих связей с язычеством фактически, он мысленно уже был далеко
от него и, как человек, привыкший жить полною жизнью, тяготился сознанием пустоты,
явившейся после убеждения в несостоятельности язычества. Желание остановиться
на чем-нибудь прочном и устойчивом не покидало его. В это самое время христианство,
к которому он относился прежде с беспричинною ненавистью, обратило на себя
его внимание. Теперь он мог уже не так предубежденно взглянуть на него, как
прежде. Стойкость христиан в несчастиях, их добродетельная жизнь, как явления
слишком светлые и выдающиеся среди тогдашней распущенной жизни, поразили его
и навели на мысль, что такое учение, которое может до неузнаваемости изменять
нравы людей и заставлять их бестрепетно идти на мучения и самую смерть, может
дать успокоение и его мятущемуся духу. Тертуллиан стал ближе знакомиться с
христианством, и это знакомство убедило его в несравненном превосходстве перед
язычеством, а чтение священных книг христиан окончательно решило отпадение
его от язычества и переход в христианство. Епископ карфагенский Агриппин крещением
довершил дело обращения Тертуллиана, когда последнему было 30 или немного более
лет от роду.
Новой религии Тертуллиан предался искренно и всецело, посвятивши на служение
ей все свое время и все свои силы. Церковь в его время находилась в крайне
затруднительном положении: внешне она была гонима язычниками, внутри ее ослабляли
еретики. Со всею ревностью новообращенного и всею страстностью своей пылкой
натуры вступил Тертуллиан в борьбу с теми и другими врагами христианства. В
сравнительно короткий период времени (5-6 лет) он написал немало сочинений
против язычников, иудеев и еретиков, которые доставили ему славу выдающегося
церковного писателя. За такую ревность к интересам христианства и за строгую,
почти подвижническую жизнь, Тертуллиан был назначен пресвитером в свой отечественный
город Карфаген.
Но слава его как защитника и служителя Церкви омрачилась переходом его в монтанизм.
Как и везде, в этом случае все дело объясняется его пламенным темпераментом,
которому не доставало терпения и выдержки, и пылким воображением, наталкивавшим
его на разные крайности. Принявши христианство в силу его религиозного и нравственного
превосходства пред язычеством, он в жизни христиан хотел видеть полное осуществление
евангельского идеала. Между тем, в современном христианском обществе случались
отступления от него, на которые Церковь смотрела довольно снисходительно. Она,
например, допустила второй брак, бегство во время гонений, принимала падших,
что, по мнению Тертуллиана, оскверняло чистое христианское общество и потому
не должно быть в нем терпимо. Недовольный существующими церковными порядками
и жизнью современных ему христиан, он обратил внимание на распространившееся
с половины II века учение фригийских монатнистов, суровый ригоризм которых
соответствовал его религиозной настроенности. Тертуллиану могло нравиться,
что они поносили брак, как жалкую уступку человеческой слабости, а второй брак
считали даже своего рода прелюбодеянием и запрещали его. Ему, постоянно занятому
борьбою с диавольскими кознями, были по душе, как средства противодействия
диаволу, суровые предписания монтанистов о покаянии, постах, более частых и
продолжительных, чем в православной церкви. Недовольный церковной дисциплиной,
Тертуллиан видел, что монтанисты к человеческим слабостям относятся с крайнею
суровостью. Учение их о том, что блуд и прелюбодеяние не могут быть отпущены
на земле, стремление их к мученичеству, отказ принимать в свое общество падших
во время гонений, взгляд на них, как на непростительных грешников, которым
навсегда заграждены врата Церкви, — согласовались с собственными воззрениями
Тертуллиана. Мистические бредни монтанистов о видениях в состоянии экстаза
также нравились Тертуллиану, уже по природе своей склонному к мистицизму. Все
это заставило Тертуллиана поспешить переходом в монтанизм (в 200-202).
В монтанистический период своей жизни Тертуллиан является искренним врагом
православия. Он составляет несколько сочинений, в которых, с одной стороны,
старается представить в смешном виде его принципы и обычаи, а с другой, — внушить
уважение и придать значение доктринам своей секты. Но Тертуллиан и монтанизму
не остался верен до конца, так как он не оправдал его надежд. Увлекшись монтанизмом
за его мнимую строгость, он должен был с горечью убедиться, что все это было
только напускное, только наружное. И в среде монтанистов часто можно было встретить
корыстолюбие, честолюбие, разврат и другие пороки, которые по идее не должны
были существовать в этом обществе «духовных людей», как любили себя называть
монтанисты. Это побудило Тертуллиана отступить от монтанизма, но не привело
его к обращению в православие. Оставаясь по-прежнему ригористом, он собрал
вокруг себя партию единомышленников, которая с именем тертуллианистов существовала
до V века и была уничтожена усилиями блаж. Августина. Тертуллиан дожил до глубокой
старости и умер в тридцатых годах третьего столетия.
В ряду апологетических трудов Тертуллиана по своему значению и важности первое
место занимает «Апологетик». Это было образцовое произведение, в котором, по
словам блаж. Иеронима, Тертуллиан изложил всю ученость своего времени, а по
мнению Лактанция, — изобразил состояние Церкви. «Апологетик» написан в православный
период жизни Тертуллиана, в первую половину царствования императора Септимия
Севера, приблизительно в 199-200 году. Он адресован ко всем наместникам (praesides)
римских провинций вообще и африканских в частности, распоряжения которых ближе
всего касались единоплеменных Тертуллиану христиан. Поводом к его написанию
послужили оскорбления и преследования христиан со стороны языческой черни,
в которых принимали участие и римские правители, пользуясь анархией во время
трехлетней борьбы Септимия Севера с двумя другими претендентами на престол
и вообще слабостью центральной власти, занятой другими интересами и не имеющей
поэтому возможности оградить христиан от совершающихся над ними несправедливостей.
Известно, что в 188 г. жрицы богини Целесты возбудили ярость языческой черни
против христиан и с помощью иудеев оскверняли их кладбища и производили нападения
на церковные собрания. Христиане были оскорбляемы грубыми карикатурами и подвергались
гнусным клеветам. В Карфагене в 180 году были избиты сциллитанские мученики,
а в 198 году казнью Намфана и мучеников в Мадавре начались новые кровопролития.
При таких обстоятельствах Тертуллиан поспешил изданием своего «Апологетика».
Второе место после «Апологетика» занимают две книги «К народам», — сочинение
настолько сходное с первым, что в нем можно встретить не только одни и те же
мысли и одинаковые доказательства, но нередко почти дословные выражения. Неоднократное
замечание Тертуллиана, что о некоторых предметах он будет говорить в другом
сочинении и исполнение этого обещания только в «Апологетике» заставляет предполагать,
что книги «К народам» написаны раньше «Апологетика» и послужили для него образцом.
Разница между ними в том, что «Апологетик», адресованный к лицам знатным, более
тщательно обработан, чем книги «К народам», назначенные для простого народа.
Написано это сочинение приблизительно в 198 году.
Кроме указанных двух больших произведений, у Тертуллиана есть еще два маленькие
апологетические сочинения — «К Скапуле», «О свидетельстве души» и одно полемическое
— «Против иудеев». Первое из них адресовано к Скапуле, африканскому проконсулу.
Поводом к его написанию послужило то обстоятельство, что после некоторого роздыха,
который был дан христианам между 205 и 210 годами, снова начались гонения против
христиан, в которых Скапула принимал очень деятельное участие. По словам Тертуллиана,
он хотел казнить десятого из всех христиан Карфагена («К Скапуле», гл. 3).
Время написания этого сочинения, судя по заключающимся в нем историческим данным,
падает на 211 год.
Все апологетические сочинения Тертуллиана носят на себе отпечаток пылкого
темперамента их автора: борьбе с противниками, как и всякому другому делу,
Тертуллиан отдается всецело, стараясь развить их и уничтожить, как своих личных
врагов, причем пускает в ход все имеющиеся у него многочисленные и разнообразные
средства — логику, диалектику, остроты, сарказмы и т.д.
Апологетик
В «Апологетике» после введения, в котором доказывается беспричинность языческой ненависти к христианам и несправедливость римского судопроизводства по отношению к ним, дается защита христиан от народных и государственных обвинений, из чего делается заключение о превосходстве христианства перед язычеством и необходимости прекратить гонение на христиан.
«Если вам, власти римской империи, — говорит Тертуллиан, не угодно допускать христиан к защите их дела перед судом, то да позволено будет истине дойти до вашего слуха, по крайней мере, скрытным путем при помощи безмолвных букв. Она не просит милости, так как знает, что она странница на земле, что ее происхождение, ее место, ее надежды, ее покровительство и слава на небе. Что потеряют законы, господствующие в империи, если будет выслушана защита истины? Не выслушивая ее, вы заставляете думать, что не хотите выслушать защиты, потому что раз вы ее выслушаете, то уже не будете в состоянии осудить ее».
Подготовив себе этим ловким ораторским приемам почву для дальнейшего рассуждения, Тертуллиан указывает затем, что беспричинной ненависти язычников прежде всего подвергается имя христиан. Недостаточное знакомство с христианами, как главную причину ненависти к их имени, он поставляет в особую вину язычникам. «Ненависть, — говорит он, — тогда только бывает законна, когда существует уверенность в том, что предмет ненависти действительно ее заслуживает, и нет ничего на свете более несправедливого, как ненависть к тому, чего не знаешь». На возражение язычников, что среди христиан могут быть и преступники, — он отвечает: «Злодеи любят мрак; избегают показываться явно; схваченные, они дрожат, при обвинении — они отрекаются; даже в пытках они не сознаются вовсе, или же сознаются в последнюю минуту; при осуждении скорбят. Можно ли встретить что-либо подобное среди христиан? Никого христиан не стыдится, ни в чем не раскаивается, кроме того, что не всегда был христианином. Если на него доносят, что он принадлежит к числу христиан, он радуется; при обвинении не защищается; после осуждения благодарит. Какой странный род преступления, не имеющий его характерных признаков: боязни, увертки, раскаяния, сожаления! (гл. 1).
Наконец, если верно, что мы очень преступны, почему же вы обращаетесь с нами иначе, чем с другими преступниками, равными нам? Другие обвиняемые могут доказывать свою невинность сами или при помощи адвоката. Одним христианам ничего не позволено говорить в свое оправдание. Даже розыск по нашему делу воспрещен. Траян ответил (Плинию), что не надо христиан разыскивать; если же их схватят по доносу, то следует казнить. Увы, приказ противоречивый в силу необходимости! Траян объявляет нас невинными, запрещая нас разыскивать, и в то же время считает преступными, приказывая казнить; он милостив и беспощаден, податлив и суров. Вы осуждаете (христианина), на которого донесли, и в то же время запрещаете делать розыск, и следовательно, он заслуживает наказания не потому, что преступен, а потому что найден без розыска. Вы нарушаете все формы судебного процесса по отношению к нам, потому что других обвиняемых вы пытаете, чтобы заставить их сознаться, а христиан, наоборот, для того, чтобы заставить их отречься от имени христианин, т.е. отречься вместе с этим от всех преступлений, о которых вы заключили по исповедании истины. Ведь законы, если я не ошибаюсь, приказывают находить преступников, а не скрывать их; они предписывают казнить их, раз они сознались в преступлении, а не освобождать. А христианина, человека, виновного, по вашим словам, во всех преступлениях, врага богов, императоров, законов, нравственности, врага всей природы, вы принуждаете отречься, чтобы быть в состоянии освободить его, так как нельзя освободить его, если не отречется. Явное извращение закона!» (гл. 2).
После этого Тертуллиан показывает, до какого явного безумия доводит слепая ненависть к христианскому имени. «Ненависть, которую толпа питает к этому имени, у большинства людей так слепа, что они, даже хваля христианина, вменяют ему в преступление его имя. «Кай, — говорит один, — хотя добрейший человек, но христианин. Удивительно, — говорит другой, — что такой умный человек, как Луций, сделался христианином». А никто и не подумает, что Кай добр или Луций умен, потому что они христиане, или они потому христиане, что один умен, а другой добр. Некоторые даже предпочитают вредить себе, лишь бы не мириться с именем, которое им так ненавистно. Муж, не имеющий более повода к ревности, разводится с женою, которая, сделавшись христианкою, стала целомудренною. Отец лишает наследства покорного сына, прежнее непослушание которого охотно переносил. Господин прогоняет от себя верного раба, с которым прежде обходился кротко. Ненависть к христианскому имени берет верх над всяким добром, проистекающим из него. Может быть звук этого слова непривычно поражает уши, или оно звучит зловеще, оскорбительно или намекает на бесстыдство? Нисколько! Слово христианин происходит от греческого слова, означающего помазание. Когда произносите его неправильно, то оно и тогда не имеет другого значения, как только добрый, приятный. Следовательно, ненавидят невинное имя невинных людей; ненавидят секту, получившую имя от имени ее Основателя» (гл. 3).
В оправдание своей ненависти к христианскому имени язычники указывали, что христианская религия не дозволена законом. Non licet esse vos (вам не дозволено быть), обыкновенно говорили язычники христианам. В виду этого Тертуллиан рассматривает вопрос о том, что такое закон, каково должно быть отношение к нему, и как все религиозные законы должны применяться к христианам. Вопреки пристрастию римлян к старинным законам и взгляду на них, как на нечто неизменное, Тертуллиан говорит, что закон, как произведение человеческое, подлежит изменению и улучшению, и доказывает это фактами из истории. «Разве лакедемоняне не исправили законов Ликурга? А разве вы сами не очищаете громадный и спутанный лес ваших древних законов новыми рескриптами и эдиктами императоров? Разве император Север, этот коренной враг нововведений, не уничтожил вопреки почтенной древности древний Папиев закон, который преписывал иметь детей раньше срока, назначенного Юлиевым законом для заключения брака? Варварский закон, позволяющий заимодавцу умерщвлять несостоятельного должника, также уничтожен с общего согласия всего народа. Смертная казнь заменена позорным клеймом на лбу и конфискацией имущества. Сколько законов ждут реформы, если действительно законы пользуются уважением не на основании их древности или заслуг законодателей, а соразмерно с проникающей их справедливостью! А пока они признаются несправедливыми, мы имеем право осуждать те законы, которые осуждают нас (гл. 4).
Не безыинтересно для нас заметить, что у нас человеческий каприз решает вопрос о божестве. Если бог не понравится человеку, он не будет богом; здесь человек должен проявить милостивое расположение к богу. Взглянув в летописи, вы узнаете, что Нерон первый извлек императорский меч и открыл первое жестокое гонение против последователей христианской религии, которая при нем только стала распространяться в Риме. Но мы считаем за честь себе, что имеем его во главе наших гонителей, потому что кто знает Нерона, тот поймет, что только что-нибудь слишком хорошее могло преследоваться Нероном. Домициан, наследовавший часть Нероновской жестокости, хотел последовать примеру своего предшественника, но вскоре прекратил гонение. Таковы были всегда наши преследователи — люди несправедливые, безбожные, презренные. Напротив, из всех государей, знавших и уважавших права божеские и человеческие, укажите мне хоть одного, который гнал бы христиан. Что же после этого значат все законы, которые приводили в исполнение только безбожные, несправедливые, презренные, жестокие, пустые, сумасшедшие императоры? Траян отчасти обессилил их указы, запретив разыскивать христиан. Их не признавали ни Адриан, интересовавшийся всем, ни Веспасиан, покоритель иудеев, ни Антонин, ни Вер. Между тем, конечно, было бы приличнее истреблять шайку злодеев (христиан) добродетельным государям, а не тем, которые сами были злодеи» (гл. 5).
Другим основанием языческой ненависти к христианам служили ходившие в обществе слухи о безнравственности христиан. По этому поводу Тертуллиан сообщает, что именно говорили худого про христиан, и дает видеть, как все это неправдоподобно. «Говорят, что в наших мистериях мы убиваем ребенка, съедаем его, и после этого пира мы совершаем развратные поступки, между тем как собаки, пособники наших постыдных наслаждений, тушат факелы, освобождая нас от излишнего света и стыда за позорные страсти. Вы толкуете об этом давно, но ни разу не подумали разузнать правду с тех пор, как начали говорить об этом. Известность христианской религии началась со времени Тиверия. Истину возненавидели, как только она открылась людям. Сколько чуждых ей людей, столько и врагов: иудеи ненавидят ее из зависти, войско — вследствие испорченности, рабы — по характеру своего положения. Постоянно нас держат как бы в осаде, постоянно нас предают; часто врываются насильственно в наши собрания. И что же! Слышал ли кто у нас крик умерщвляемого дитяти? Назовите хоть одного доносчика, который показал бы на суде запекшуюся на губах наших кровь, как у циклопов и сирен? Заметили вы на наших женах христианках какие-нибудь следы развратных оргий, которые вы нам приписываете? А если, по вашим словам, мы постоянно скрываемся, то каким образом могли быть отрыты наши преступления? Сами преступники, участники в мистериях не могли выдать их, потому что во всех мистериях обязательно соблюдается тайна. Но если христиане не изменяют сами себе, то значит их могли выдать посторонние люди? Но каким образом люди, чужие нам, могли познакомиться с нашими мистериями, когда все посвящения пугают профанов и удаляют лишних свидетелей? Если же вы прислушиваетесь к молве, то всякий знает, что такое молва. Она постоянно лжива; даже и тогда, когда она передает истинное, она не перестает обманывать: она вплетает ложь в истину, что-либо прибавляя или убавляя в ней, или же придавая ей иной вид.
Ее характер таков, что она существует только тем, что лжет; она живет дотоле, пока возвещаемое ею не сделается достоверным, и после этого исчезает, так как все достоверное лежит вне области молвы. Поэтому молву никто не приводит в свидетели, и верить ей может только глупый, потому что умный не может верить неверному» (гл. 7).
Доказав недостоверность источника, из которого вышли слухи о христианской безнравственности, Тертуллиан обращается к человеческой природе, показывая, как противны ей преступления, приписываемые христианам. «Призываю в свидетели, — говорит он, — человеческую природу против тех людей, которые подобные слухи считают достойными вероятия. Положим, что мы действительно обещаем вечную жизнь в награду за такие преступления. Но я спрошу вас, согласитесь ли вы купить эту награду столь дорогой ценой? Придите вонзить меч в сердце дитяти, которое никому не сделало зла и которое вы считаете собственным вашим дитятей. Если же столь варварское дело поручается другому, то придите посмотреть насмерть подобного вам человека, лишающегося жизни прежде, нежели вкусил ее. Берите не остывшую кровь, мочите в ней хлеб и ешьте с удовольствием. Во время пира внимательно замечайте места, занимаемые матерью и сестрой, чтобы не ошибиться, когда собаки потушат светильники, так как было бы преступлением не совершить нечестивого поступка. Теперь ответьте мне: желаете ли вы бессмертия на этих условиях? Если нет, то вы не должны верить, что вечная жизнь покупается такой ценой. Если бы вы и поверили, вы не захотели бы; а если бы и захотели, то не могли бы. Если же не можете совершить, то не должны верить этому, потому что христиане такие же люди, как и вы» (гл. 8).
Развивая далее свою мысль о невиновности христиан в возводимых на них преступлениях, Тертуллиан указывает, что слишком грубое нарушение законов человеческой природы и попрание лучших человеческих чувств возможно только в язычестве, которое учится преступлениям у своих богов, тогда как предписания христианской религии заставляют христиан тщательно избегать всего дурного и тем более проступков, противных человеческой природе.
«В Африке, — говорит он, — открыто приносили детей в жертву
Сатурну вплоть до проконсульства Тиверия, который повесил жрецов Сатурна. Но
эти преступные жертвоприношения совершаются и до сих пор, только тайно. Ежели
Сатурн не пощадил собственных детей [1], то может ли он щадить чужих детей,
которых приносят по добровольному обету родители? Древние галлы приносили людей
престарелых в жертву Меркурию. Трагические поэты пусть расскажут вам о кровавых
обычаях Тавриды. Но в Риме, в этом набожнейшем городе благочестивых потомков
Энея [2], разве не поклоняются Юпитеру (Латиару), статуя которого во время игр
окропляется кровью преступников? А нам, которым запрещено всякое убийство,
непозволительно также убивать в утробе матери, прежде чем плод сформируется
в человека. Об ужасных кровавых пирах вы можете прочитать у Геродота, — что
некоторые народы для скрепления заключенных договоров выпивают друг у друга
немного крови, выпущенной из плечевых вен. Но к чему нам ходить так далеко,
когда посвященные в мистерии Беллоны должны пить кровь из рассеченного ребра?
Разве подверженные эпилепсии не сосут у вас с жадностью кровь преступников,
убитых на арене, для своего исцеления? Разве не питаются человеческой кровью
те, которые едят убитых на арене животных, отрывая куски от кабана, от оленя?
Стыдитесь за ваши заблуждения относительно христиан, которым воспрещено употреблять
на пирах даже кровь животных, и которые по этой причине воздерживаются даже
от употребления в пищу животных, удушенных или умерших естественною смертью,
из боязни оскверниться кровью, хотя бы оставшейся во внутренностях! Неужели
вы можете считать виновными в человеческой крови тех, которые, вы видите, питают
ужас к крови животных? Затем, кто развратнее тех, которых приучил к разврату
сам Юпитер? [3] Подумайте, насколько заблуждения способны увеличить разврат
среди вас, преданных разнузданной роскоши! Вы выкидываете своих детей; следы
таким образом рассеянного семейства необходимо должны изгладиться. Таким образом,
заблуждения, увеличиваясь из поколения в поколение, усиливают и упрочивают
разврат. Наконец, так как ваша страсть путешествует с вами повсюду, на родине,
за пределами ее, за морями, то может случиться, что дети, происшедшие от вашей
невоздержности, рассеянные по всем местам, неизвестные вам самим, встретятся
друг с другом или с родителями, не признавая родства между собою. Самая строгая
и надежная чистота оберегает нас от подобного результата, чистоте мы обязаны
тем, что она предохраняет нас от прелюбодеяния и от любострастия в брачной
жизни, как и от разврата. Некоторые, избегая в течение всей своей жизни этих
заблуждений, сохраняют девство до могилы и умирают старцами по возрасту, детьми
по чистоте» (гл. 9).
От обвинений в безнравственности Тертуллиан переходит к общественно-государственным обвинениям христиан в безбожии, в содержании странной и недозволенной религии, в оскорблении величества, в недостатке патриотизма, в том, что христиане — виновники общественных несчастий и, наконец, в бедственном положении христиан.
На самое распространенное обвинение в безбожии он говорит: «Мы перестали почитать ваших богов с тех пор, как узнали, что их нет. Христиане были бы достойны казни, если бы было известно, что боги, которых они не почитают, существуют в действительности. Но для нас, говорите вы, они суть боги. Мы от вас самих переносим дело к вашей совести; пусть она обвинит нас, если в состоянии отрицать, что ваши боги были людьми. Если же и заспорит с нами, то будет обличена древними своими книгами, из которых она получила сведения о богах, потому что они до сего времени свидетельствуют и о городах, в которых эти боги родились, и о странах, в которых оставили по себе следы, и в которых показывают их гробницы. Раньше Сатурна у вас не было ни одного бога. Ни Диодор Сицилийский, ни Фалес, ни Кассий Север, ни Корнелий Непот и никто из историков не говорит о нем иначе, как о человеке. Гора, на которой он жил, получила название Сатурнийской; город, основанный им, до сих пор называется Сатурнией. Наконец, вся Италия, потерявши имя Энотрии, стала называться Сатурнией. Он первый дал законы этой стране, и с его времени стали чеканить монету с его изображением, почему он и считается покровителем общественной казны. Следовательно, Сатурн — человек, а если человек, то сын человека, а не неба и земли. Но так как родители его неизвестны, то легко можно было почесть его за сына неба и земли, которые по справедливости могут называться отцом и матерью всех людей. Я умалчиваю о том, что в те отдаленные времена люди были настолько грубы, что вид нового человека поразил их, как какое-нибудь божество, когда и теперь их просвещенные потомки в число богов включают людей, смерть которых удостоверна общественным трауром (гл. 10).
Не осмеливаясь отрицать, что ваши боги были людьми, вы решились утверждать, что они стали богами по смерти. Посмотрим, какие могли быть тому причины. Прежде всего нужно допустить существование верховного бога, который бы мог сообщать божественность людям. Ведь не могли же бы получить божественность те, которые не имели ее, и никто не мог бы им дать ее, кроме того, кому она собственно принадлежит. Итак, если есть существо, способное делать людей богами, я перехожу к разбору причин, которые оно могло иметь для сообщения людям божественности. Я не нахожу других к тому причин, кроме услуг, в которых бы этот великий бог имел надобность от их содействия. Но, во-первых, неприлично, чтобы он имел нужду в помощи другого и, притом, умершего; приличнее было бы с самого начала создать (себе в помощники) какого-нибудь другого бога. А затем я не вижу даже надобности в существовании этого нового бога. Не может быть несовершенным то существо, которое все сотворило, и не может оно нуждаться в помощи Сатурна и его потомства. Но вы находите другую причину, полагая, что божественность дается в награду за заслуги. Итак, я хочу рассмотреть заслуги ваших богов: достойны ли они быть вознесенными на небо, или быть низвергутыми в тартар. Туда обыкновенно низвергаются нечестивые, делающие кровосмешение с матерями и сестрами, прелюбодеи, обольстители девиц, мужеложники, убийцы, воры, грабители и все те, которые походят на кого-нибудь из ваших богов, из которых вы не можете выставить ни одного, свободного от преступлений и порока, если только не отвергнете его человеческого происхождения. Допустим, что они были честные, хорошие, безупречные люди. Однако же, сколько вы оставили в аду людей, которые превосходнее их, каковы Сократ по своей мудрости, Аристид по своему правосудию, Фемистокл по своей храбрости. Верховный бог ваш, зная наперед, что будут эти лучшие, достойнейшие люди, должен бы дождаться их, чтобы принять их в число богов (гл. 11).
Что же касается самих изображений (статуй), я замечаю, что они составлены из того же самого материала, как всякого рода обыкновенные сосуды и орудия. Художник делает и переделывает их по своей воле, поступая с ними самым жестоким образом. Мы должны утешаться, смотря на то, что они для достижения божества притерпевают те же самые муки, которым вы нас за них подвергаете. Вы скоблите ребра христиан железными когтями; но члены ваших богов подвергаются большему мучению от топоров, скребков и пил. Нас сожигают на огне; то же происходит и с массой, из которой лепят изображения ваших богов. Нас присуждают работать в рудниках; но оттуда берут свое происхождение и ваши боги. Ваши боги не чувствуют ни обид, ни оскорблений, ни почестей ваших. Итак, если мы не почитаем статуй и безжизненных изображений, похожих на изображаемых ими мертвецов, то не заслуживает ли скорее похвалы, чем казни, наше отвержение очевидного для всех заблуждения? Раз мы уверены, что богов не существует, может ли казаться кому-нибудь, что мы их оскорбляем?» (гл. 12).
Далее Тертуллиан показывает, что сами язычники повинны в том, в чем обвиняют христиан, — в непочтительности к своим богам, так как домашних богов (ларов) они закладывают, продают и меняют на различные обыденные предметы, а общественных сдают на откуп с аукциона; в жертву им приносят негодных животных, изморенных, истощенных, больных; в литературе представляют их низкие страсти, а на сцене выставляют их в комичном виде, причем роль богов играют презренные люди, нередко рабы; в храмах составляются планы прелюбодеяния, у алтарей ведутся переговоры со сводниками. «Не знаю, — заключает отсюда Тертуллиан, — на кого ваши боги имеют больше оснований жаловаться, на христиан, или на вас самих!» (гл. 13-15).
Христианам далее ставилось в вину, что, при отрицании языческих богов, они содержат какую-то удивительную религию — поклоняются ослиной голове, кресту, солнцу, распятому человеку. Отвечая на эти обвинения, Тертуллиан относительно первого говорит, что выдумка Тацита, приписывающая иудеям поклонение ослам и перенесенная потом на христиан по сходству их религии с иудейской, опровергается самим же Тацитом, который в другом месте своего сочинения говорит, что Помпеи, вошедший в иерусалимский храм, не нашел там ни одного идола. С другой стороны, как бы признавая справедливость обвинения, Тертуллиан думает, что язычников не должно бы удивлять и возмущать почитание христианами ослиной головы, так как они сами почитают богиню лошадей Епону. Равным образом не должно удивлять их и почитание креста, который встречается у самих язычников в виде основы их статуй, в виде знамен и трофеев. Обвинение в поклонении солнцу, по мнению Тертуллиана, возникло оттого что христиане молятся, обращаясь на восток, и почитают воскресный день, называемый днем солнца. Но и сами язычники часто молятся на восток и в день Сатурна предаются праздности и пированию (гл. 16).
Показав, что язычники в своих обвинениях христианской религии пришли к неправильным заключениям о ней вследствие незнакомства с ней, Тертуллиан после этого показывает им истинные предметы христианского поклонения. «Мы почитаем, — говорит он, — единого Бога, Который Своим Словом, премудростью и всемогуществом сотворил из ничего мир со стихиями, сотворил тела и духов в проявление своего могущества. Он невидим, хотя и можно Его видеть; Он бесконечен, хотя по благодати Его и можно представить себе; Он непостижим, хотя Его можно постигать при помощи разума. Отсюда открывается его истинность и величие. Ведь все, что можно видеть, обнимать, ощущать обыкновенным путем, — ничтожнее глаз, которыми видят, рук, которыми осязают, чувств, с помощью которых ощущают. Бесконечное же только познается Самим Собой. Вот эта-то непостижимость Бога и побуждает стремиться к Его познанию. Могущество Его величия делает Его и непостижимым и постижимым для людей. В этом состоит главная вина тех, которые не хотят познать Того, Которого они не могут не знать. Хотите, мы докажем существование Бога по Его творениям, которые нас окружают, оберегают, радуют, устрашают? Хотите, мы докажем Его бытие на основании свидетельства самой души? Заключенная в темницу тела, обольщенная развращенными наставлениями, обессиленная страстями и вожделениями, порабощенная ложным богам, душа, лишь только пробуждается, как бы с похмелья или от сна, или после болезни обретает свое здоровье, именует Бога единственным именем, которое прилично Ему: «Велик Бог! благ Бог! что Бог даст!» — так говорят все. Душа признает Бога своим судьею, когда говорит: «Бог видит, — Богу отдаю себя на суд, и Бог мне воздаст». Это свидетельство души, по природе христианки! И произнося эти слова, она взирает не на Капитолий, а на небо — там жилище Бога живого, а она знает, что она от Бога и с неба сошла на землю» (гл. 17).
Чтобы не оставить никакого сомнения в существовании истинного Бога с такими признаками, Тертуллиан указывает язычникам на подтверждающие это книги Св. Писания, перевод которых, сделанный при Птоломее Филадельфе, дает язычникам возможность познакомиться с ними. Глубокая древность этих книг, которой язычники придают большое значение, подтверждается тем, что первый писатель их, Моисей, был современником аргосского царя Инаха, жил на 400 лет раньше Даная, на 1000 лет раньше разрушения Трои и на 500 лет раньше Гомера. Остальные пророки (писатели) жили после Моисея, но и позднейшие из них жили раньше древнейших языческих мудрецов, законодателей, историков. Божественное же происхождение книг Св. Писания доказывается тем, что все предсказанное пророками исполнилось с буквальною точностью: земля поглощала города, море затопляло острова, возникали международные и междоусобные кровавые войны — все, как было предсказано. На основании этого нужно верить, что исполнится и то, что предсказано, но еще не исполнилось» (гл. 18-20).
Кроме невидимого Бога, Отца и Творца вселенной, христиане почитают еще Его Сына, Иисуса Христа, Которого язычники неосновательно считают простым человеком. «Пророки, — говорит Тертуллиан, — возвещали иудеям, что Бог в последние времена века изберет Себе из всякого народа и племени и во всех местах земли более преданных поклонников, на которых он излиет большую благодать, сообразно с достоинством Основателя учения. Предсказано было, что посредником и учителем этой благодати и этого учения, светом и вождем рода человеческого будет Сын Божий, рожденный не так, чтобы мог стыдиться Своего происхождения; Он не будет обязан Своим рождением ни кровосмешению с сестрою, ни бесчестию девушки, ни прелюбодеянию с чужою женой, ни отцу-богу, превратившемуся или в змея, или в быка, или в птицу, или в золотой дождь (в этом вы узнаете вашего Юпитера). Сын Божий рожден даже не от супружества: Мать Его не знала мужа. Но прежде я поговорю о Его природе, чтобы вы поняли, каким образом Он родился. Мы уже говорили, что Бог создал вселенную Своим Словом, премудростью и могуществом. Ваши философы (Зенон, Клеанф) также признают, что Творец мира есть logoz — слово и разум. И мы также утверждаем, что сущность слова, премудрости и могущества, при помощи которых создан мир, — есть дух, которому присуще слово, когда Он повелевает, премудрость, когда Он все приводит в порядок, могущество, когда Он все совершает. Мы веруем, что Бог произнес (Слово), и произнеся, родил Его, и что по этой причине Оно именуется Сыном Божиим, а по причине единства существа называется Богом; ибо Бог есть дух. Когда солнце испустит луч, то луч этот есть часть целого; но солнце находится в луче, потому что это его луч, и через это не производится отделения, а делается только расширение существа. Так, от духа — дух и от Бога — Бог, как свет, возженный от света. Начальное вещество остается целым и не умаляется, хотя и производит из себя множество свойств. Так и рожденный от Бога есть Бог, Сын Божий и оба составляют одно существо: таким образом от духа происходит дух, от Бога — Бог, иной по личному свойству, а не по числу; по степени, а не по естеству; происходит из своего начала, не покидая его. Этот луч Бога, согласно древнему пророчеству, сойдя на Деву и воплотившись в Ее утробе, родился Богочеловеком. Это — Христос. Иудеи, на основании пророчеств, знали о Его пришествии и ожидали Его, но, не поняв пророчеств о двояком Его пришествии — первом уничиженном, а втором славном — не поверили Ему пришедшему и озлобленные Его учением, которое обличало их, предали Его Понтию Пилату, распяли и погребли Его, но Он воскрес в третий день, в течение сорока дней являлся ученикам Своим и потом вознесся на небо, а ученики Его, согласно Его повелению, разошлись проповедовать Евангелие по всему миру. Это произошло при Тиверие, римском императоре, которому Пилат сделал донесение об этих событиях в Иудее. «Считайте, — говорит после этого Тертуллиан, — Его за человека; но мы верим, что Бог хочет, чтобы Его познавали и чтили через Христа и во Христе. Пусть же будет позволено Христу проповедовать о Своей Божественности для того, чтобы просветить для познания истины. Исследуйте, действительно ли Христос — Бог, действительно ли Его религия преобразует, ведет ко благу тех, которые познали ее! Отсюда можно будет заключить, что ложна всякая другая, противоречащая ей религия; в особенности та, которая, скрываясь под именем и образами мертвецов, доказывает свою божественность какими-то мнимыми знамениями, чудесами и пророчествами» (гл. 21).
Возвращаясь опять к язычеству, жизненность которого, несмотря на явную нелепость его учения, поддерживалась мнимыми знамениями, чудесами и пророчествами, Тертуллиан показывает, что эти удивляющие язычников явления происходят от демонов, увлекающих язычников к заблуждению. Эти демоны, вся деятельность которых направлена на зло, и главным образом к усилению языческого идолопочитания и бесопочитания, делают предсказания, узнав их из Св. Писания; наслав на людей болезни и потом исцелив их, заставляют верить в свое могущество. Они участвуют и в гаданиях, и в прорицаниях оракулов; одним словом — они всячески стараются показать, что они боги, именами которых они прикрываются, но «пусть, — говорит Тертуллиан, — перед ваш трибунал приведут одержимого бесом; пусть какой-нибудь христианин прикажет этому духу заговорить, и тот сознается, что он в действительности демон, а ложно назвался Богом. Если дева Целестис, представительница дождей, если Эскулап, изобретатель медицины, — не признают себя демонами, не решаясь солгать христианину, то на этом же месте пролейте кровь дерзкого христианина. Поэтому ничтожны боги ваши, которых вы почитаете. Если бы истинно было божественное происхождение ваших богов, то им не злоупотребляли бы демоны, и не отрицали бы его сами боги. Изобличивши ложность ваших богов при помощи самих же богов, мы тем же путем дадим знать, каков истинный Бог, — точно ли Он — Бог, и ни един ли только тот Бог, Которого исповедуем мы, христиане, и не следует ли веровать в Него и поклоняться Ему так, как предписывает вера и учение христиан? Все наше могущество и власть над демонами заключается в имени Христа и в упоминании угрожающих кар, которых они ожидают себе от Бога через Христа. Боясь Христа в Боге и Бога во Христе, они подчиняются рабам Бога и Христа. Веря их лжи, поверьте им, когда они говорят правду. Никто не лжет, раскрывая свой позор. Благодаря их собственному признанию, что они не боги, что нет иного Бога, кроме Единого Бога, Которому мы служим, мы можем сложить с себя обвинение в оскорблении, главным образом, римской религии. Ибо, если верно, что ваши боги — не боги, то и ваша религия перестает быть религией. А если нет религии, то и мы невиновны в оскорблении религии» (гл. 22-24).
Привязанность римлян к своим богам основывалась еще на убеждении, что за особенно усердное служение национальным божествам и почтительное отношение ко всем иноземным Рим получил господство над целым миром. Рассеивая эту иллюзию, Тертуллиан говорит, что, с одной стороны, религиозность римлян не предшествовала их величию, так как при начале Рима римский культ не был развит, а с другой, — история отмечает больше случаев неуважения римлян к богам, чем почтения к ним. «Ведь царства получают начало от войны и расширяются победами. А войны и победы немыслимы без взятия и разрушения городов, что влечет за собою оскорбление богов: наравне с гражданами одинаково страдают от грабежа боги и люди. Следовательно, у римлян столько трофеев, сколько и святотатств. Возможно ли представить себе, что возвысились благодаря своей религиозности те, которые, возвышаясь, оскорбляли религию и, оскорбляя ее, возвышались. Не раздает ли царства Тот, в чьем владении находится и мир, разделенный на царства, и люди, которые царствуют? Не Тот ли устроил порядок смены владычества в известные периоды времени, Кто был раньше всех времен, Кто создал периоды времен? Не Тот ли возвышает города, Кто владычествовал над человеческим родом, когда еще не было городов?» (гл. 25-26).
Из доказательства, что языческие боги, несмотря на все усилия язычников защитить их существование, в действительности не существуют, Тертуллиан выводит заключение, что таким мнимым богам не следует приносить жертв, к чему принуждают язычники христиан под страхом наказания (гл. 27). По мнению Тертуллиана, принуждение христиан к подобным жертвоприношениям есть несправедливое и глупое насилие над религиозной свободой человека. Отсюда он делает переход к другому, очень важному обвинению христиан в оскорблении императорского величества. Он говорит, что как бесполезно приносить языческим несуществующим богам всякие вообще жертвы, так в частности и жертвы о здравии императора, потому что эти боги не в состоянии защитить своих собственных статуй и поручают их охрану императорской страже (гл. 28-29).
«Мы же, — говорит Тертуллиан, — за здравие императоров молим Бога вечного, живого, милости Которого, предпочтительно перед другими (богами), ищут сами императоры, так как благодаря Ему каждый из них стал императором, а еще прежде, чем быть императором, — человеком; власть пришла к ним из того же источника, откуда и жизнь. У этого Бога мы просим всем императорам долголетней жизни, спокойного царствования, безопасности во дворце, храбрости в войсках, верности в сенате, честности в народе, мира во вселенной; наконец, исполнения всего, что может пожелать человек и император. Кто полагает, что мы нисколько не заботимся о здравии императора, может заглянуть в наши книги, которые заключают в себе слова самого Бога. Оттуда вы узнаете, что Бог говорит ясно и точно: «молитесь за царей, правителей, властей, чтобы все у вас было спокойно». Впрочем, мы имеем другую важнейшую причину для молитвы за императора, даже за весь строй империи и за государство римское; мы ведь знаем, что существование римской империи отдаляет кончину всего мира и страшные бедствия, грозящие ему при кончине века. Таким образом, не желая видеть кончины мира и моля об удалении от нас этого момента, мы желаем долговечности римской империи (гл. 30-32). Почему же христиане — государственные преступники? Не потому ли, что они воздают императорам не пустые, не лживые, не безрассудные почести, но, исповедуя истинную религию, празднуют торжественные императорские дни излиянием чувств своего сердца, а не совершением распутств? Мы, вероятно, весьма виноваты за то, что желаем императору всех благ, не переставая быть трезвыми, целомудренными и скромными. В эти радостные дни мы не покрываем домов наших лаврами, не возжигаем светильников среди белого дня, не придаем жилищам своим вида публичных домов. Может быть те, которые не хотят считать нас за римлян, а за врагов римских императоров, сами окажутся преступнее, чем христиане?! Если бы природа облекла сердце наше каким-нибудь прозрачным покровом, в чьем сердце не открыли бы мы все новых и новых императоров, быстро сменяющих один другого, причем каждый новый император раздает подарки? «Но толпа, — говорите вы, — всегда останется толпою». Люди прочих сословий, бесспорно, отличаются искренней верностью, сообразно своему высокому положению. Но откуда же появляются Кассии [4], Нигеры, Альбины? Откуда те, которые убивают императора между двумя группами лавровых деревьев?40 Откуда те, которые ранее совершенствуются в гимнастике, чтобы искуснее его задушить? И до самой последней минуты нападения на императора, все они и в храмах, и дома приносили жертвы за здравие императора и клялись его гением, а относительно христиан не упускали случая называть их общественными врагами. Верность и преданность императорам не заключается в суетных проявлениях мнимого усердия, под личиною которых измена так хорошо умеет скрываться. Они состоят в чувствах любви, которые обязаны мы иметь ко всем людям. Нам запрещено кому бы то ни было делать зло или желать его, а что не позволено против всякого другого, то еще менее позволено против того, кого Бог столь высоко вознес. Беру в судьи вас самих. Сколько раз толпа, не выждав даже вашего приказания, бросала на нас камни и зажигала наши дома? Во время вакханалий не щадятся даже и мертвые. Трупы христиан, уже испорченные, обезображенные, извлекаются из гробов, разрубаются на куски и подвергаются поруганию. Но заметили ли вы, чтобы мы когда-либо старались отомстить за такое ожесточение, преследующее нас даже за гробом? Достаточно было бы одной ночи с факелами, чтобы воздать зло за зло, но не дай Бог, чтобы божественная религия употребила когда-нибудь человеческие средства к отмщению за себя. Не принимаясь даже за оружие, не поднимая мятежа, мы могли бы победить вас одним тем, что отделились бы от вас. Потеря столь великого числа граждан всякого состояния обессилила бы государство и достаточно бы вас наказала (гл. 33-37). Поэтому следовало бы вам щадить и считать в ряду дозволенных сект религию, в которой нет ничего, что возбуждает опасение в недозволенных скопищах. Не будучи одержимы пристрастием ни к славе, ни к почестям, мы не имеем нужды ни в скопищах, ни в заговорах; вселенная — вот наше государство» (гл. 38). Мысль о враждебности христиан общественному строю и о составлении ими противогосударственных заговоров возникла из того, что христиане в тайных местах составляли молитвенные собрания. Поэтому Тертуллиан подробно описывает эти собрания, давая видеть, что их невинный, исключительно религиозный характер уничтожает всякое подозрение в их политической неблагонадежности. «Мы сходимся, — говорит он, — чтобы молиться Богу, составляем священный союз, благоприятный Ему, молимся об императорах, об их министрах, о всех властях, о мире, о благосостоянии всего мира и о продолжении века сего. Мы собираемся, чтобы читать Священное Писание, из которого, смотря по обстоятельствам, почерпываем необходимые для нас сведения и наставления. Сие святое слово питает нашу веру, поддерживает нашу надежду, укрепляет нашу уверенность, утверждает в доброй нравственности, запечатлевая в нас заповеди. Тут-то происходят увещания и исправления, произносятся приговоры именем Божиим. Будучи уверены, что пребываем всегда в присутствии Его, мы совершаем как бы суд Божественный, и тяжко согрешивших отлучаем от общих молитв, от наших собраний и от всякого с нами общения, и это осуждение предваряет будущий Страшный суд. Председательствуют старцы, достигая такой чести не куплею, но испытанным своим достоинством. Дело Божие ценою золота не продается. И если есть у нас нечто в роде казны, то мы приобретаем ее не от постыдной торговли верою. Каждый ежемесячно, или когда захочет, вносит известную умеренную сумму, сколько может и сколько хочет, потому что никто не принуждается, но приносит добровольно. Это касса благочестия, которая не издерживается ни на пиршества, ни на распутства, но употребляется на пропитание и погребение нищих, на поддержание неимущих сирот, на содержание служителей, изнуренных старостью, на облегчение участи несчастных, потерпевших кораблекрушение. Если случается христиане, сосланные в рудники, заключенные в темницы, удаленные на острова за исповедание ими своей веры, то и они получают от нас вспомоществование. Есть же люди, поставляющие нам в вину и такую братскую любовь к ближнему. «Посмотрите, — говорят, — как они любят друг друга, как они готовы умереть друг за друга» Мы называем друг друга братьями, вы и это ставите нам в позор, но только потому, что у вас под родственными именами скрывают неродственные чувства. Мы и вам браться по праву природы, общей для всех матери, хотя вы недобрые братья, потому что в вас мало человеческого. Гораздо справедливее называются и считаются братьями те, которые признают Бога единым своим Отцом, которые напоены единым духом святости, которые, оставив неведение, узрели единый свет истины. Но, может быть, вы не считаете нас за братьев или потому, что об имени нашем не упомянуто ни в одной из ваших трагедий, или потому, что мы живем по-братски, соединенные общностью имуществ, между тем как у вас эти имущества производят раздоры между братьями. Составляя между собою одно сердце, одну душу, можем ли мы отказываться от общности имуществ! Все у нас общее, кроме жен; в этом одном отношении мы разделяемся друг от друга, тогда как вы в этом отношении имеете общение со всеми. Вы стараетесь опорочить наши вечери, считая их не только преступными, но и роскошными. Между тем, одно имя их показывает, по какому побуждению они составляются. Их называют агапы. Слово греческое, означающее любовь. Все, что на них происходит, благоприлично и учреждено соответственно видам религии. Во время вечери не терпится никакой низости, никакой нескромности: садятся за стол не иначе, как помолясь Богу; едят столько, сколько нужно для утоления голода; пьют, как пристойно людям, строго соблюдающим воздержание и трезвость; насыщаются так, что той же ночью могут возносить молитвы Богу; беседуют, зная, что Бог все слышит. По омовении рук и зажжении светильников, каждый приглашается петь хвалебные песни Богу, извлеченные из Священного Писания, или кем-либо сочиненные. Вечеря оканчивается, как и началась, молитвою. Выходят оттуда не для того, чтобы производить бесчинства, буйства и смертоубийства, но идут домой тихо, скромно, целомудренно: выходят скорее из школы добродетели, чем с вечери. Запретите, уничтожьте наши собрания, если они состоят в каком-либо отношении с опасными и преступными скопищами, или если можете упрекнуть их в том же, в чем обвиняются обыкновенные заговоры» (гл. 39).
Обычным обвинением христиан было и то, что христиан считали виновниками общественных бедствий и бесполезными членами общества. На первое обвинение Тертуллиан отвечает, что бедствия еще большие, чем теперь, постигали мир еще до появления христианства в наказание за удаление людей от истинного Бога, и что теперь эти бедствия значительно смягчились, так как мир имеет в лице христиан заступников перед Богом (гл. 40). Удивляясь второму обвинению, он говорит: «Мы живем вместе с вами, пользуемся той же пищей, одеждой, тот же у нас внешний образ жизни, — те же жизненные потребности. Живя с вами, мы не обходимся без форума, без рынка, без бань, без гостиниц, мастерских, ярмарок. Вместе с вами и подобно вам мы плаваем, отправляем военную службу, обрабатываем землю, торгуем. Я не понимаю, каким же образом мы можем оказаться бесполезными членами общества, в котором мы живем? Но вы скажете, что доходы храмов уменьшаются со дня на день. Извините: наших средств не хватит для помощи и людям, и нищим богам. Сверх того, мы полагаем, что обязаны давать только тем, кто просит. Пусть Юпитер протянет руку, мы подадим и ему. Мы расходуем более на уличные милостыни, чем вы на жертвы в храмах. Истинной, действительной потерей, на которую, однако, никто не обращает внимания, является потеря стольких невинных людей, которых вы губите. Мы одни невинны. Что тут удивительного, если невинность составляет для нас необходимость? Сам Бог наставил нас в ней. Может ли человеческая мудрость отыскать, в чем заключается истинное благо? Какая из заповедей совершеннее: та ли, которая гласит: «Не убивай», или та, которая предписывает: «Не гневайся». Та ли, которая запрещает прелюбодеяние, или та, которая ставит в вину даже соблазн глаз? Какая мудрее: та ли, что запрещает поступать несправедливо, или та, что запрещает даже отплачивать обидой за обиду?» (гл. 42, 44-45).
Так как, наконец, отвергая божественное происхождение христианства, считали его философской сектой, то Тертуллиан, с одной стороны, укоряет язычников в непоследовательности, потому что они относятся к христианам иначе, чем к философам, а с другой, — показывает глубокую разницу между философскими доктринами и христианским учением. «Философов, — говорит он, — нельзя сравнивать с христианами ни по их учению, ни по чистоте нравов. У христиан последний из ремесленников не только знает Бога, но может и другого научить Богопознанию и удовлетворительно дает ответ на каждый вопрос о Боге. Между тем, как Платон утверждает, что Творца вселенной и познать нелегко и, познавши, трудно объяснить всем. Известно, как Спевсипп, ученик Платона, был убит, захваченный на месте прелюбодеяния. Христианин же бывает мужем только своей жены. Что общего между философом и христианином? Между учеником Греции и учеником неба? Между тем, кто выдумывает все новые заблуждения, и тем, кто бережно хранит истину? Между похитителем истины и ее стражем? Эти люди (философы), страстно жаждавшие славы, старались проникнуть в возвышенный смысл нашего писания; встречая там что-нибудь, отвечавшее цели их любопытства, они присваивали себе. Не признавая божественности писаний, они не задумались изменить их. Вместо того, чтобы познавать Бога таким, каким они нашли Его в Священном Писании, стали размышлять о Его природе, свойствах, месте обитания. Платоники считают Бога бестелесным, стоики — телесным. По Эпикуру Бог состоит из атомов, по Пифагору — из чисел, по Гераклиту — из огня. Различно смотрят они и на субстанцию души; по одним, она божественна и смертна, по другим, она неотделима от тела. Каждый прибавляет и изменяет, согласно своему желанию. Всем исказителям Евангелия мы возражаем, что единая, истинная религия получила начало от Иисуса Христа, передана нам апостолами, которыми эти позднейшие толкователи будут некогда изобличены» (гл. 46-47).
«Апологетик» кончается тем же, чем и начался, — указанием несправедливости преследования христианской религии и мучений ее последователей, которые приводят к совершенно обратным результатам, чем ожидают от них язычники: кровь казненных христиан становится семенем, от которого вырастают новые христиане (гл. 50).
1. Сатурн убивал детей мужского пола.
2. Ирония над мнимою набожностью
римлян, проявлявшейся в точном, но чисто внешнем соблюдении обрядовых предписаний.
3. Женатый на своей сестре Юноне.
4. Кассий Брут — изменник отечества.
К народам
В первой книге «к народам», состоящей из 20 глав, высказываются в защиту христианства
те же доводы, которые были приведены в «Апологетике», с соблюдением того же
почти порядка, а иногда и одними и теми же словами. Более оригинальною является
вторая книга, полемического содержания, в которой Тертуллиан критикует языческий
политеизм.
«Если я обращусь, — говорит он, — к Варрону с вопросом, кто создал языческих
богов, то он скажет мне: философы, народы или поэты. Итак, три класса богов:
физические боги, признаваемые философами, мифические боги, воспетые философами,
наконец, национальные боги, почитаемые простым народом. Но если философы создали
своих богов при помощи гипотез, если поэты заимствовали своих мифических богов
из баснословий, народы же придумали своих богов благодаря фантазии или своему
произволу, — то где же отыскать истину? В гипотезах? Но гипотеза предполагает
недостоверность. В мифе? Но миф ни что иное, как сплетение нелепостей. В народном
почитании? Но такого рода божество только случайное божество, и притом принадлежащее
только почитающему его городу. Короче сказать: у философов нет ничего достоверного,
ибо они в вечном несогласии между собой; у поэтов постыдные рассказы, не заслуживающие
внимания; что же касается народов, то тут все случайно, временно, ибо все —
плод произвола. Признаки истинной божественности таковы, что не выводятся из
малодостоверных умозаключений или гипотез, не могут иметь никакого отношения
к последним баснословиям, не нуждаются в случайном принятии божества тем или
другим народом. Божество следует понимать таким, каким Оно есть в действительности,
— безусловно истинным, совершенным в своих свойствах и универсальным, — принадлежащим
всем людям вообще. Возможно ли веровать в какого-нибудь бога, опираясь на какую-нибудь
гипотезу, миф или на основании постановления какого-нибудь города? Разумнее
будет вовсе ничему не верить, чем допустить предполагаемого бога, или бога,
за которого мне придется краснеть, или бога, возведенного в это достоинство
городом. Мы, например, выражаем нашу признательность или порицание не тем вещественным
предметам, при помощи которых мы получаем удовольствие или неприятности, но
тем, у которых эти предметы в руках и которые употребляют их согласно своей
воле. Если кто из вас впадет в болезнь, то за излечение от нее он будет благодарить
не шерсть, не противоядия, не лекарства, но врача, опытная рука которого сумела
приложить или дать их вовремя больному. Раненый в бою жалуется не на меч, не
на копье, но на неприятеля или разбойника. Потерпевшие кораблекрушение клянут
бурю, но не приписывают своего несчастия мелям и волнам, и они правы, ибо очевидно,
что все происходящее должно приписывать не орудию, но производящей его причине:
в ней начало каждого факта, цель и средства его совершения. Но ваши философы,
мудрые во всем остальном, рассуждая о божестве, нарушают законы явлений и вещей,
а именно — отнимают все значение и достоинство у Виновника всего и не стараются
найти Верховную, все производящую Первопричину».
К Скапуле
В послании к Скапуле Тертуллиан целым рядом исторических примерок показывает
этому африканскому проконсулу, собиравшемуся казнить десятого из жителей Карфагена,
как кара Божия постигала и целые города и отдельных лиц, гнавших христиан,
и что человеколюбие совместимо с обязанностями службы.
«Во время бытия судьею Гиларана, — говорит Тертуллиан, — народ устремился
на наши кладбища, крича: «Не отводить поля под гробницы для христиан!» Но они
жестоко были за то наказаны: потоки дождей истребили всю их жатву. Что означали
огни, блуждавшие по стенам Карфагена, и страшные громы, колебавшие город? Все
подобные метеоры знаменуют гнев грозного Бога, и мы должны возносить слабый
наш голос, чтобы о гневе этом возвещать, и чтобы отвращать его нашими молитвами.
Мы могли бы также привести в пример некоторых правителей, изъявивших на смертном
одре раскаяние о гонениях своих против христиан. Вигелий Сатурнин, который
первым извлек меч казни на нас, лишился зрения. Клавдий Луций Герминиан, рассердясь,
что жена его приняла веру христианскую, жестоко гнал и мучил христиан. Сидя
один в своем судилище, он поражен был язвою, и черви осыпали его тело. После
того он увидел свое заблуждение и сознался, что казни послужили только к умножению
числа христиан; наконец умер почти христианином. Что касается до тебя, то желали
бы мы, чтобы для тебя достаточен был один пример: вспомни только, что случилось,
когда ты осудил Адриметика Мавилла быть отданным на растерзание зверям, и каким
образом прервано было твое гонение (гл. 3).
Мы не думаем пугать тебя, потому что и сами тебя не боимся, но желали бы,
чтобы весь мир был спасен. Советуем тебе из сострадания не бороться с Богом.
Ты легко можешь соединить обязанности службы твоей с обязанностями человеколюбия.
Помни, что меч висит также и над вашими головами. Чего требует от тебя закон?
Чтобы ты осуждал на казнь виновных, когда они признаются в своих преступлениях,
и предавал бы их пытке, когда отрекаются от них. Следовательно, вы первые нарушители
закона, подвергая пытке сознающихся для того, чтобы принудить их отречься (гл.
4). Итак, воздержись. Пощади несчастную сию провинцию (Карфаген), которую одно
обнаружение твоих намерений подвергло притеснению со стороны жадных солдат
и всех других врагов. У нас нет иного верховного владыки, кроме Бога. Он превыше
тебя, Он не может и не захочет оставаться в неизвестности, и ты ничего не в
состоянии сделать против Него» (гл. 5).
О свидетельстве души
В этом небольшом сочинении Тертуллиан развивает мысль, высказанную в «Апологетике»
(гл. 17), что душа по природе христианка, так как в минуты возбуждения, когда
она стряхивает с себя привитые воспитанием и средой понятия, она невольно высказывает
христианские истины. Свидетельство души Тертуллиан считает самым прочным и
убедительным доказательством истинности христианства, так что в этом отношении
с ним не могут сравниться ни литературные и философские сочинения язычников,
иногда высказывавшие сходные с христианскими мысли, так как язычники в этих
случаях укоряют своих авторов в легкомыслии и невежестве, ни священные книги
христиан, которых язычники не читают.
«Явись, — говорит он, — на суд, о душа человеческая! Если ты божественна и
вечна, как говорят известные философы, то ты не в состоянии лгать. Явись к
нам во всей грубости твоей первоначальной простоты, явись в виде варварском
и невежественном, в таком виде, какой имеют те, которые одной тобою обладают.
Скажи мне, какие понятия приносишь ты человеку, происходишь ли из собственной
своей сущности или обязана ею неизвестному тебе виновнику твоего бытия. Христиане
требуют твоего свидетельства, чтобы наши гонители устыдились перед тобою своего
презрения к тому, чему ты сама по своей природе причастна (гл. 1).
На нас нападают за то, что мы проповедуем единого Бога, сотворившего все,
управляющего всем. Отзовись и скажи нам, что ты знаешь на сей счет. Часто ты
свободно и громко говоришь: «Что Бог даст!», «Как Богу угодно». Этими словами
ты провозглашаешь Верховное Существо, ты признаешь этим всемогущество Того,
пред Чьей волей ты преклоняешься. Но приписывая Ему одному имя Бога, ты отвергаешь
божество называемых тобою собственными именами богов Сатурна, Юпитера и пр.
Ты знаешь и о природе Бога, Которого мы проповедуем. Это видно из твоих восклицаний:
«Бог благ!», «Бог милостив!» Ты ясно исповедуешь благость Божию и этим косвенно
признаешь, что человек зол вследствие удаления от Бога, источника всяких благ.
Когда мы, христиане, хотим кого-либо благословить, то делаем это во имя нашего
Бога. Между тем ты, не следуя никакому закону, произносишь: «Боже тебя благослови»
— столь же натурально, как прилично и христианину. Есть люди, которые, не отвергая
бытия Божия, отнимают у Бога способность разбирать, судить, хотеть, тогда как
мы признаем и суд Божий, и страх перед Богом. Вот что говорит нам душа наша
во всякое время, на всяком месте, и никто не думает ни мешать ей в том, ни
смеяться над нею: «Бог видит. Да сохранит тебя Бог! Бог да воздаст тебе! Да
будет Бог судьею между нами!». Скажи мне, душа нехристианская, откуда берутся
у тебя все подобные изречения? В самых храмах богов твоих, у ног твоего Эскулапа,
на коленях перед воздушною Юноною, ты ищешь правосудия не у этих богов. О,
как ты, истина, могущественна! (гл. 3).
Обращаюсь теперь к тому, что касается собственно тебя, душа человеческая.
Дело идет о твоей участи. Мы утверждаем, что ты должна пережить смертную твою
оболочку, чтобы выждать судного дня, и тогда будешь наказана или награждена
навеки за свои дела. Для наслаждения или страдания необходимо нужно будет тебе
восприять свое тело, свои чувства, свою память. Но между тем люди считают это
сектой, глупостью, хвастовством. Вникнем в дело. Когда речь у тебя идет о мертвом,
ты называешь его несчастным, не потому, вероятно, что он лишен жизни, но ты
считаешь его осужденным и как бы уже наказанным; иногда говоришь ты также,
что мертвые блаженны и упокоены. Стало быть, ты признаешь иногда, что жизнь
бывает в тягость, а смерть приносит счастье. Если не останется у тебя никакого
чувства по смерти, то зачем тебе так лгать, вопреки своей природе, зачем предполагать
в покойниках удовольствия или скорби, зачем бояться смерти, после которой нечего
уже тебе ни бояться, ни испытывать? (гл. 4).
Все эти свидетельства души тем более вероятны, что обыкновенно бывают весьма
просты. Простота делает их народными; а чем более они народны, тем более всеобщи;
всеобщность их доказывает, что они естественны и, следовательно, в некотором
смысле божественны. Вместо того, чтобы обвинять нас в легкомыслии и глупости,
лучше бы вам помыслить о величии природы, от которой происходит авторитет души.
Природа есть воспитательница, а душа ее воспитанница: все, чему учит первая,
чему научается последняя, происходит от Бога, Который есть Учитель и самой
природы» (гл. 5).
В конце Тертуллиан упрекает душу в крайней непоследовательности и неразумии
по отношению к христианам. «Христианская истина, — говорит он, — была врождена
в тебе (душе), и ты воздвигла гонения на христиан» (гл. 6).
Против иудеев
Сочинение «Против иудеев» написано по случайному поводу. Однажды между христианином
и иудейским прозелитом произошел спор о вере, в котором принял участие и Тертуллиан,
но вследствие поднятого присутствовавшею при этом публикою шума он не мог убедить
иудея в справедливости своих слов. Вследствие этого он решился написать сочинение,
в котором в последовательном порядке изложил свои доводы в пользу христианства
и в обличение упорствующего в своем ослеплении иудейства («Против иудеев, гл.
1).
Сочинение это вполне аналогично с таким же сочинением св. Иустина: также говорится
о временном и относительном значении закона Моисеева и всех его предписаний,
о замене его новым законом, данным через Иисуса Христа, доказывается, что явившийся
на землю Христос был обетованный Мессия и наконец говорится, что вместо отвергнутых
иудеев будут призваны новые народы. Сходство между апологетами усиливается
тем, что соблюден тот же порядок изложения, приводятся те же пророчества и
опровергаются те же возражения иудеев, например, о возможности рождения Иисуса
Христа от Девы, о совместимости Его страданий с Его Божеской природой. Разница
между сочинением св. Иустина и трудом Тертуллиана заключается только в том,
что второй короче первого и, кроме того, в нем приводятся рассуждения о том,
что заповедь, данная Адаму, заключала в себе весь последующий закон, и о седмицах
Данииловых, чего нет у св. Иустина.
«При начале мира, — говорит Тертуллиан, — Бог дал закон Адаму и Еве, запретив
им прикасаться к плоду дерева посреди рая, и предуведомив их, что они смертью
умрут, когда нарушат это повеление. Закон этот был бы достаточен, если бы они
сохранили его. В нем находим мы сокровенный корень всех предписаний закона,
впоследствии изданного Моисеем, как-то: «возлюбиши Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душею твоею; возлюбиши ближнего твоего, яко сам себе;
не убей, не укради, не пожелай чужого». Первоначальный закон, данный Адаму
и Еве в раю, есть как бы источник всех Божиих постановлений. Словом сказать,
если бы они любили Господа Бога своего, то не нарушили бы Его заповеди. Если
бы они истинно любили ближнего, — как самих себя, то не поверили бы внушениям
змия, и не были бы против самих себя человекоубийцами, лишась бессмертия через
нарушение заповеди Божией. Равным образом они воздержались бы от кражи, если
бы тайно не вкусили плода и не скрылись от взоров Господних. Они бы не подверглись
гибели, постигшей диавола, если бы не положились на слово его, что будут подобны
Богу. Если бы они не пожелали чужого добра, то не прикоснулись бы к запрещенному
плоду» (гл. 2).
В доказательство того, что Иисус Христос есть истинный Мессия, Тертуллиан
приводит известное пророчество Даниила о седминах (Дан. 9, 1, 2, 21-27). «Нельзя
не заметить, — говорит он, — с какою точностью пророк обозначает тут время
рождения, страдания и смерти Иисуса Христа. Ангел ясно говорит, что «от исхода
словесе до Христа» пройдет шестьдесят две седмицы, «и Святый святых помажется»;
потом «помазание потребится»; по истечении же семи седмин в одну седмину и
в полседмины «рассыплется град, отымется жертва и скончание дастся в опустение».
Мы начнем исчисление наше с Дария, когда происходило видение; последующие затем
происшествия будут нашими путеводителями. Взглянем на преемство государей.
Дарий царствовал 19 лет, Артаксеркс — 40, Кир — 23, Аргус 1 год, Дарий II —
22, Александр Македонский — 12, Сотер — 35, Птоломей Филадельф — 39, Клеопатра
— 20 1/2 , Август вместе с Клеопатрою — 13, Август один — 43. Итого, 438 1/2.
Таким образом, исполнилось 62 1/2 седьмины, равняющиеся 438 1/2 годам до пришествия
Иисуса Христа, когда правда вечная водворена, когда Святый святых — Христос
помазан, когда запечаталось видение и пророк, и когда загладились грехи, отпускаемые
всем верующим во имя Христово. Посмотрим теперь, как исполнились остальные
7 1/2 седмин. Август жил еще 15 лет после рождества Христова. Ему наследовал
Тиверий, царствовавший 22 года, 7 месяцев, 20 дней. В 15 лето его царствования
пострадал Иисус Христос, имея от роду около 30 лет [1]. После Тиверия
были императоры: Калигула — 3 года, 7 месяцев, 13 дней, Нерон — 9 лет, 9 месяцев,
13 дней, Гальба
7 месяцев 6 дней, Отон — 3 месяца 5 дней, Вителий — 8 месяцев 10 дней, Веспасиан
торжествует над иудеями в первый год своего царствования. Всего прошло 52 года
6 месяцев. Вот как исполнились для иудеев предсказанные Даниилом семьдесят
седмин до конечной их гибели. По истечении сих лет пресеклись в стране их жертвы
и приношения, которые уже с тех пор не могли быть там отправляемы, ибо помазание
сие потребовалось во времена страдания Иисуса Христа» (гл. 8).
1. Исчисление неверно
Марк Минуций Феликс
Биографические сведения о Минуцие Феликсе крайне скудны, так что нельзя даже
с точностью указать ни место его родины, ни время его жизни, т.е. ответить
на самые первые и весьма важные вопросы в биографии каждого писателя. На основании
некоторых данных, родиной его считают или Рим, или Африку, но ни одно из этих
предположений не имеет за себя таких веских оснований, чтобы которое-нибудь
из них можно было признать несомненно достоверным. Точно также и относительно
времени жизни Минуция нельзя установить строго определенной даты. Можно только
утверждать, что он жил не раньше 160 и не позже 250 года, или, по определению
Барония, в конце второго и в начале третьего века по Р. X.
Более удовлетворительно решаются вопросы об его образовании, роде занятий
и религиозных убеждениях, так как сведения об этих предметах дают и сторонние
свидетели, как Иероним, Лактанций и Евхерий, и сам Минуций в своей апологии.
Обширное знакомство с поэзией, историей и философией, какое он обнаруживает
в своей апологии, убеждает нас в том, что он получил всестороннее образование.
Главным образом бесспорно и его основательное знание юриспруденции и ораторского
искусства, так как по вступлении в действительную жизнь он избрал своей профессией
судебную адвокатуру («Октавий», гл. I) и даже в тогдашнем Риме, где так много
было выдающихся адвокатов и ораторов, пользовался большою известностью как
ученый и красноречивый оратор. Блаженный Иероним и Лактанций (последний очень
скупой на похвалы) дают самые лестные отзывы о нем, как специалисте своего
дела: первый называет его «знаменитым адвокатом римским», а второй — «известным
среди судебных адвокатов».
В первое время прохождения адвокатской должности, равно как и до этого, Минуций
Феликс держался язычества и, несмотря на свою образованность, не возвышался
над толпою в своих взглядах на христиан. Подобно большинству язычников, он
смотрел на них предубежденно, подозревал их в разных пороках и преступлениях
и, когда привлекали их к суду, он как адвокат обвинял их, обрекал на пытки
и радовался, когда более слабые отрекались от веры (гл. 28). Но потом он убедился
в своем заблуждении, обратился «от тьмы неведения к свету мудрости и истины»
(гл. 1), — принял христианство, и доказал искренность своего обращения благочестивою
жизнью и святою ревностью о пользе и славе Церкви. Благочестивая настроенность
его засвидетельствована Евхерием, еп. Лионским, который ставит Минуция Феликса
в один ряд со святыми Киприаном, Иоанном Златоустом и Амвросием, получившими
Царство Небесное за свои христианские подвиги. Памятником же его ревности о
вере служит его апология, написанная с целью рассеять предубеждение язычников
против христианства и дать о нем истинное понятие, как о религии, отличающейся
возвышенным учением и доброю нравственностью своих последователей.
Апология Минуция Феликса, изданная, нужно думать, в царствование императора
Каракаллы, когда при наступившем затишье от гонений предшествовавшего царствования
(Септимия Севера) всего удобнее было обнародовать книгу в защиту христианства,
носит название «Октавий» и по внешней форме представляет из себя диалог двух
друзей Минуция — язычника Цецилия и христианина Октавия (в честь последнего
она получила свое название). Каждый из них в своей речи старается выставить
на вид превосходство своей религии и ложность религии противника, в доказательство
чего приводится масса всевозможных доводов, но победа, как и следует ожидать,
остается на стороне христианина, так как его сильные доводы язычник должен
был признать убедительными для себя и потому сам обращается в христианство.
Октавий
«Октавий» начинается длинным вступлением (гл. 1-4), в котором рассказывается
повод возникновения разговора; затем следуют речи Цецилия (гл. 5-13) и Октавия
(гл. 14), и наконец заключение. Речь Цецилия состоит из трех частей. В первой
из них он высказывает основное положение скептической школы академиков, что
«в делах человеческих все сомнительно, неизвестно и неверно и только более
вероятно, нежели истинно». Поэтому он возмущается, что христиане, люди «необразованные,
невежды, чуждые понятия о самых простых искусствах, осмеливаются рассуждать
о сущности вещей и Божестве, о чем в продолжение стольких веков спорят между
собою философы различных школ». Как скептику, ему не нравится всякое категорическое
учение, особенно же учение христиан о Промысле Божием, управляющем миром. В
противоположность Октавию, он развивает мысль, что в жизни природы и человека
царит случай, который совершенно исключает и делает ненужными промыслительные
действия Божества (гл. 5). Признавши ненужность Божества с такими качествами,
он тем самым отрицает Его существование и во второй части своей речи поставляет
на Его место богов языческих, существование которых, по его мнению, не подлежит
сомнению, так как оно подтверждается, во-первых, исконною верою в них всех
язычников (гл. 6), а во-вторых, гаданиями, оракулами и вещими снами, в которых
боги сообщают людям свою волю (гл. 7). Установивши с кажущеюся несомненностью
бытие языческих богов, Цецилий в третьей части своей речи нападает на христиан,
которые отвергают этих богов с их культами. «Я не могу, — говорит он, — выносить
дерзости, нечестивого безрассудства тех людей, которые стали бы отвергать или
разрушать религию столь древнюю, столь полезную и спасительную», а между тем
христиане «презирают храмы, отвергают богов, насмехаются над священными обрядами»
(гл. 8). Взамен отвергнутой ими языческой религии они приняли какую-то новую,
отличающуюся крайнею развращенностью нравов, нелепыми предметами поклонения
и странными верованиями. «Эти люди узнают друг друга по особенным тайным знакам
и питают друг к другу любовь, не будучи даже между собою знакомы; везде между
ними образуется какая-то как бы любовная связь, они называют друг друга без
разбора братьями и сестрами для того, чтобы обыкновенное любодеяние через посредство
священного имени сделать кровосмешением. Слышно, что они, не знаю по какому
нелепому убеждению, почитают голову осла. Говорят, также, что они почитают
человека, наказанного за злодеяние страшным наказанием, и бесславное древо
креста; значит, они имеют алтари, приличные злодеям и разбойникам, и почитают
то, чего сами заслуживают. То, что говорят об обряде принятия новых членов
в их общество, известно всем и не менее ужасно. Говорят, что посвященному в
их общество предлагается младенец, который, чтобы обмануть неосторожных, покрыт
мукою: и тот, обманутый видом муки, по приглашению сделать будто невинные удары,
наносит глубокие раны, которые умерщвляют младенца, и тогда — о, нечестие!
Присутствующие с жадностью пьют его кровь и разделяют между собою его члены.
А их вечери известны. В день солнца они собираются для общей вечери со всеми
детьми, сестрами, матерями, без различия пола и возраста. Когда после различных
яств пир разгорится, а вино воспламенит в них пыл любострастия, то собаке,
привязанной к подсвечнику, бросают кусок мяса на расстоянии большем, чем длина
веревки, которою она привязана: собака, рванувшись и сделав прыжок, роняет
и гасит светильник...» (гл. 9).
Перейдя затем к вероучительной стороне христианства, Цецилий говорит: «Откуда,
что такое и где этот Бог, единый, одинокий, пустынный, Которого не знает ни
один свободный народ, ни одно государство, или, по крайней мере, римская набожность?
А какие диковины выдумывают христиане! Они говорят, что их Бог, Которого они
не могут ни видеть, ни другим показать, тщательно следит за нравами всех людей,
делами, словами и даже помышлениями каждого человека, всюду проникает и везде
присутствует: таким образом они представляют Его постоянно беспокойным, озабоченным
и бесстыдно любопытным, ибо Он присутствует при всяких делах, находится во
всяких местах. Но это еще не все: христиане угрожают земле и всему миру с его
светилами сожжением, предсказывают его разрушение (10 гл.). Не довольствуясь
этим нелепым мнением, они прибавляют и другие старушечьи басни: говорят, что
после смерти опять возродятся к жизни из пепла и праха. Двойное безумие! Небу
и звездам, которые мы оставляем в таком же виде, в каком их находим, они предвещают
уничтожение, себе же — людям умершим, разрушившимся обещают вечное существование.
Однако я желал бы знать: без тела или с телом и с каким — новым или прежним
воскреснет каждый из вас? Без тела? Но без него, сколько я знаю, нет ума, ни
души, нет жизни. С прежним телом? Но оно давно разрушилось в земле. С новым
телом? В таком случае рождается новый человек, а не прежний восстанавливается.
Но вот уже протекли бесчисленные века, а ни один из умерших не возвратился
из преисподней» (гл. 11).
Обращаясь, наконец, к внешней жизни христиан, Цецилий ставит им в упрек их
бедственное положение, как доказательство слабости или несправедливости их
Бога, и уклонение христиан от языческих праздников. «Большая часть из вас,
притом лучшая, как вы говорите, терпит бедность, страдает от голода и холода,
обременена тяжким трудом, и вот Бог допускает это или будто не замечает: Он
не хочет или не может помочь вам; значит Он слаб или несправедлив. Вы чуждаетесь
даже благопристойных удовольствий, не посещаете зрелищ, не присутствуете на
праздниках наших, не участвуете в общественных пиршествах, гнушаетесь священных
игр, жертвенных яств и вина. Вы не украшаете своих голов цветами, не умащаете
тела благовониями, вы даже не украшаете венками гробниц. Несчастные, вы и здесь
не живете, и там не воскреснете» (гл. 12).
Закончив свою речь, которая ему самому кажется неопровержимою, Цецилий уже
с сознанием собственного превосходства делает Октавию вызов: «Что на мои слова
осмелится сказать Октавий из поколения Плавта, первый из хлебопеков и последний
из философов?» (гл. 13).
Ответная речь Октавия по конструкции похожа на речь Цецилия и также распадается
на три части, потому что Октавий считал нужным опровергнуть все положения Цецилия
и шел шаг за шагом по пути, намеченному противником.
«Мой брат высказал, — говорит он, — что ему противно, возмутительно и больно
то, что неученые, бедные, неискусные (христиане) берутся рассуждать о вещах
небесных; но он должен бы подумать, что все люди без различия возраста, пола
и состояния созданы разумными и способными понимать. Поэтому нет ничего возмутительного
или прискорбного в том, что каждый занимается исследованием вещей божественных»
(гл. 16). Далее Октавий говорит, что все в человеке и даже его внешний вид
показывает, что он не только может, но и должен стремиться к познанию природы,
а в связи с этим и к познанию Бога. «Мы, — говорит он, — главным образом отличаемся
от животных тем, что они, наклоненные и обращенные к земле, неспособны видеть
ничего другого, кроме пищи; между тем как мы, имея лицо, обращенное вперед,
и взор, устремленный на небо, и будучи одарены способностью говорить и умом,
посредством которого мы познаем Бога, чувствует Его и подражаем Ему, — мы не
должны, не можем не знать небесной красоты, так поражающей наши глаза и все
чувства». А как скоро человек будет познавать вселенную, то все здесь укажет
ему на ее Творца и Промыслителя. «В самом деле, если только поднимешь взоры
на небо и рассмотришь то, что под ним и на нем, то может ли быть что-нибудь
яснее и достовернее той истины, что есть некоторое Существо превосходнейшего
разума, Которое проникает, движет и направляет всю природу. Посмотри на самое
небо, как широко оно раскинулось! Какое быстрое движение совершается там! Посмотри
на него ночью, когда оно испещрено звездами, или днем, когда оно сияет яркими
лучами и ты узнаешь, в каком удивительном, божественном равновесии держит его
Верховный Управитель. Обрати внимание на то, как от движения солнца происходит
год, и как луна, то прибывая, то убывая, измеряет месяцы. Все это не только
не могло произойти, образоваться и придти в порядок без Верховного художника,
без совершеннейшего разума, но даже не может быть воспринято, исследовано и
постигнуто без величайшего усилия и деятельности разума. Не указывает ли нам
на своего Виновника весна со своими цветами, лето со своими жатвами, осень
со спелыми и приятными плодами и зима, изобилующая оливами? А какая предусмотрительность
видна в том, что даны нам весна и осень со своей средней температурой, чтобы
зима не томила нас только своим холодом, и лето не палило своим жаром и что
незаметны и нечувствительны переходы от одного времени в другое! Посмотри,
как все растения получают свою жизнь из внутренности земли. Посмотри на вечно
волнующийся океан, на эти всегда струящиеся источники, на эти реки, никогда
не останавливающиеся в своем течении. Особенно же в красоте нашего образа открывается,
что Бог есть художник: прямое положение, взор, устремленный кверху, глаза помещенные
высоко как бы в сторожевой башне и все прочие чувства, расположенные как бы
в укреплении».
Признание же Промысла неизбежно ведет к признанию единства Божия. «Когда нельзя
сомневаться в провидении, ты должен же исследовать, управляется ли Небесное
Царство властью Одного или произволом многих. И этот вопрос нетрудно уяснить,
когда размыслишь о земных царствах, которые суть образы небесного. Где царствование
многих соправителей начиналось верностью и кончалось без кровопролития? Далее
посмотри: один царь у пчел, один вожатый у овец, один предводитель у стада.
Ужели же ты думаешь, что на небе разделена верховная власть и раздроблено полномочие
этого истинного и божественного господства?» Кроме этого единство Божие утверждается
и самим понятием о Боге, Бог — это «отец всех вещей. Он сам вечен. Он не сущее
вызвал к бытию Своим Словом, привел в порядок Своим разумом, совершил Своею
силою, Его нельзя видеть, Он слишком величественен; Его нельзя осязать, Он
слишком тонок; Его нельзя измерить, Он выше чувств, бесконечен, неизмерим и
во всем Своем величии известен только Самому Себе; наше же сердце слишком тесно
для такого познания. И не ищи другого имени для Бога: Бог — Его имя». Единство
Божие, наконец, подтверждается общечеловеческим сознанием. В единстве Божием
убежден простой народ, когда он не употребляет никакого другого имени, кроме
Бога, и восклицает: «Велик Бог, Бог истинен, если Богу угодно». Поэты также
прославляют «единого Отца богов и людей» (гл. 18). «Философы, хотя в различных
словах, но на самом деле выражают одну и ту же мысль», т.е. единобожие. (Приводится
учение Фалеса, Анаксимена, Анаксагора, Пифагора, Ксенофана, Антисфена и мн.
др.).
Доказавши истину единобожия такими вескими доводами, из которых ссылка на
философов должна быть особенно убедительна для Цецилия, Октавий естественно
переходит к критике языческого многобожия. Исторически и фактически он доказывает
ничтожность и нелепость той религии, которую так возвышал Цецилий по сравнению
с христианством. Ссылаясь на авторитетное для язычников мнение их поэтов (Евгемера,
Продика и Персея) и историков (Непота, Кассия, Талла и Диодора), Октавий говорит,
что даже верховные божества греко-римской мифологии не что иное, как простые
люди, после своей смерти возведенные услужливыми потомками на степень божества.
И в новом своем (божеском) положении они сохраняют те же качества, какие имели
на земле: могут стариться, умирают и бывают погребаемы; испытывают на небе
те же чувства, какие волнуют и обыкновенных смертных: плачут, радуются, любят,
ссорятся, мирятся; нередко они совершают и такие деяния, которые непростительны
и нравственным людям (гл. 20-23). Всего же хуже то, что язычники не только
чтут таких богов, но еще кланяются их идолам. Яркими красками описывает Октавий,
как недостойно человека поклонение этим бездушным истуканам, произведениям
рук человеческих. «И если бы кто подумал, с какими истязаниями, какими инструментами
отделывается всякий идол, то покраснел бы от стыда, что он боится вещества,
которое отделывал художник, чтобы сделать бога. Бог деревянный — из какого-нибудь
отрубка или кола обрубается, вытесывается, выстрагивается; а серебряный или
золотой бог чаще всего делается из какого-нибудь нечистого сосуда, как было
у египетского царя, выковывается кузнечными молотами и получает свою форму
на наковальне; а каменный высекается, обтесывается и делается гладким руками
грязного работника; такой бог не чувствует низости своего происхождения точно
так же, как не чувствует почестей, воздаваемых ему вашим поклонением. Если
камень или дерево или серебро не составляют бога, то когда же он делается им?
Вот его отливают, обделывают и высекают; это еще не бог; его спаивают свинцом,
устраивают и воздвигают, и это еще не бог; вот его украшают, воздают ему почтение
и молятся, — и он, наконец, становится богом, когда уже человек захотел и посвятил
его» (гл. 23). «И как ваших богов ценят по своему естественному инстинкту бессловесные
животные? Мыши, ласточки, коршуны знают, что боги ваши не чувствуют; они гложут
их, садятся на них, и если не прогоняете, устрояют свои гнезда в самых устах
вашего бога» (гл. 29).
Что касается гаданий, предсказаний и вещих снов, на чем Цецилий утверждал
существование языческих богов, то Октавий сначала исторически показывает, что
не все предсказания и сны сбывались и не все добрые предзнаменования сопровождались
успехом, а худые неудачей. Так, например, Павел Эмилий при Каннах потерпел
страшное поражение, несмотря на то, что цыплята предвещали успех. Цезарь пренебрег
гаданиями, которые воспрещали ему отправиться в Африку прежде зимы, однако,
он легко переплыл и победил. Амфиарий предсказал, что будет после его смерти,
а не знал, что жена изменит ему за ожерелье (еще при жизни его). Если же предсказания
и гадания иногда исполнялись, то Октавий видит в этом главный корень нечестия
и языческого обольщения, так как это было делом злых демонов. «Есть, — говорит
он, — лживые, нечистые духи, ниспадавшие с небесной чистоты в тину земных страстей.
Эти духи лишились чистоты своей природы, осквернив себя пороками, и для утешения
себя в несчастии — сами уже погибшие не перестают губить других, и отчужденные
от Бога усиливаются всех удалить от Бога, вводя между людьми ложные религии».
Существование их признают поэты, маги (Сосфен), совершающие при помощи их свои
мнимые чудеса, и философы (Сократ и Платон) (гл. 26). Эти нечистые духи, демоны,
скрываются в статуях и идолах; они вдохновляют прорицателей, обитают в капищах,
действуют на внутренности животных, руководят полетом птиц, произносят смешанные
с ложью прорицания. Они-то отвращают людей от неба к земле и от Бога к веществу.
Вселяясь тайно в тела людей, как духи тонкие, вселяют болезни, чтобы принудить
людей почитать их за то, что будто они, насытившись кровью жертв и запахом
их мяса, исцелили тех, кому перестали вредить». Но эти же духи, имеющие такую
власть над язычниками, открыто сознаются в своем бессилии при столкновении
с христианами. «Заклинаемые именем единого истинного Бога, они тотчас же оставляют
тела одержимых ими». Не имея возможности явно вредить христианам, которые их
побеждают, они стараются вредить им тайно, настраивают против них язычников,
чтобы они, узнавши христиан, не стали подражать им, или по крайней мере, не
перестали их гнать» (гл. 27).
Не без участия демонов составилась и худая молва о христианах, породившая
обвинение их в пороках, преступлениях и содержании странного культа. Дойдя
до этого главного пункта своей речи, Октавий далее показывает, что нелепые
слухи относительно христиан объясняются или незнанием христиан, или же тем,
что язычники переносят на них свои собственные пороки, свои предметы поклонения.
Например, слух о поклонении христиан ослиной голове легко мог возникнуть среди
язычников, которые чтут Елону, покровительницу ослов, чтут Пана, представляющего
смесь человека с козлом, Аписа (быка) и других животных. В обвинении христиан
в почитании преступного человека Октавий опять видит такое суждение язычников,
которое вполне соответствует их воззрению на религию. Сами привыкшие к обоготворению
людей, особенно императоров, они и христианам желают навязать такое же поклонение,
не зная того, что Христос, Которого они чтут, был не только не преступник,
но и не простой человек, а сам Бог, принявший вид человека. Обвиняя христиан
в заклании младенца, язычники опять судят по себе, так как у них существует
вытравление плодом детоубийства и приношение детей в жертву. Ничего подобного
не встречается в обществе христианском. «Что же касается нас, — говорит Октавий,
— то нам не позволено и видеть человекоубийства, ни даже слышать о них; а проливать
человеческую кровь мы так боимся, что воздерживаемся даже от крови животных,
употребляемых нами в пищу» (гл. 30).
Еще менее с нравственным обществом христиан мирится обвинение их в половой
распущенности, тогда как среди самих язычников она царит во всей силе. Указав
при этом на гнусные обычаи персов и заметив, что у египтян и афинян законом
допущено супружество с сестрами, Октавий продолжает: «Ваши истории и трагедии,
которые вы читаете и слушаете с удовольствием, богаты примерами кровосмешения,
и боги, которых вы почитаете, также кровосмесники. А у нас целомудрие не только
в лице, но и в уме; мы охотно пребываем в узах брака, но только с одною женщиною,
для того, чтобы иметь детей. Собрания наши отличаются не только целомудрием,
но и трезвенностью; на них мы не предаемся пресыщению яствами, не услаждаем
пира вином; самую веселость мы умеряем строгостью, целомудренною речью и еще
более целомудренными движениями тела. Очень многие отличаются всегдашним девством
своего неоскверненного тела и этим не тщеславятся; наконец, мы так далеки от
кровосмешения, что некоторые стыдятся даже законного совокупления. Мы питаем
между собою взаимную любовь и называем друг друга братьями, как дети одного
Отца Бога, как сообщники веры, как сонаследники упования» (гл. 31).
Опровергнувши все обвинения язычников и обративши их на них же самих, Октавий
приступает к разбору и разъяснению христианских истин, которых касался в своей
речи Цецилий. На упрек в безбожии, основанный на том, что христиане не имеют
ни храмов, ни жертвенников, Октавий отвечает: «Какой храм Ему (Богу) построю,
когда весь этот мир, созданный Его могуществом, не может вместить Его? Стану
ли я приносить Господу жертвы и дар, которые Он произвел для моей же пользы,
чтобы повергать Ему Его собственный дар? Угодная Ему жертва — доброе сердце,
чистый ум и незапятнанная совесть. Посему, кто чтит невинность, тот молится
Богу; кто удерживается от обмана, тот умилостивляет Бога; кто избавляет ближнего
от опасности, тот закалает самую лучшую жертву». Отвечая на другой упрек Цецилия,
что христиане и сами не видят своего Бога, и другим не могут Его показать,
Октавий говорит: «Мы потому и веруем в Бога, что не видим Его, но можем Его
чувствовать сердцем. Ибо во всех делах Его, во всех явлениях мира мы усматриваем
присносущную силу Его, которая проявляется и в раскатах грома, и в блеске молнии,
и в ясной тишине неба». Точно также и всеведение Его не подлежит сомнению,
потому что все небесное и земное, и все находящееся за пределами этого видимого
мира, все известно Богу, все полно Его присутствия. Он повсюду и не только
близок к нам, но и находится внутри нас. Мы не только все делаем пред очами
Бога, но, так сказать, живем с Ним» (гл. 32).
Не должно, по мнению Октавия, смущать язычников и христианское учение о разрушении
мира и воскресении мертвых. Первое утверждают и языческие философы — стоики,
эпикурейцы, Платон. «И нисколько не удивительно, если эта громада будет разрушена
Тем, Кем она устроена». И относительно воскресения мертвых слабый намек дают
философы (Пифагор и Платон) в учении о существовании душ по смерти человека,
но христианское учение бесконечно превосходит их и по своей полноте, и по своему
совершенству. Оно учит не только о существовании душ, но и о воскресении всего
человека и в том же самом теле. «В самом деле, кто столько глуп и бессмысленен,
что осмелится говорить, будто Бог, Который мог первоначально создать человека,
не может потом воссоздать его? Гораздо труднее дать бытие тому, что не существовало,
нежели возобновить то, что уже получило его. Думаешь ли ты, что исчезает и
для Бога что-нибудь, как скоро скрывается от слабых очей наших? Всякое тело
— обращается ли оно в пыль или влагу, в пепел или пар, исчезает для нас, но
Бог сохраняет его элементы. Посмотри также на то, как вся природа, к нашему
утешению, внушает мысль о будущем воскресении. Солнце заходит и вновь появляется;
звезды скрываются и вновь возвращаются; цветы увядают и расцветают; деревья
после зимы снова распускаются; семена не возродятся, если прежде не сгниют,
так и тело на время, как деревья на зиму, скрывает жизненную силу под обманчивым
видом мертвенности». Сомнение же язычников в воскресении Октавий объясняет
их страхом посмертного суда за свои худые дела (гл. 34).
Наконец, Октавий обращается к упрекам Цецилия относительно бедственного положения
христиан, в котором язычник видел слабость или несправедливость христианского
Бога. «А что мы по большей части слывем бедными — это не позор для нас, а слава,
потому что душа как расслабляется от роскоши, так укрепляется от умеренности.
Да и как может быть беден тот, кто не имеет недостатка, не жаждет чужого, кто
богат в Боге? Как путешественнику тем удобнее идти, чем меньше он имеет с собою
груза, так точно на этом жизненном пути блаженнее человек, который облегчает
себя посредством бедности и не задыхается от тяжести богатства». Но не одну
бедность стойко переносят христиане, а и всякие другие недостатки, лишения
и несчастия, также находя в этом свои выгодные стороны. «А что мы чувствуем
недостатки тела и терпим их, — это не наказание, а доказательство нашего воинствования,
ибо мужество укрепляется немощами, а несчастие бывает часто школою добродетели.
Поэтому не думайте, чтобы Бог не был силен помочь нам или оставил нас, ибо
Он управляет всем и любит Своих; но Он подвергает каждого несчастью для испытания.
Таким образом, мы испытываемся несчастьями, как золото огнем» (гл. 36). «Какое
прекрасное зрелище для Бога, когда христианин борется со скорбью, когда он
твердо стоит против угроз, пыток и казней, когда он смеется над страхом смерти
и не боится палача, когда он сохраняет свою свободу перед царями и владыками
и преклоняется только перед Богом, Которому он принадлежит; когда он, как торжествующий
победитель, смеется даже над тем, кто приговорил его к казни!» Перед такими
подвигами христиан должны меркнуть подвиги языческих героев (Муция Сцеволы
и др.), потому что у христиан «не только мужчины, даже отроки и женщины, вооружившись
терпением в страданиях, презирают кресты, пытки, зверей и все ужасы казней.
И вы не понимаете, несчастные, что никто не захотел бы без причины подвергать
себя казни, никто не мог бы без божественной помощи вынести такие мучения».
Но, может быть, вас обольщает то, что и не зная Бога, многие изобилуют богатствами,
пользуются почестями, обладают могуществом? Несчастные! Может ли быть счастье
без знания Бога, когда, подобно сну, это счастье улетает прежде, чем его схватят?»
Октавий затем перечисляет несколько видов земного счастья — власть, богатство,
знатность рода, но находит, что такое счастье непрочно, скоропреходяще. Единственное
счастье заключается в добродетели, а она-то и есть принадлежность христиан.
Она служит для них масштабом, которым измеряются их поступки. Поэтому они справедливо
гнушаются безнравственных языческих зрелищ и не употребляют жертвенного мяса.
Украшать себя венками они считают бесполезным, так как цветы созданы для обоняния,
а не для ношения на голове. Еще более бесполезно класть венки на умерших, которые
ничего не чувствуют. Христиане же ищут венков только неувядаемых, даваемых
Богом за их терпение (гл. 37-38).
Доказательства Октавия, скрепленные ссылками на авторитетных для Цецилия философов,
и его убежденный тон настолько оказали действие на Цецилия, что он должен был
сознаться в своем заблуждении. Он сказал: «Мы оба победили, и я справедливо
приписываю себе победу, ибо Октавий победил меня, и я одержал победу над своим
заблуждением» (гл.40).
Результатом этого разговора было обращение в христианство Цецилия, и недавние
противники, сделавшиеся теперь единомышленниками, в радости возвратились домой.
|



