Х. В. Янсон, Э. Ф. Янсон
К оглавлению
ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА
Из всех цивилизаций древнего мира римская известна нам лучше других. Римляне оставили обширное литературное наследие, позволяющее проследить историю Древнего Рима во всем изобилии подробностей, которые не перестают нас восхищать. Но, как это ни парадоксально, труднее всего найти ответ на вопрос: «Что представляет собой искусство Древнего Рима?» Римский гений, столь явно распознаваемый в любой другой области человеческой деятельности, становится удивительно неуловимым, стоит нам задуматься над тем, существовал ли вообще стиль в искусстве, присущий именно Древнему Риму. В чем тут причина? Наиболее очевидное объяснение кроется в том, что римляне преклонялись перед греческим искусством всех эпох и направлений. Они тысячами вывозили из Греции созданные там оригиналы и копировали их в еще большем количестве. Вдобавок то, что создавалось в самом Риме, было явным подражанием греческим образцам, а многие работавшие там скульпторы и художники, начиная с времен республики и заканчивая эпохой крушения империи, были греческого происхождения. Однако если отвлечься от различий в тематике, то остается непреложным тот факт, что все произведения искусства, созданные в подражание греческим, ощутимо отличаются от последних, обладая явно выраженными «негреческими» чертами, предполагающими совершенно иные цели и задачи. Поэтому было бы правомерно оценивать искусство Древнего Рима в соответствии с критериями, применимыми для Древней Греции. Римская империя была в высшей степени сложным, неоднородным и открытым обществом, впитывавшим и переплавлявшим национальное и региональное в общеримское, являющееся одновременно и разнородным и единообразным. Черты римского искусства, свойственные именно Риму, скорее могут быть обнаружены в этом разностороннем его характере, нежели в единстве и последовательности художественной формы.
АРХИТЕКТУРА
Если скульптуру и живопись Древнего Рима действительно не без оснований подозревают во вторичности, то римская архитектура представляет собой поистине творческий подвиг, не дающий повода для подобного рода сомнений. Более того, с самого начала ее развитие отражало свойственный только Риму характер общественной и личной жизни, так что любые элементы, заимствованные у этрусков или у греков, очень скоро приобретали неизгладимый отпечаток римского стиля. Сооружения эпохи империи должны были вмещать такое количество людей, какое не смогли бы вместить постройки греческого образца, несмотря на всеобщее восхищение ими. Когда же возникла потребность обеспечить римских граждан всем необходимым, начиная с воды и заканчивая крупномасштабными зрелищами, пришлось выработать радикально новые формы с применением более дешевых материалов и более быстрых методов строительства.
С самого начала развития Рима как столичного города ведение в нем строительных работ предполагало использование арки и развившихся на ее основе трех типов сводов: бочарного (полуцилиндрического), крестового (представляющего собой пересечение под прямым углом двух бочарных) и, наконец, купольного. В равной степени необходимым оказался и бетон — смесь известнякового раствора и гравия с бутом, то есть кирпичной и каменной крошкой. Техника строительства из бетона была изобретена тысячелетием раньше на Ближнем Востоке, но римляне расширили область его применения и сделали основным методом строительства. Преимущества очевидны: прочный, дешевый и пластичный, именно он дал возможность создать грандиозные архитектурные сооружения, которые до наших дней остаются памятниками «былого величия Рима». Римляне умели спрятать непритязательную поверхность бетона под облицовкой — кирпичной или каменной кладкой, мраморными плитами или гладким слоем штукатурки. В наше время остатки римских построек по большей части лишились этого декоративного покрова, и обнажившийся бетон лишил римские развалины той привлекательности, которую имеют греческие. Руины Древнего Рима впечатляют иным: размерами, массивностью, смелостью замысла.
Святилище Фортуны Перворожденной (Примигении). Старейшим из архитектурных памятников, где эти качества проявились в полной мере, является святилище Фортуны Перворожденной в Палестрине, в отрогах Апеннинских гор, к востоку от Рима. Здесь, в имевшей некогда большое значение цитадели этрусков, с древнейших времен существовал необычный культ Фортуны (богини судьбы) как изначального божества — в сочетании с находившимся тут же знаменитым оракулом.
Построенное римлянами святилище относится к началу первого века до нашей эры. Система пандусов и террас (видны на илл. 84) ведет на огромный украшенный колоннадой двор, откуда мы по широкой лестнице, ступени которой напоминают расположение мест в древнегреческом театре, поднимаемся к полукруглой колоннаде, завершающей все это сооружение. Перекрытые арками проходы, обрамленные полуколоннами и антаблементами, а также ниши в форме полукруга играют важную роль. За исключением колонн и архитравов все открытые сегодня нашим глазам поверхности являются бетонными; действительно, трудно представить, какая еще строительная техника позволила бы создать комплекс такой протяженности.
Не только масштабность делает святилище в Палестрине таким впечатляющим, но и то, как прекрасно оно вписывается в ландшафт. Весь склон холма, который господствует над прилегающей местностью и тем напоминает афинский Акрополь, был преображен так, что кажется, будто архитектурные формы являются продолжением скал, словно люди завершили постройку, начатую самой природой. Такая обработка открытых про-, странств была невозможна в странах классической греческой культуры — да к этому и не стремились (нечто подобное можно найти лишь в Древнем Египте). Это противоречило и духу Рима эпохи республики. Знаменательно, что святилище в Палестрине относится ко временам диктатуры Суллы (82—79 г. до н. э.), когда наметился переход от республиканской формы правления к единоличному правлению Юлия Цезаря и стоявших после него во главе римской империи принцепсов.
Колизей. Арка и свод, с которыми мы встретились в Палестрине и которые служат существенным и неотъемлемым элементом римской монументальной архитектуры, свидетельствуют не только о высокой технике строительства в Древнем Риме, но также о свойственном римлянам чувстве упорядоченности и постоянства, вдохновлявшем их на создание подобных сооружений. Эти качества вновь впечатляют нас в Колизее, огромном амфитеатре, построенном в центре Рима для боев гладиаторов (илл. 85). Его сооружение было завершено в 80 г. н. э. Это одно из самых массивных когда-либо созданных руками человека отдельно стоящих зданий; до того как Колизей был частично разрушен, он вмещал свыше 50 тысяч зрителей. Это настоящий шедевр инженерной мысли. Его бетонная плоть прорезана многокилометровыми сводчатыми коридорами и лестницами, облегчающими проход огромного количества людей к арене и от нее. Его внешний декор — благородный и монументальный — повторяет скрытые под ним особенности конструкции, но как бы «одевает» их резным камнем и акцентирует находящиеся в замечательном равновесии вертикальные и горизонтальные элементы, представленные полуколоннами и антаблементами, содержащими бесконечные ряды арок. Колонны всех трех классических ордеров размещены одни над другими в соответствии с присущим им «весом». Колонны дорического, самого древнего и строгого ордера, размещены на нервом этаже, затем следуют колонны ионического и коринфского ордеров. Возрастание легкости пропорций едва уловимо; все эти ордера в их римской интерпретации смотрятся почти одинаково. Ценность колонн как несущих элементов конструкции стала призрачной, однако эстетическая функция сохранена, ибо благодаря им огромная протяженность фасада соотносится с возможностями человеческого восприятия.
Арки, своды и бетон впервые в истории архитектуры позволили римлянам создать обширные внутренние пространства. Вначале они применялись главным образом в термах — огромных банях, которые ко временам империи стали важными центрами общественной жизни. Опыт, накопленный при их строительстве, был использован при сооружении других, более традиционных для римской архитектуры зданий, и это подчас приводило к поистине революционным результатам.
Пантеон. Наиболее удивительным примером такого рода может служить знаменитый Пантеон в Риме, огромный круглый храм, построенный в начале П в. н. э. Из всех уцелевших до настоящего времени зданий это обладает лучше всего сохранившимся, а также наиболее впечатляющим интерьером (илл. 86). Круглые храмы существовали задолго до Пантеона, но столь сильно отличались от него по форме, что он не может быть поставлен в один ряд с ними. Снаружи здание выглядит как лишенный украшений барабан цилиндрической формы, над которым возвышается купол, покрытый неброской резьбой. Вход в храм выделен довольно глубоким портиком, обычным для римских храмов. Соединение этих двух элементов кажется несколько нарочитым, но следует помнить, что в настоящее время мы не можем видеть здание так,
как предполагалось изначально: теперь уровень прилегающих улиц значительно выше, чем в древности.
То, что создание опоры для огромной полусферы купола не является трудноразрешимой технической задачей для строителей, видно из тяжеловесной незамысловатости поддерживающей его стены. Ничто во внешнем облике храма не предполагает даже в малейшей степени изящества и воздушной легкости интерьера; их не удается воссоздать средствами фотографии, и даже (илл. 87) которую мы здесь приводим, не может в полной мере передать соответствующего впечатления. Высота от пола до отверстия в своде (его называют «окулус», что значит «глаз») в точности соответствует диаметру основания купола; таким образом, храм удивительно пропорционален. Вес купола распределен по восьми составляющим монолит секциям стены (илл. 88). Между ними архитектор смело разместил прикрытие колоннами ниши — углубления в массивной бетонной стене; они не сквозные, но обеспечивают иллюзию открытого пространства позади опор, создавая впечатление, что стены не столь толсты, а купол гораздо легче, нежели в действительности. Многоцветные мраморные панели отделки, а также каменные плиты пола по-прежнему находятся на своих местах, но купол первоначально был вызолочен, чтобы напоминать «золотой свод небес».
Как и подсказывает его название, Пантеон был посвящен всем богам или, точнее, семи из них, чьи имена соответствуют названиям планет (в храме имеется семь ниш). Таким образом, предположение, что золотой потолок символизирует небесный свод, представляется обоснованным. Стоит отметить, что у этой торжественной и величественной постройки были довольно скромные предшественники. Римский архитектор Витрувий, живший более чем за сто лет до сооружения Пантеона, описывает парное помещение в банях, имеющее (разумеется при гораздо меньших размерах) те же основные отличительные признаки, что и Пантеон: свод в форме полусферы, пропорциональное отношение высоты к ширине и круглое отверстие в центре свода, (которое могло закрываться подвешенной на цепях бронзовой заслонкой в целях регулирования температуры в парном помещении).
Базилика Константина. У построенной в начале IV в. н. э. базилики Константина тоже были предшественники. Первые такие здания появились в Греции периода эллинизма. Это были предназначенные для различных целей общественные сооружения с довольно длинным прямоугольным залом внутри. При римском владычестве такие постройки стали типичными для каждого крупного города; они использовались преимущественно для проведения судебных заседаний — суды, отправлявшие правосудие от имени императора, должны были размещаться в достойном их помещении. Однако здание, построенное Константином, отличается от других базилик, напоминая по форме главные помещения терм Каракаллы и Диоклетиана — так звали правивших ранее императоров, при которых они были возведены. Только размеры базилики больше. Пожалуй, это было самое большое из крытых помещений во всем Древнем Риме. До сегодняшнего дня дошел только северный боковой неф — три огромные секции, перекрытых бочарными сводами (илл. 89). В верхней части центрального нефа находился ряд больших окон, так что несмотря на огромные размеры в базилике было достаточно света и воздуха (илл. 90). Подобное архитектурное решение впоследствии будет часто встречаться в самых различных зданиях — от церквей до вокзалов.
СКУЛЬПТУРА
Спор по поводу того, существует ли такое понятие как «римский стиль», по вполне понятной причине в основном касается именно скульптуры. Даже, если не учитывать массовый ввоз и копирование греческих оригиналов, репутация римских мастеров как имитаторов представляется оправданной, так как большое число работ, скорее всего являются переделками и вариантами греческих образцов всех периодов развития скульптуры. Спрос на скульптуру в Риме был огромным, и это отчасти диктовалось любовью римлян к старине, отчасти желанием как можно пышнее украсить интерьеры. Вместе с тем, без сомнения, некоторым видам скульптуры отводились в Древнем Риме важные и серьезные функции. Именно эти виды скульптуры и получили наибольшее развитие в римском искусстве. Самыми интересными и примечательными из них стали скульптурный портрет и повествующий рельеф,— жанры, имеющие глубокие корни в жизни римского общества.
Скульптурный портрет
Из литературных источников Древнего Рима мы знаем, что со времен ранней республики наиболее прославленных политических и военных деятелей увековечивали, воздвигая им статуи в общественных местах. Эта традиция продолжалась около тысячи лет, до конца существования Римской империи. К сожалению, первые четыреста лет являются для нас закрытой книгой: на сегодняшний день не известно ни одного скульптурного портрета, который можно было бы датировать более ранним временем, чем I в. до н. э. Вполне возможно, что монументальный и ярко выраженный римский стиль скульптурного портрета сложился только со времен Суллы, к которым относится также и становление римской архитектуры (см. стр. 94). Скульптурный портрет произошел от очень древнего патриархального римского обычая: после смерти главы семьи с его лица снималась восковая маска, хранившаяся затем в особом шкафу,- своего рода семейном алтаре. Эти маски предков несли во время похоронной процессии. Такое почитание предков восходит к обычаям первобытного общества (см. илл. 23). В патрицианских семьях даже периода империи продолжали неуклонно придерживаться этих же традиций. Возможно, стремление патрициев воспроизвести недолговечные восковые изображения в мраморе и затем выставить их для всеобщего обозрения объясняется желанием обратить внимание на древность рода и тем самым упрочить свое ведущее положение в обществе.
Скульптурные портреты предков
В силу таких намерений и была создана статуя, которую мы видим на илл. 91- Она изображает неизвестного римлянина, держащего два бюста предков, предположительно отца и деда. Эти изваяния отличающиеся достаточной выразительностью, являются копиями с утраченных оригиналов. Различия в стиле их исполнения и форме показывают, что оригинал, с которого был выполнен бюст слева, примерно на тридцать лет старше бюста справа. Эту скульптуру в целом нельзя
Вместе с тем, имело значение лишь лицо изображенного человека, а не творческий почерк мастера. Поэтому наиболее характерными чертами римских портретов стали холодная и прозрачная «фотографичность». Так и хочется сказать, что в этих работах отсутствует вдохновение — не в осуждение, а чтобы отметить основное отличие римского мастера по сравнению с греческими или даже этрусскими портретистами. Такая серьезность была намеренной и считалась достоинством. Подтверждение этому мы находим при сравнении правого бюста предка с прекрасным эллинистическим портретом с острова Делос на иллюстрации 75. Вряд ли можно себе представить более убедительный контраст. Оба с удивительной точностью передают портретное сходство, но эти две работы принадлежат различным мирам. Если эллинистический портрет впечатляет тонким психологизмом проникновения скульптора во внутренний мир модели, то римский с первого взгляда поражает отсутствием чего бы то ни было кроме тщательного воспроизведения черт лица; по существу, характер изображенного человека проступает непреднамеренно. Но это только кажется: черты лица действительно переданы достоверно, но скульптор придал им свойства, типичные для личности истинного римлянина: жестокость, грубоватость, железная воля и чувство долга. Этот бюст создает впечатление пугающей властности, и черты тщательно проработанного портретного сходства подобны конкретным фактам биографии.
Статуя Августа из Примапорты. По мере приближения к эпохе принципата Октавиана Августа (27 г. до н. э. — 14 г. н. э.) в древнеримских скульптурных портретах все более явно прослеживается новое направление. Его отличительные черты наиболее полно проявились в великолепной статуе Августа из Примапорты (илл. 92). При беглом взгляде на нее нельзя сказать с уверенностью, бог это или человек. И это понятно: скульптор явно хотел одновременно изобразить и того и другого. Здесь, в Древнем Риме, мы вновь встречаемся с существовавшей еще в древности в Египте и на Ближнем Востоке, концепцией обожествленного правителя. Она проникла в греческую культуру в IV в. до н. э.; таким обожествленным правителем стал Александр Македонский, а затем его последователи. От них эта традиция перешла к Юлию Цезарю и другим римским императорам.
Идея привнести в облик императора сверхчеловеческие черты и посредством этого повысить его авторитет прижилась и стала официальной политикой. Правда, при Августе она еще не знала таких крайностей, как при последующих императорах, и все же в статуе из Примапорты очевидно желание придать облику Августа божественный вид. Однако, несмотря на то, что статуя изображает идеализированного героя, в ней безошибочно угадывается римское происхождение. Одежда— в том числе нагрудный доспех с изображенной на нем аллегорической сценой — реалистично воспроизводит текстуру поверхности, удивительно точно передавая впечатление ткани, кожи, металла. Черты лица тоже подверглись идеализации или, лучше сказать, «эллинизации». Незначительные физиономические подробности притушеваны, внимание сосредоточено на глазах, что делает взгляд «вдохновенным». Вместе с тем, имеет место явное портретное сходство, возвышенное не подавляет индивидуального. Это становится особенно очевидным при сравнении с другими бесчисленными скульптурными портретами Августа. Возможно, эта статуя, найденная на вилле жены Августа, создавалась в соответствии с его личными указаниями. Она отличается высоким художественным уровнем исполнения, редко встречающимся в портретах правителей, которые создавались в условиях массового производства.
Древний Рим дал огромное количество скульптурных портретов самых различных типов и стилей; их разнообразие отражает сложный и многогранный характер римского общества. Если считать одним полюсом этого многообразия восходящую к временам республики традицию изображений предков, а другим — вдохновленную эллинистическим искусством статую Августа из Примапор-ты, мы сможем найти между ними бесчисленные варианты их сочетания и взаимопроникновения. Так, Август соблюдал древний римский обычай и был всегда чисто выбрит. Впоследствии же римские императоры восприняли греческую моду и стали носить бороду, выражая тем самым свое преклонение перед эллинистическими традициями. Таким образом, когда в скульптуре второго века нашей эры мы встречаем сильное стремление приблизиться к классическим образцам, часто носящее холодный, формальный характер, то это нас не удивляет. Это направление особенно усиливается во времена правления Адриана и Марка Аврелия, которые в качестве частных лиц проявляли глубокий интерес к греческой философии.
Конные статуи
Такая тенденция ощутима в статуе, изображающей Марка Аврелия на коне (илл. 93), которая примечательна не только как единственный из дошедших до нас конных памятников императорам, но и как одна из немногих древнеримских статуй, остававшихся доступными для всеобщего обозрения на протяжении всего средневековья. Традиция придавать восседавшему на коне императору образ непобедимого владыки мира укоренилась еще со времен Юлия Цезаря, когда он дозволил воздвигнуть себе подобный памятник на Юлианском форуме. Марк Аврелий тоже хотел выглядеть победоносным — под правым передним копытом его коня когда-то находилась скорчившаяся фигурка варварского вождя. В высшей степени одухотворенный образ могучего коня передает ратный дух, но сама фигура императора, лишенная доспехов и вооружения, выражает стоическую отрешенность. Это скорей образ миротворца, а не военного героя. Таким и был взгляд этого императора на самого себя и на свое правление (161— 180 . до . .).
Портретные бюсты
Правление Марка Аврелия было затишьем, случающимся перед бурей. Третий век застал Римскую империю в состоянии почти постоянного кризиса, продлившегося целое столетие. Варвары угрожали ее широко раздвинувшимся границам, а внутренние проблемы и конфликты подрывали авторитет императорской власти. Удержать ее стало возможно только при помощи откровенной силы, приобретение императорского титула посредством убийства вошло в привычку. Так называемые «солдатские императоры» — наемники из дальних провинций империи, захватившие власть благодаря поддержке расквартированных там легионов, сменяли один другого через короткие промежутки времени. Бюсты некоторых из них, такие как портрет Филиппа Аравитянина (илл. 94), правившего с 244 по 249 г., принадлежат к наиболее сильным произведениям в этом жанре искусства. Реализм в духе портретов эпохи республики, с которым они воспроизводят черты изображаемого человека, не знает компромиссов, но скульптор ставит перед собой задачу более сложную, чем просто передать портретное сходство: все темные страсти человеческой души — страх, подозрительность, жестокость — внезапно находят здесь свое воплощение с почти невероятною прямотой. В чертах Филиппа отразилась вся жестокость его времени, но каким-то странным образом он вызывает в нас жалость: в его облике присутствует какая-то психологическая обнаженность, в результате чего перед нами предстает существо жестокое, но загнанное в угол и обреченное. Результат напоминает нам о бюсте с острова Делос (см. илл. 75). Отметим, однако, новизну пластических средств, с помощью которых достигается столь сильное воздействие этого римского портрета на зрителя. Прежде всего нас поражает выразительность глаз. Создается впечатление, что взор прикован к чему-то не видимому нами, но представляющему угрозу. Вырезанные очертания радужной оболочки глаз и обозначенные углублениями зрачки — приемы, не применявшиеся в более ранних портретах — позволяют показать направление взгляда. Волосы тоже переданы средствами, противоречащими классическим канонам, и напоминают плотно прилегающий к голове чепец с поверхностью, передающей их текстуру. Лицу специально придан небритый вид: его поверхность в области нижней челюсти и вокруг губ сделана шероховатой с помощью коротких следов резца.
Как мы видим, агония древнеримского мира носила и духовный, и физический характер. По тем же двум направлениям должно было идти и возвеличивание его новой славы согласно замыслу Константина Великого (илл. 95), обновителя империи, ее первого правителя-христианина. То, что мы видим, не просто бюст, это один из нескольких сохранившихся фрагментов гигантской (только голова имеет в высоту 2,44 м) статуи, которая когда-то находилась в огромной базилике Константина (см. илл. 89). В этой голове все настолько нарушает обычные пропорции, что она подавляет зрителя своей величественностью. Задачей скульптора было создать впечатление некоей превосходящей все мыслимые масштабы мощи, что подчеркивается массивными, неподвижными чертами лица; особенно впечатляет пристальный гипнотический взгляд огромных лучистых глаз. Это изображение в сущности говорит не столько о том, как выглядел Константин на самом деле, сколько о том, как он воспринимал себя сам и каким был для его восторженных подданных.
Рельефные изображения
Изобразительное искусство эпохи империи не ограничивалось портретом. Ее правители стремились увековечить свои деяния с помощью рельефов, содержание которых носило повествовательный характер и которыми украшались монументальные алтари, триумфальные арки и колонны. Подобные изображения знакомы нам по древним культурам Ближнего Востока (см. илл. 28, 45 и 46), но не Древней Греции. Исторические события — то есть события, произошедшие в определенном месте и в определенное время,— не интересовали скульпторов Греции классического периода. Если требовалось увековечить победу над персами, это делалось не напрямую, а изображалась битва лапифов с кентаврами либо греков и амазонок — мифологическое событие без пространственно-временных связей с реальностью. Даже в эллинистическую эпоху эта тенденция была преобладающей, хотя уже не абсолютно. Когда цари Пергама хотели увековечить свои победы над гал-латами, последние были изображены как таковые, но в типичных позах, означающих поражение и не характерных для настоящей битвы (см. илл. 76).
Греческим художникам, однако все же случалось, создавать произведения, посвященные историческим событиям. Мозаичная картина из Помпеи, изображающая «Битву при Иссе» (см. илл. 59), по-видимому, воспроизводит созданную около 315 г. до н. э. знаменитую работу греческого мастера, изображающую победу Александра Македонского над персидским царем Дарием. Начиная с Ш в. до н. э. и в Риме начали создаваться картины, отражающие его историю. Выполненные на дереве, они играли роль своего рода плакатов, пропагандирующих триумфы того или иного героя. Однако уже в последние годы республики такие недолговечные средства отображения происходивших событий стали уступать место более «солидным» и монументальным формам: вырезанные из камня рельефы украшали сооружения, которые должны были просуществовать целую вечность. Таким образом, они являлись подходящим средством прославления императоров, и те стремились использовать его как можно шире.
Арка Тита. Вершиной искусства рельефа в Древнем Риме являются две большие панели, повествующие о деяниях императора Тита и украшающие триумфальную арку, воздвигнутую в 81 г. н. э., чтобы увековечить его победы. На одной из них (илл. 96) показана часть триумфальной процессии в честь завоевания Иерусалима. В число изображенных трофеев входят семисвечник и другие священные предметы. Несмотря на большой объем работы скульптору с удивительным успехом удалось передать движение многолюдной толпы. В правом углу рельефа процессия поворачивает и, удаляясь от нас, проходит через триумфальную арку. Она как бы исчезает в ней: арка размещена под углом, так что мы видим только ближнюю ее часть с входом — радикальный, но эффективный прием.
Колонна Траяна. Задачи, стоявшие перед изобразительным искусством эпохи империи, зачастую были несовместимы с реалистической трактовкой пространства. Воздвигнутая в 106—113 гг. н. э. в память победоносных походов императора против даков, населявших в древности территорию Румынии, колонна Траяна (илл. 97) обвита сплошной лентой рельефа, образующего фриз, композиция которого с точки зрения количества фигур и «плотности» повествования превосходит все созданное к тому времени. При этом большая часть труда резчиков оказывается «напрасной», ибо зрители — согласно удачному высказыванию одного из ученых— «должны бегать кругами наподобие цирковой лошади», чтобы следовать разворачивающемуся повествованию, и едва ли могут что-нибудь рассмотреть выше четвертого или пятого витка без бинокля. Спиральный фриз был новой и ко многому обязывающей формой исторического повествования, требовавшей от скульптора решения многих трудных задач. Ввиду отсутствия поясняющих надписей изображению следовало быть самодостаточным, то есть максимально понятным; это значит, пространственное оформление каждого эпизода тщательно продумывалось. Внешняя непрерывность изображения должна была сочетаться с внутренней целостностью отдельных сцен. При этом глубину собственно резьбы требовалось уменьшить по сравнению с такими рельефами, как те, что украшали арку Гита, ибо в таком случае тени, отбрасываемые выступающими деталями, сделали бы изображение «нечитаемым» для находящегося внизу зрителя. Скульптору удалось блестяще решить все эти задачи, однако за счет того, что он почти полностью пожертвовал впечатлением глубины пространства. Ему пришлось свести пейзаж и архитектуру к упрощенным декорациям и увеличить угол наклона поверхности, на которой стоят фигуры, как бы приподняв ее. Те сцены, которые видны на иллюстрации, служат прекрасным примером изображения исторических событий на колонне. Сражения среди более чем ста пятидесяти отдельных эпизодов показаны редко; вместе с тем большое внимание уделено политическим и географическим аспектам войны с даками и тыловому обеспечению войск. Это сближает содержание фриза со знаменитыми «Записками о Галльской войне» Юлия Цезаря.
ЖИВОПИСЬ
По сравнению с тем, что известно о древнеримских скульптуре и архитектуре, наши знания о живописи Древнего Рима бесконечно малы. Почти все дошедшие до нас произведения принадлежат к жанру настенной росписи, причем подавляющее большинство их обнаружено либо при раскопках Помпеи, Геркуланума и других поселений, погибших при извержении Везувия в 79 г. н. э., либо найдены в Риме и его окрестностях. Они принадлежат к узкому промежутку времени, продолжительностью менее двух столетий. Никто не станет отрицать, что это был период, когда копировались греческие образцы, ввозились греческие работы и приезжали греческие мастера. Но «Битва при Иссе» (см. илл. 59) является одним из немногих тому свидетельств.
Римский иллюзионизм
Примером преобладавшего в те времена стиля служит роспись украшающая один из углов «комнаты Иксиона» в раскопанной в Помпее «доме Веттиев» (илл. 98)— Здесь все иллюзорно: и стены, раскрашенные под мраморные плиты, и окантованные, как бы заключенные в рамы, мифологические сцены, создающие впечатление вставленных в стену картин, написанных на деревянных досках, и открывающийся за нарисованными окнами вид на фантастические архитектурные сооружения — все это напоминает несколько нестройное слияние тем, исполняемых разными музыкальными инструментами. Архитектурные фрагменты тоже отличаются какой-то странной и нереальной живописностью, воспроизводящей, по-видимому, театральные задники того времени. Искусная имитация различных материалов и отдаленных пейзажей создает иллюзию реального трехмерного пространства, но при первой же попытке проанализировать, как соотносятся элементы этой «трехмерной» картины, мы начинаем понимать, что римский художник не имел отчетливого представления о том, как передать глубину пространства, что выстраиваемая им перспектива бессистемна и внутренне противоречива. По сути, он никогда не приглашает нас «войти» в создаваемое им пространство. Подобно некоей обетованной земле, оно всегда остается недосягаемым, лежащим по другую сторону от нашего мира.
Когда место архитектурных композиций занимает пейзаж, неукоснительное соблюдение законов перспективы становится не столь важным, и достоинства, свойственные методу, применяемому римскими художниками, начинают перевешивать его недостатки. Это особенно хорошо заметно в знаменитых «пейзажах с Одиссеем» — длинной ленте пейзажа, поделенной пилястрами на восемь отрезков. На каждом из них изображен эпизод из странствий Одиссея (Улисса). На илл. 99 показана сцена с лестригонами. Воздушные, голубоватые тона создают чудесное чувство залитого светом пространства. Оно как бы обволакивает и связывает воедино все, что существует в этой теплой, волшебной средиземноморской стране, где фигуры людей кажутся не более чем случайностью. Лишь при более пристальном рассмотрении мы понимаем, насколько хрупка эта гармония даже в столь совершенном произведении: обратив внимание на детали пейзажа, мы найдем его таким же претенциозным, как и упоминавшиеся выше архитектурные фантазии. Его единство проистекает не из композиции, а из поэтического настроения.
Вилла мистерий. Существует все же один уникальный для древнеримской живописи памятник, который поражает нас великолепием замысла и единством стиля: это огромный фриз в одном из помещений «Виллы мистерий» поблизости от Помпеи (илл. 100). Художник разместил изображенные им фигуры на узком зеленом основании. Фоном для них служат повторяющиеся красные панели, разделенные черными полосами — что-то вроде кадров диафильма, где разыгрывается какое-то странное и торжественно-скорбное обрядовое действо. Кто они, в чем состоит смысл этого цикла? Многое остается загадкой, но очевидно, что здесь изображены различные ритуалы из дионисийских мистерий — древнего полутайного культа, завезенного в Италию из Греции. Две реальности— действительная и мифологическая — как бы сливаются здесь воедино. Их взаимопроникновение мы ощущаем во всех фигурах, в которых действительно чувствуется нечто общее — благородство осанки и выразительность поз, изумительное мастерство, с которым выписаны тела и драпировки, а также увлеченность, с которой они участвуют в разыгрываемой мистерии. Многие позы и жесты позаимствованы из греческого изобразительного искусства классического периода, но в них нет вторичности— следствия углубленного изучения предшествующих образцов — и связанной с этим некоторой неестественности, которая свойственна тому, что мы зовем классицизмом. Исключительный дар проникновения в суть художественного образа позволил художнику наполнить прежние формы новой жизненной силой. Вне зависимости от того, каким образом его творчество связано с не дошедшими до нас работами знаменитых греческих художников, он является их законным наследником, подобно тому как писавшие на латинском языке выдающиеся древнеримские поэты эпохи принципата Августа — такие как Вергилий, Гораций, Овидий и другие — являются истинными продолжателями греческой поэтической традиции.
Живописные портреты
Согласно сообщению Плиния, живописный портрет был широко распространен в Древнем Риме еще во времена республики, однако ни одного такого произведения до нас не дошло. Зато в распоряжении искусствоведов имеется достаточно полная группа портретов из Фаюмского оазиса в Нижнем Египте. Этим мы обязаны сохранившемуся до времен Римской империи (а может быть и возродившемуся) древнеегипетскому обычаю прикреплять портрет умершего к его завернутому в ткань мумифицированному телу. Удивительная свежесть их красок объясняется тем, что они выполнены в отличающейся чрезвычайной долговечностью технике энкаустики, в соответствии с которой краситель разводится в жидком воске. Такую краску можно сделать матовой и густой, как масляная, и наоборот — заставить ложиться тонким, прозрачным слоем. Лучшие из этих портретов, такие как тот, что показан на илл. 101, отличаются непревзойденными смелостью, непосредственностью и уверенностью мазка. Изображенный на нем темноволосый мальчик кажется живым — столь осязаемо воплотили правду жизни лучистые краски художника. Особо выделены глаза. В какой-то мере стилизованы и некоторые другие черты, но к счастью, в данном случае это не сказалось на качестве портрета, а лишь подчеркивает детскую привлекательность безвозвратно утраченного родителями ребенка.
РАННЕХРИСТИАНСКОЕ И ВИЗАНТИЙСКОЕ ИСКУССТВО
В 323 г. н. э. Константин Великий принял судьбоносное решение, последствия которого ощущаются по сей день — он повелел перенести столицу империи в греческий город Византии, известный после этого как Константинополь (ныне Стамбул). Император предпринял такой шаг осознавая рост стратегического и экономического значения восточных провинций. Перенос столицы был также связан с тем, что отныне основанием и краеугольным камнем империи должно было стать христианство. Константин едва ли смог бы предвидеть, что такое изменение местопребывания императора приведет к расколу всего государства. Однако не прошло и ста лет, как раздел империи стал свершившимся фактом, хотя императоры, правившие в Константинополе, не спешили расстаться с притязаниями на западные провинции. Последние, управляемые императорами Западной Римской империи, вскоре были захвачены вторгшимися германскими племенами. К концу VI в. на ее территории исчезли последние остатки власти римлян. Восточная империя, впоследствии получившая название Византийской, выдержала удары варваров, а при императоре Юстиниане (527—565) стала опять могущественной и стабильной.
Раздел империи вскоре повлек за собой и религиозный раскол. Во времена Константина римский епископ, или, как его называли римский папа, был общепризнанным главой всех христиан; влияние его кафедры было следствием авторитета ее основателя, Св. апостола Петра. Однако различия между восточным и западным христианством постепенно накапливались, углублялись, а когда возникли расхождения в доктрине, то разрыв между католицизмом и православием, возглавляемый римским папой и константинопольским патриархом, стал неизбежен. Разногласия являлись действительно глубокими. Католическая церковь к тому времени была независима от какой бы то ни было государственной власти; в соответствии со своей идеологией всемирной церкви она превратилась в наднациональный институт. Православная же церковь основывалась на союзе светской и духовной властей, представляемых императором и патриархом, причем первый назначал второго. Здесь видно продолжение имевшей место еще в Древнем Египте и на Ближнем Востоке традиции сакральной царской власти, но в христианской адаптации. Византийские императоры в отличие от своих предшественников-язычников не могли притязать на статус богов, но они приняли на себя роль главы как церкви, так и государства.
Эти религиозные различия между Востоком и Западом даже в еще большей мере, чем политическое разделение заставляют выбрать двойное заглавие данной главы. Термин «раннехристианское искусство» строго говоря относится не к определенному стилю, а к любому произведению искусства в области христианской культуры, созданному до разделения церквей, или, примерно, к первым пяти векам нашей эры. Термин «византийское искусство», с другой стороны, обозначает не только искусство восточной части Римской империи, но и специфический стиль. НосколькуЛ этот стиль вырос из определенных тенденций, возникновение которых можно отнести к правлению Константина и даже более раннему времени, то очевидно, что четких различий между раннехристианским и византийским искусством не существует. Так, правление Юстиниана называют первым «золотым веком» византийского искусства. Однако, созданные на средства казны памятники, особенно находящиеся в Италии, можно рассматривать в зависимости от точки зрения как раннехристианские, либо как византийские.
Пройдет немного времени, и политико-религиозные расхождения между Востоком и Западом породят также художественные различия. В Западной Европе кельтские и германские народы выступят в роли наследников позднеантичной цивилизации, частью которой является раннехристианское искусство, и трансформируют его в искусство средневековое. Напротив, Восток не испытает подобного перелома. В Византии поздняя античность проживет еще долгую жизнь, только греческие и восточные элементы выступят на передний план за счет уменьшения значения собственно римского наследия. Поэтому византийская цивилизация так никогда и не станет в полном смысле средневековой.
РАННЕХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО
Вплоть до правления Константина Великого мало что можно с уверенностью сказать о христианском искусстве. Единственным достаточно полным источником соответствующих сведений служат росписи римских катакомб, где находятся захоронения ранних христиан. Но это, по-видимому, лишь одна из существовавших в то время разновидностей христианского искусства. Тогда Рим еще не был главным центром христианства. В больших городах Северной Африки и Ближнего Востока, таких как Александрия и Антиохия, существовали более старые и многочисленные христианские общины. Возможно, там христианское искусство развивалось в русле иных художественных традиций, но от него мало что сохранилось. Если нехватка материалов по восточным провинциям Римской империи мешает проследить тенденции развития христианского искусства в раннюю пору его существования, то сохранившаяся катакомбная живопись достаточно полно рассказывает нам о духовной жизни создавших ее общин.
Катакомбы
Погребальный ритуал и обеспечение безопасности захоронений имели для первых христиан большое значение, поскольку их вера основывалась на ожидании вечной жизни в раю. Образный строй катакомбной живописи, как мы видим на илл. 102, где показана роспись потолка, наглядно отражает новое мировоззрение, хотя сами художественные формы остались прежними, типичными для дохристианских настенных изображений. Пространство потолка все так же делится на разграниченные участки— запоздалый и упрощенный отзвук иллюзионистических архитектурных композиций пом-пейских росписей. Способ передачи фигур, а также пейзажные вставки наводят на мысль об их происхождении от одного и того же прототипа. Однако в исполнении художника, обладающего весьма скромным дарованием, испытанный в римском искусстве прием не срабатывает: здесь он лишен своего исходного смысла. Но это мало заботит художника. Отвлекаясь от первоначального значения приема, живописец вкладывает в него новое символическое содержание. Здесь задействовано даже геометрическое членение потолка: большой круг явно символизирует небесный свод, на котором начертан крест — основной символ новой веры. В центральном медальоне мы видим молодого пастуха с овцой на плечах в позе, которая восходит еще к греческому искусству эпохи архаики. Он символизирует Христа-Спасителя, «Пастора Доброго», отдающего жизнь «за овцы своя». В полукружиях, размещенных по периферии, находятся сцены, рассказывающие библейскую историю пророка Ионы. Слева показано, как Иону бросают с корабля в море, справа он выходит из чрева кита. Внизу мы видим его уже на суше — избавившись от опасности, он размышляет о милосердии Божьем. Этот ветхозаветный сюжет, часто сравниваемый с чудесами, описанными в Новом завете, был очень популярен в раннехристианском искусстве, подтверждая, что Господь властен спасти верующего от, казалось бы, неминуемой смерти. Стоящие фигуры — это члены церкви; молитвенно подняв руки, они обращаются к Богу с просьбой о помощи. Вся эта композиция, не отличающаяся масштабностью или выразительностью исполнения, имеет, однако, внутреннюю целостность и хорошо понятна зрителю, что выгодно отличает ее от подобных работ времен язычества.
Архитектура
Решение Константина сделать христианство государственной религией империи имело для христианского искусства огромные последствия. До этого члены общины не могли открыто собираться для богослужений. Церковные службы совершались скрытно в домах наиболее состоятельных единоверцев. Теперь для нового официального культа предстояло едва ли не за одну ночь построить представительные здания, чтобы христианская церковь функционировала у всех на виду. Константин принял меры, чтобы для решения этой задачи было выделено максимальное количество средств, и за несколько лет на деньги казны было создано невероятное количество больших церковных построек, причем не только в Риме, но и в Константинополе, в Палестине и других имевших важное значение местах.
Церковь Сан-Аполлинаре-ин-Классе. Эти здания представляли собой новый тип сооружения — раннехристианскую базилику — послуживший основой развития церковной архитектуры в Западной Европе. Раннехристианская базилика, как это видно на примере церкви Сан-Аполлинаре-ин-Классе поблизости от Равенны (илл. 103, 104), представляет собой результат слияния архитектурных форм, характерных для зала собраний, храма и частного жилища. Для этого типа зданий характерно также присущее истинным произведениям искусства своеобразие, и свойственные им черты не могут быть объяснены только исходя из соответствующих архитектурных прототипов. Освещение посредством верхнего ряда окон с двумя боковыми нефами, апсида и деревянная крыша напоминают о языческих базиликах времен империи. На иллюстрации показан вид церкви с запада. Расположенное при входе помещение,— нартекс, заменило атриум,—окруженный колоннадой двор, снесенный еще в давние времена. Круглая коло-кольня-кампанилла была пристроена в средние века. (Многие церкви, выстроенные по типу базилики, имеют также трансепт — поперечный неф — пересекающий главный под прямым углом, благодаря чему здание имеет в плане форму креста. Этот элемент часто отсутствует, как, например в церкви Сан-Аполлинаре.) Такой тип зданий как базилика, ставший уже традиционным для римской архитектуры, прекрасно подходил для церквей времен императора Константина: он обеспечивал наличие большого внутреннего пространства, требующегося для христианского богослужения, и вызывал в то же время необходимые ассоциации, связанные с традиционным использованием таких построек, что имело важное значение, поскольку христианству был официально присвоен привеле-гированный статус. Но здание церкви есть нечто большее, чем просто место, где собираются верующие. Это прибежище общины верных, но прежде всего — дом Бога, христианская святыня, заменившая прежние храмы.
Для того, чтобы максимально приспособить базилику для этой новой функции, были внесены некоторые изменения, и ее планировка получила новый ориентир. Им стал алтарь, размещенный перед апсидой в восточном конце главного нефа. В отличие от языческих базилик, обычно имевших боковые входы, вход в церковь был перемещен к западному торцу. Таким образом, в христианской базилике главной стала ориентация вдоль продольной оси, напоминающая, как это ни странно, храмы древнего Египта (см. илл. 36).
На примере церкви Сан-Аполлинаре-ин-Классе мы можем увидеть и другое важное отличие раннехристианской церковной архитектуры: резкий контраст между внешним видом и внутренним убранством. Снаружи простая кирпичная кладка стен лишена каких-либо украшений, и кажется, будто это лишь оболочка, в своих очертаниях повторяющая форму внутреннего помещения,— идея прямо противоположная концепции классического античного храма. Но стоит войти в саму церковь, как аскетичность и своего рода «антимонументальность» фасада уступает место роскошному внутреннему убранству (илл. 105). Оставив за порогом мир повседневности, мы ощущаем себя здесь в царстве света и мерцающих красок, где драгоценная мраморная облицовка и сияющие наподобие множества бриллиантов мозаики напоминают о духовном величии Царствия Божьего. Аркада нефа, с ее неторопливым чередованием архитектурных деталей, уводит нас вдаль, к расположенной в дальнем конце нефа большой арке, носящей название «триумфальной», обрамляющей алтарь и расположенную за ним апсиду.
Мозаики
Стремительное развитие христианской архитектуры должно было неизбежно сказаться на раннехристианской живописи и привести к масштабным переменам поистине революционного характера. Внезапно возникла потребность покрывать огромные площади стен изображениями, достойными их монументального обрамления. Понадобилось не только усвоить существовавшее художественное наследие, но и преобразовать его традиции так, чтобы добиться максимального соответствия новой архитектурной и духовной среде. В ходе этого процесса возник новый замечательный вид изобразительного искусства — раннехристианская настенная мозаика, в значительной степени потеснившая существовавшие до того методы выполнения настенных росписей. Как греки периода эллинизма, так и римляне использовали мозаику преимущественно для украшения пола. Таким образом, обширные по площади и сложные по композиции настенные мозаики, типичные для раннехристианского искусства, практически не имеют прецидентов. То же самое можно сказать и о материале, из которого они выполнены — имеющих кубическую форму кусочках окрашенного стекла — смальты. По сравнению с разноцветным мрамором, использованным для создания «Битвы при Иссе» (см. илл. 59), смальта давала краски куда более яркие и большего количества оттенков. Она могла даже быть золотой, но ей недоставало тех едва уловимых переходов тона, что необходимы для имитации живописи. Сверкающая поверхность отражавших свет кусочков цветного стекла слегка неправильной формы позволяла создать эффект мерцающего окна в нереальный мир, вместо твердой сплошной поверхности. Все эти свойства смальтовой мозаики делали ее идеальным дополняющим компонентом новой архитектурной эстетики и обеспечивали широкое применение в раннехристианских базиликах. Изумительные цвета, яркая, наполненная светом прозрачная яркость и строгая геометрическая упорядоченность изображений мозаичного комплекса— все это в высшей степени соответствовало духу таких интерьеров, как в церкви Сан-Аполлинаре-ин-Классе. Можно даже сказать, что раннехристианские и византийские церкви так же требуют мозаики, как архитектура древнегреческих храмов требует скульптурных украшений.
Раннехристианская мозаика как бы отрицает то, что поверхность стены — сплошная и плоская. Но не затем, чтобы предположить за этой поверхностью наличие иной реальности, как в древнеримских настенных росписях, а для того, чтобы создать за ней иллюзию нереального мира, светящееся мерцающим светом царство, населенное бесплотными существами или символами. В произведениях сюжетного характера мы так же видим, как новое содержание преображает идущую от времен римской античности традицию иллюзионизма в живописи, и стены нефов раннехристианских базилик заполняются длинной чередой мозаик, воспроизводящих сцены, взятые из Ветхого или Нового завета
Расставание Лота и Авраама (илл. 106)
является одной из таких сцен, принадлежащих
старейшему циклу мозаик, выполненному около 430
г. и находящемуся в церкви Санта-Мария-Мад-жоре
в Риме. Авраам, его сын Исаак и остальные члены
семьи занимают левую половину композиции.
Фигуры Лота и его родичей, в том числе двух
малолетних дочерей, развернуты вправо, в
направлении города Содома. Задача художника,
создававшего это мозаичное панно, сопоставима с
той, что стояла перед скульпторами, украшавшими
колонну Траяна (см. илл. 97): как с одной стороны в
наиболее сжатой, компактной форме передать
сложные действия, а с другой — сделать изобра
жение «читаемым» с расстояния. По существу, он
использовал имевшиеся под рукой в готовом виде
приемы — такие, как «сокращенные формулы»
домов, деревьев и города, или изображение толпы в
виде находящихся рядом голов людей (наподобие
грозди винограда) позади фигур на переднем плане.
Различие состоит в том, что в рельефах колонны
Траяна эти приемы могли быть использованы лишь
в той мере, в какой не противоречили задачам
создания реалистического изображения,
воспроизводящего действительно имевшие место исторические события, тогда как мозаики церкви Санта-Мария-Маджоре являют собой зримый образ истории спасения, понимаемого в духовном смысле.
Отраженная в них реальность — это не событие, однажды случившееся и потому вошедшее в систему пространственно-временных связей обычного мира, а засвидетельствованная художником сегодняшняя реальность живого мира Священного Писания (в случае эпизода с Лотом и Авраамом — тринадцатой главы ветхозаветной книги Бытия).
Вследствие этого художнику не требуется передавать конкретные детали, свойственные для исторического повествования. Для него взгляд и жест важнее трехмерной формы или эффектного движения, связанного с драматическим развитием событий. Симметричность композиции с проходящим по центру разделом между группами Лота и Авраама подчеркивает символическое значение их расставания: отныне каждый из них пойдет своей дорогой, причем путь Авраама, путь праведности и завета с Богом, противопоставлен пути Лота, которому предстоит встретиться с гневом Господним. Различие предстоящего изображенным в правой и левой группах людям жизненного пути мы воспринимаем особенно остро, когда обращаем внимание на фигурки стоящих по краям детей — Исаака и дочерей Лота— и вспоминаем об уготованной им судьбе.
Свиток, кодекс, искусство иллюстрации
Из каких же источников черпали сюжеты создатели мозаичных циклов повествовательного характера, как тот, что сохранился в церкви Санта-Маджоре? Доя некоторых могши стать образцом катакомбные росписи, но, видимо, их происхождение скорей связано с иллюстрированными манускриптами — в особенности Ветхого Завета. Поскольку христианство было религией, в основе которой лежит Слово Божие, запечатленное в Священном Писании, то церковь с самого начала своего существования организовала переписывание в большом количестве экземпляров этих боговдохновенных текстов— Каждый из них являлся святыней — такого отношения в античной цивилизации не было ни к одной книге.
История книг начинается в Египте — мы точно не знаем когда — с изобретением материала, подобного бумаге, но более ломкого. Его изготовляли из стеблей папируса. Книги, написанные на папирусе, имели форму свитка. Однако в конце эпохи эллинизма был найден другой, более подходящий материал, известный как «пергамент» и представлявший собой тонкую телячью кожу, специально обработанную и отбеленную. Гораздо более долговечный, он был достаточно прочен, чтобы не ломаться на сгибе, что дало возможность брошюровать его так, как это делают по сей день. Переплетенные таким образом книги получили наименование кодексов. В течение I—IV вв. н. э. пергаментные кодексы постепенно вытеснили свитки. Такая замена сыграла важную роль в развитии искусства книжной иллюстрации. Лишь пергамент позволил использовать все богатство красок, в том числе золотую, и сделал иллюстрацию — или, как ее называют, применительно к данному случаю, книжную миниатюру — достойным соперником настенной живописи, мозаик и письма по дереву — только меньших размеров.
Венское Бытие (Венский Генезис). Один из наиболее ранних экземпляров первой книги Ветхого Завета, Венское Бытие, написан серебряными, теперь почерневшими от времени буквами на пурпурном пергаменте и украшен чудесными цветными миниатюрами, создателю которых удалось достичь не менее удивительного эффекта, чем в случае уже знакомых нам мозаик. На илл. 107 изображены несколько эпизодов из жизни Иакова. На переднем плане показано, как он борется с ангелом и получает от него благословение. На миниатюре мы видим не один сюжет, а целую вереницу различных сцен, расположенных подковообразно, одна за другой — так что их последовательность в пространстве совпадает с последовательностью во времени. Такой метод «повествования», возможно, проистекает из приема, возникшего во времена, когда книги имели вид свитков. При иллюстрировании манускриптов это позволяет сэкономить место и компактно разместить максимум содержания «повествовательного» характера. В данном случае художник, по-видимому, предполагал, что его миниатюра, представляющая своего рода «отчет» о текущих событиях, будет читаться так, как читаются строчки обычного текста, в отличие от мозаик, которые как бы служат окном в иной мир и должны быть соответствующим образом обрамлены. Изображение, как и текст, нанесено непосредственно на служащий фоном пурпурный пергамент, и мы видим, что для художника важно, чтобы страница воспринималась как единое целое.
Скульптура
По сравнению с живописью и архитектурой скульптура играла в раннехристианском искусстве второстепенную роль. Считают, что библейский запрет создавать кумиров особенно строго соблюдался в отношении больших статуй культового характера, то есть «идолов», которым поклонялись в языческих храмах. Чтобы избавиться от «духа идолопоклонства», церковная скульптура должна была отказаться от изображения человека в «натуральную величину». Таким образом, монументальность решительно отвергалась с самого начала; в своем развитии скульптура все более удалялась от объемности и масштабности античных работ, переходя к более мелким и менее объемным формам — по сути, декоративным украшениям, покрывающим поверхность подобно резному кружеву. Наиболее древними образцами христианской скульптуры являются мраморные саркофаги, которые изготовлялись начиная с середины III в. для наиболее видных членов церкви. До правления императора Константина их украшали практически те же немногочисленные сюжеты, знакомые нам по катакомбной живописи: Добрый Пастырь, Иона с китом — и так далее, но оформлялись и размещались они на саркофагах так, как это делали язычники. Даже сто лет спустя мы встречаемся в подобных работах с использованием гораздо более широкого диапазона форм и сюжетов, чем это характерно для других случаев употребления скульптуры.
Саркофаг Юния Басса. Ярким примером такого применения скульптуры, свойственного описываемой 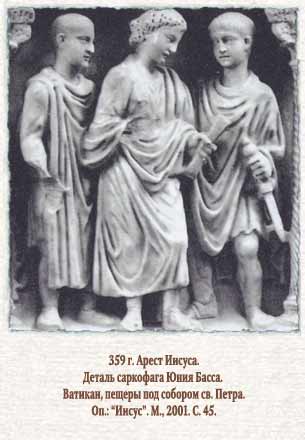 эпохе, является богатая резьба саркофага Юния Басса, префекта Рима, умершего в 359 г. (илл. 108). Передняя плита саркофага посредством небольших колонн делится на десять квадратных секций, каждая из которых представляет собой рельеф на сюжет из Ветхого или Нового Завета. В верхнем ряду мы видим такие сцены, как «Жертвоприношение Авраама», «Св. Петр в узах», «Спаситель на троне со свв. Петром и Павлом» и «Христос перед Понтием Пилатом» (две правые секции). В нижнем ряду изображены сюжеты: «Иов на гноище», «Грехопадение Адама и Евы», «Вход Господень в Иерусалим», «Даниил во львином рву» и «Св. Павел, ведомый на мучения». Такой несколько странный для нас выбор' сюжетов был очень характерен для людей эпохи раннего христианства с их специфическим образом мышления, согласно которому божественная природа Христа в противовес его человеческому естеству приобретала особую значимость. Поэтому страдания и смерть Спасителя оставались в тени — на них как бы лишь намекалось. Вот Иисус перед судом Пилата — молодой длинноволосый философ, возвещающий высшую мудрость (обратите внимание на свиток в руках). Сцены мученичества апостолов столь же мало претендуют на полноту передачи библейского текста— они фрагментарны, дискретны, бесстрастны. Две центральные сцены показывают Христа в царском обличий. На верхнем рельефе — Пантократор, то есть Вседержитель, владыка мира, восседающий на небесном троне; на нижнем — царь Иудейский при всеобщем ликовании въезжающий в Иерусалим. Адам и Ева — первые грешники — символизируют принятые Христом на себя грехи мира; сюжет «Жертвоприношение Авраама» — это ветхозаветный прообраз искупительной жертвы Христа. Образы Иова и Даниила выполняют ту же функцию, что и образ Ионы: они вселяют надежду на ниспосланное свыше спасение. Фигуры, размещенные создателем саркофага в глубоких нишах, явно свидетельствуют о его сознательном стремлении попытаться воссоздать то благородство форм, что было свойственно статуям Древней Греции. Вместе с тем, в сценах, предусматривающих, казалось бы, большой накал действия за внешней «ширмой» классицизма мы ощущаем удивительную пассивность и вялость. Представшие перед нами события и персонажи уже не говорят сами за себя в физическом или эмоциональном смысле, но сообщают нам более высокое знание; они исполнены символического значения, которое связывает их воедино. эпохе, является богатая резьба саркофага Юния Басса, префекта Рима, умершего в 359 г. (илл. 108). Передняя плита саркофага посредством небольших колонн делится на десять квадратных секций, каждая из которых представляет собой рельеф на сюжет из Ветхого или Нового Завета. В верхнем ряду мы видим такие сцены, как «Жертвоприношение Авраама», «Св. Петр в узах», «Спаситель на троне со свв. Петром и Павлом» и «Христос перед Понтием Пилатом» (две правые секции). В нижнем ряду изображены сюжеты: «Иов на гноище», «Грехопадение Адама и Евы», «Вход Господень в Иерусалим», «Даниил во львином рву» и «Св. Павел, ведомый на мучения». Такой несколько странный для нас выбор' сюжетов был очень характерен для людей эпохи раннего христианства с их специфическим образом мышления, согласно которому божественная природа Христа в противовес его человеческому естеству приобретала особую значимость. Поэтому страдания и смерть Спасителя оставались в тени — на них как бы лишь намекалось. Вот Иисус перед судом Пилата — молодой длинноволосый философ, возвещающий высшую мудрость (обратите внимание на свиток в руках). Сцены мученичества апостолов столь же мало претендуют на полноту передачи библейского текста— они фрагментарны, дискретны, бесстрастны. Две центральные сцены показывают Христа в царском обличий. На верхнем рельефе — Пантократор, то есть Вседержитель, владыка мира, восседающий на небесном троне; на нижнем — царь Иудейский при всеобщем ликовании въезжающий в Иерусалим. Адам и Ева — первые грешники — символизируют принятые Христом на себя грехи мира; сюжет «Жертвоприношение Авраама» — это ветхозаветный прообраз искупительной жертвы Христа. Образы Иова и Даниила выполняют ту же функцию, что и образ Ионы: они вселяют надежду на ниспосланное свыше спасение. Фигуры, размещенные создателем саркофага в глубоких нишах, явно свидетельствуют о его сознательном стремлении попытаться воссоздать то благородство форм, что было свойственно статуям Древней Греции. Вместе с тем, в сценах, предусматривающих, казалось бы, большой накал действия за внешней «ширмой» классицизма мы ощущаем удивительную пассивность и вялость. Представшие перед нами события и персонажи уже не говорят сами за себя в физическом или эмоциональном смысле, но сообщают нам более высокое знание; они исполнены символического значения, которое связывает их воедино.
Классицизм
Скульпторов времен раннего христианства не оставляло желание вернуться к классическим образцам. Данное явление характерно для середины IV — начала VI вв. Тому есть несколько объяснений. С одной стороны, в это время еще существовало значительное количество влиятельных сторонников язычества, которые могли поощрять такие тенденции. Это было похоже на «арьергардные бои». Новообращенные христиане — такие как Юний Басе, принявший крещение незадолго до смерти,— часто сохраняли приверженность прежним ценностям, в том числе в области искусства. Кроме того, некоторые видные церковные деятели благосклонно относились к усвоению христианством античного наследия. С другой стороны, источником подобных тенденций мог быть императорский двор— как на востоке, так и на западе — прекрасно осознававший свою связь с дохристианскими временами, откуда вели происхождение существовавшая государственная система и сама императорская власть. Классицизм, вне зависимости от его природы в каждом отдельном случае, в эту эпоху неустойчивости обладал несомненными достоинствами; он помог сохранить и передать следующим поколениям свойственное искусству прошлого богатство форм, а также присущий ему идеал красоты, который мог быть безвозвратно утрачен.
Резные диптихи из слоновой кости
Сказанное выше справедливо в том числе и по отношению к особому виду прикладного искусства— резьбе по слоновой кости. Сюда же можно отнести и создание рельефных изображений малого размера на поверхности других драгоценных материалов. Художественное значение этих предметов искусства значительно превосходит их величину. Предназначенные для частных лиц и рассчитанные на то, чтобы на них смотрели с близкого расстояния, они часто отражают вкус владельца, утонченность его эстетического чувства, чего не было в случае больших, официальных заказов со стороны церкви или государства. Именно такова вырезанная из слоновой кости створка диптиха (илл. 109), изготовленная в самом начале VI в. в восточной части Римской империи. Мы видим, как в этом произведении классицизм становится приемом, красноречиво передающим христианское содержание. Изображенный архангел явно ведет свое происхождение от крылатых фигурок Виктории — древнеримской богини победы (см. илл. 78). В нем все, вплоть до искусно вырезанных складок материи, говорит о принадлежности к греко-римской традиции в искусстве. Но сила и власть, которыми он наделен,— не от мира сего, и он — не земной житель. Даже обрамленная различными архитектурными элементами ниша, на фоне которой предстает перед нами фигура ангела, утратила реальность трехмерного пространства и находится в чисто символическом и орнаментальном взаимодействии с центральным изображением. Создается впечатление, что ангел не стоит на лестнице, а парит в воздухе. Это впечатление усилится, если приглядеться к положению ног относительно ступеней. Именно его бесплотность, в сочетании с гармоничностью классических форм делают его образ столь убедительным.
ВИЗАНТИЙСКОЕ ИСКУССТВО
Первый золотой век
Если вначале между раннехристианским и византийским искусством было действительно трудно провести разделяющую их границу, то к началу правлению императора Юстиниана (527—565) положение изменилось. Константинополь не только в значительной мере восстановил политическое господство над Западом — то, что он стал «столицей искусства» также не вызывало сомнений. Сам Юстиниан, как покровитель искусств, не знал себе равных со времен Константина. Заказанное им или выполненное при его поддержке поражает поистине имперским величием, и мы полностью соглашаемся с теми, кто назвал это время «золотым веком». Работы той эпохи объединены внутренним единством стиля, что скорей связывает их с искусством византийским более позднего времени, нежели с искусством предшествовавших столетий. По иронии судьбы прекраснейшие из дошедших до наших дней памятников первого «золотого века» (526—726) находятся не в Константинополе (где многое было разрушено), а в Равенне, городе на побережье Адриатического моря, который при Юстиниане стал главным оплотом византийцев в Италии.
Церковь Сан-Витале в Равенне. Наиболее выдающейся постройкой того времени является церковь Сан-Витале (илл. ПО), построенная в 526— 547 гг., имеющая в плане форму восьмиугольника и увенчанная центральным куполом, что наводит на мысль о древнеримских термах, как о возможном архитектурном предшественнике такого рода постройки. К тому же прототипу восходит и конструкция Пантеона (см. илл. 86), но в нее прошедшие века внесли свои изменения, отмеченные влиянием Востока. Церковь Сан-Витале примечательна богатством интерьера, впечатляющего своей объемностью. Под верхним рядом окон в стене главного нефа расположена серия полукруглых ниш, захватывающих территорию боковых нефов; они как бы объединяются, создавая новое, необычное пространственное решение. Боковые нефы сделаны двухэтажными — верхние галереи (хоры) предназначались для женщин. Новая, более рациональная конструкция сводов позволила разместить по всему фасаду здания большие окна, заполняющие светом его внутренние объемы. Неординарность внешних архитектурных форм соответствует богатому внутреннему декору очень просторного интерьера (илл. 111). При сравнении Сан-Витале с церковью Сан-Аполлинаре-ин-Классе (см. илл. 103), Другой равеннской постройкой того же времени, нас поражает, насколько они различны. От продольной оси, типичной для раннехристианской базилики, почти ничего не осталось. Начиная с правления Юстиниана, храмы с центральным расположением купола становятся преобладающими в странах, исповедующих православие, настолько же, насколько прочно базилика укоренится в архитектуре средневекового Запада. Как же случилось так, что на Востоке этому конструктивному решению было суждено стать основным при постройке именно храмов (а не баптистериев или мавзолеев); почему православный мир отдал предпочтение такому типу, столь непохожему на базилику и с точки зрения Запада так мало соответствующему потребностям христианского богослужения? Помимо всего прочего, базиликальная форма храма подкреплялась авторитетом Константина Великого. Объяснений — практического, религиозного и политического характера— может быть найдено множество; по большей части они справедливы, но исчерпывающего среди них нет. Что касается церкви Сан-Витале, то она, очевидно, была придворной, и сам император или его близкое окружение имели непосредственное отношение к ее постройке. Это доказывается получившими широкую известность мозаиками, размещенными справа и слева от алтаря. Несомненно, к их созданию причастны императорские мастерские. Мы видим Юстиниана, его придворных, местное духовенство присутствующими на церковной службе (илл. 112). На противоположной стене их изображена императрица Феодора со своими придворными дамами. На этих мозаиках мы видим новый идеал человеческой красоты. Фигуры на них так непохожи на те, с которыми мы встречались на изображениях IV и V вв.— приземистыми, с большими головами. Здесь мы видим очень высоких стройных людей с маленькими ступнями, некрупными удлиненными лицами, на которых выделяются большие, пристально глядящие на зрителя глаза. Скрытые под складками тканей тела, кажется, способны лишь на медлительные церемониальные жесты и ношение величественных одеяний. Безусловно, художник стремился придать лицам Юстиниана и стоящих вблизи него портретное сходство. Действительно, их черты весьма индивидуальны (особенно это касается архиепископа Максимиана), но вместе с тем настолько подогнаны под идеал, о котором шла речь выше, что кажется, будто они принадлежат членам одной семьи: Все те же большие темные глаза под изогнутыми бровями, тот же маленький рот, узкий, длинный с легкой горбинкой нос — отныне это станет типичным для византийской живописи.
Если отвлечься от мозаик и обратить внимание на внутренние очертания церкви, то мы заметим, что они тоже отличаются какой-то нематериальной, парящей стройностью, благодаря которой фигуры на стенах тоже кажутся нам пребывающими в состоянии немой экзальтации. Любой намек на движение или перемену в состоянии полностью исключен: такие измерения как время и реальное, земное пространство совершенно отсутствуют — вместо них только вечное настоящее и золотая полупрозрачность небес. И кажется, будто торжественные, фронтальные образы мозаик воссоздают перед нами двор небесного, а не земного царя. Эта симфония светского и духовного в точности отражает представление о божественной природе византийского императора; фактически проводится параллель между ним и Христом. Рядом с Юстинианом — двенадцать спутников (из них шестеро — солдаты, сгрудившиеся позади щита с монограммой Христа), и количество их не случайно совпадает с числом апостолов.
Храм Св. Софии в Стамбуле. Среди дошедших до нас константинопольских памятников эпохи правления Юстиниана выдающееся место занимает построенная в 532—537 гг. церковь Св. Софии, т. е. Божественной Мудрости (Айя-София, как ее называют на Востоке). Это уникальный шедевр архитектуры того времени и одно из величайших проявлений созидающего гения человечества (илл. 113, 114). Храм пользовался такой славой, что в памяти людей даже сохранились имена его создателей — Анфимий из Тралл и Исидор из Милета. После турецкого завоевания в 1453 г. он был превращен в мусульманскую мечеть. Постепенно к нему были пристроены 4 минарета. В архитектурном отношении это постройка переходного типа между сооружениями раннехристианского зодчества и новыми византийскими храмами. От первых сохранилась в плане продольная ось, но центральным элементом главного нефа служит огромный купол. С подкупольным пространством соединяются, превращая неф в овал, две огромные ниши с полусферическим верхом, к которым примыкают, как в церкви Сан-Витале, меньшие полукруглые ниши. Таким образом, купол размещен как бы между двумя симметричными половинами здания. Посредством четырех арок он опирается на громадные колонны, образующие в плане квадрат. Так что расположенные под этими арками стены лишены несущей функции. Переход от образуемого основаниями арок квадрата к нижнему краю купола осуществляется с помощью сферических треугольников — так называемых парусов. Этот архитектурный прием обеспечивает сооружение более высокого и легкого купола, причем с применением метода строительства более экономичного по сравнению с применявшимися прежде (в частности, при сооружении Пантеона и Сан-Ви-тале), когда купол опирался на барабан — круглый либо многогранный. Сам план здания, использование главных несущих столбов-опор, масштабность постройки — все это вызывает в памяти базилику Константина (см. илл. 89), самое грандиозное сооружение со сводчатыми перекрытиями в архитектуре Римской империи и величайший памятник времен правления императора, которым Юстиниан не мог не восхищаться. Таким образом, храм Св. Софии как бы объединяет Восток и Запад, прошлое и будущее в единое могучее целое.
Входя внутрь храма словно ощущаешь его невесомость; кажется, обладающие массой и жесткостью элементы его конструкции остались где-то снаружи. Перед нами — распахнутое пространство, в котором ниши, апсиды, арки — подобны наполненным ветром парусам корабля. Та удивительная архитектурная эстетика, зарождение которой мы наблюдали на примере церкви Сан-Аполлинаре-ин-Классе (см. илл. 105), находит свое логическое завершение, но уже на качественно ином уровне. Здесь ключевую роль, как никогда прежде, играет свет. Купол парит, «как свод светозарных небес», по выражению современника, поскольку у его основания находится ряд близко расположенных окон, а в стенах самого храма их столько, что те приобретают прозрачность кружевной занавеси, а золотое мерцание мозаик окончательно создает иллюзию «нереальности» этого мира, предстающего перед нашим взором.
Второй «золотой век»
Византийская архитектура так и не создала ничего подобного храму Св. Софии. Церкви, относящиеся ко второму «золотому веку» византийской культуры, длившемуся с конца IX в. до XI в., и к еще более позднему времени были куда более скромных размеров, и в них царил скорее монашеский, нежели имперский дух. После эпохи правления Юстиниана дальнейшее развитие живописи и скульптуры было прервано периодом иконоборчества, начало которому положил в 726 г. эдикт императора, запрещавший священные изображения как идолопоклонство. Борьба иконопочитателей с иконоборцами продлилась более ста лет. Этот конфликт имел глубокие корни: в плане богословия он касался основополагающего вопроса о соотношении божественной и человеческой сущности Иисуса Христа; в социально-политическом плане он отражал борьбу за влияние между деятелями государства и церкви, а также представителями западных и восточных провинций империи. Иконоборчество знаменовало, кроме того, окончательный разрыв между католицизмом и православием. Последствия эдикта не замедлили сказаться: количество создаваемых икон резко снизилось, но сама иконопись продолжала существовать, что позволило в кратчайшие сроки возобновить их производство после победы иконопочитателей в 843 г. в прежних объемах. Мы мало знаем о византийской живописи в период с начала VIII в. до середины IX в., однако можно, по-видимому, утверждать, что в результате иконоборчества возрос интерес к светским формам изобразительного искусства, которые не были запрещены. Очевидно, именно он объясняет неожиданное появление в искусстве второго «золотого века» мотивов поздней античности.
Мозаики
В эпоху нового расцвета, наступившего вслед за восстановлением иконопочитания, мы видим, как античное наследие в лучших работах гармонично сливается с одухотворенным идеалом красоты, сложившимся в Византийском искусстве времен Юстиниана. В числе этих работ особо известно «Распятие» — мозаика из церкви монастыря в Дафни (илл. 115). Это чисто христианское по духу произведение имеет, однако, глубинную связь с античным искусством. Здесь нет реалистической трактовки пространства, но уравновешенность и ясность композиции делают ее поистине монументальной. То достоинство, которое присуще изображенным фигурам, также наводит на мысль об античных статуях. Эти фигуры кажутся особенно изящными и органичными по сравнению с теми, что мы видели на мозаиках времен Юстиниана в церкви Сан-Витале (см. илл. 112). Однако, главное что есть в этой работе от искусства античности, лежит не столько в области материальных образов, как в сфере эмоционального восприятия. Это мягкая, приглушенная патетичность жестов и выражения лиц, сдержанное благородство страдания, с которым мы впервые встретились в дневнегречес-ком искусстве пятого века н. э. (см. илл. 83, 84). Эти качества почти начисто отсутствуют в раннехристианском искусстве. Оно рассматривало Христа преимущественно как Вседержителя, источник Божественной Мудрости. Теперь же в дополнение к прежним взглядам усиливается внимание к Его страданиям, сильнейшим образом взывающим к человеческим чувствам. Возможно, крупнейшим достижением второго «золотого века» было то, что он привнес в религиозное искусство эти сочувствие и сострадание, хотя в полной мере возможности такого подхода были реализованы не в Византии, а позже, в западноевропейском средневековом искусстве.
Позднееизантийская живопись
Во времена борьбы иконоборцев с иконопочитателями одним из главных аргументов в пользу священных изображений было утверждение, что Иисус Христос сам позволил Св. Луке запечатлеть свой лик и что другие иконы Иисуса Христа и Богородицы по воле Божьей были чудесным образом явлены в разных местах. Эти изначальные, «истинные» иконы, как полагают, послужили оригиналом для других, выполненных рядовыми иконописцами. Иконопись возникла еще у первых христиан на основе традиций греко-римского портрета (см. илл. 101). Являясь культовыми предметами, иконы должны были строго соответствовать существующему канону. Иконописцам надлежало неукоснительно придерживаться определенных образцов, устоявшихся правил. В результате их творчество зачастую скорей сопоставимо с трудом искусного ремесленника, нежели отличающейся богатством воображения работой художника. Черты такого консерватизма видны на иконе Богородицы на илл. 116. Написанная в XIII в., она восходит к типу, сложившемуся несколькими столетиями раньше. Хорошо заметны «отзвуки» особенностей, характерных для второго «золотого века»: грациозная поза, прекрасно выписанные складки одежды, тихая печаль на лице Богородицы, «архитектурные» формы тщательно выписанного трона, похожего скорей на уменьшенную копию Колизея. Однако все детали на этой иконе стали как бы абстрактными. Так, например, трон, несмотря на то, что он изображен в перспективе, не похож на предмет реального, трехмерного мира, а блики на одежде напоминают встречающееся в орнаментах изображение солнца с исходящими от него лучами, находясь в необычном контрасте с мягкой игрой светотени на руках и лицах. В результате возникает странный эффект: изображение не является ни плоскостным, ни пространственным — оно становится «полупрозрачным», напоминающим западноевропейский церковный витраж. Создается впечатление, что изображенное на иконе озарено исходящим из ее глубины светом. И это почти соответствует истине: под тонким слоем краски лежит прекрасно отражающая свет золотая поверхность, которая и образует блики, нимбы и фон, так что даже тени не кажутся напрочь лишенными света. Вспомним, что именно такой неземной, лучезарной и всепроникающей светоносностью отличались раннехристианские мозаики. Таким образом, подобные иконы следует рассматривать не просто как очередное звено древней иконописной традиции, а как их эстетический эквивалент, выраженный посредством относительно малых форм. Любопытно, что наиболее ценными византийскими иконами считаются мозаичные — на деревянной основе и очень небольших размеров.
ИСКУССТВО РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
«ТЕМНЫЙ ПЕРИОД» ИСТОРИИ
Иногда для обозначения эпохи историки используют ярлыки, сравнимые с прозвищами людей: становясь привычными и как бы «приклеиваясь», они уже не изменяются даже если больше не кажутся подходящими. Когда был введен термин «средние века», целое тысячелетие европейской истории с V по XV вв. рассматривалось как «темный период», как ничем не заполненный промежуток между эпохой античности и Возрождением. С тех пор наше отношение к средним векам стало совсем иным. Теперь мы назвали бы их «эпохой веры». По мере распространения такого взгляда отношение к средним векам как к «эпохе тьмы» изменилось, и данный эпитет применялся впоследствии преимущественно к началу средних веков. Однако если еще в прошлом веке к этому периоду относили все раннее средневековье по XII в., то сейчас его продолжительность составляет не более двухсот лет: от смерти Юстиниана до начала правления Карла Великого. Возможно, даже это чересчур много. В 650—750 гг., то есть всего за сто лет ядро европейской цивилизации сместилось к северу от Средиземноморья, и начали отчетливо проступать характерные для средневековья черты — в экономике, политике и духовной сфере. Далее мы увидим, что именно в это столетие уходят корни многих важнейших художественных достижений средних веков.
Кельтско-германский звериный стиль
Когда на территорию переживавшей упадок Римской империи пришли с востока германские племена, то вместе с характерными для кочевников предметами быта они принесли очень древнюю и имевшую широкое распространение художественную традицию, известную как «звериный стиль» (см. стр. 60). Для него было характерно сочетание форм как заимствованных из животного и растищихся лент встречался и в древнеримском, и в раннехристианском искусстве, причем особенно часто — на южных берегах Средиземного моря. Но такое сочетание данного орнамента с изображениями в зверином стиле, как на детали кошеля из Саттон Ху, является новшеством, введенным незадолго до того времени, когда неизвестный художник взялся за эту работу.
Особенно широко звериный стиль применялся для изделий из металла, которые отличались значительным разнообразием материала из которого выполнены и, как правило, очень высоким художественным уровнем мастерства. Именно такие украшения — небольшие, долговечные и бережно хранимые — объясняют причину быстрого распространения характерного для данного стиля набора образов и постоянно воспроизводимых форм. Однако в эпоху раннего средневековья эти формы, образы и художественные приемы путешествовали не только из одной страны в другую; они проникали в смежные области искусства и стали применяться в резьбе по камню и кости, даже в книжной миниатюре. Произведения искусства, выполненные из дерева, дошли до нас в небольшом количестве. Они в основном происходят из Скандинавии, где звериный стиль просуществовал дольше всего. Относящаяся к началу IX в. деревянная голова фантастического животного на илл. 118 была найдена среди прочей оснастки в захороненном корабле викингов в Осеберге, на юге Норвегии, и служила носовым украшением. Подобно приведенным выше изображениям из Саттон Ху она отличается своеобразным соединением весьма разнородных качеств. В целом форма головы достаточно реалистична. То же самое можно сказать о таких деталях, как зубы, десны и ноздри. Вместе с тем вся голова покрыта то переплетающимся, то геометрическим узором, применявшимся ранее на изделиях из металла. Такие оскалившиеся чудовища делали корабли викингов похожими на морских драконов из старинных сказаний.
Раннесредневековое искусство Ирландии и Англии
Черты, свойственные языческому германскому искусству и присущей ему разновидности звериного стиля, нашли отражение и в ранних произведениях, связанных с христианством, получивших распространение к северу от Альп. Они изготовлялись ирландцами, которые в то время играли ведущую роль в духовной и культурной жизни Западной Европы. Период VII—IX вв. стоит назвать «золотым веком» Ирландии. В отличие от Британии она никогда не была частью Римской империи. Поэтому миссионеры, прибывшие туда в V в. из Британии, сочли ирландское общество по римским понятиям совершенно варварским. Ирландцы с готовностью приняли христианство, и оно ввело их в соприкосновение с цивилизацией Средиземноморья. Однако это не сделало Ирландию страной проримской ориентации. Скорее можно сказать, что там приспособили христианство к собственным нуждам при жестком соблюдении принципа своей независимости.
Уже сложившаяся организационная структура римско-католической церкви, ориентированная на существование городов, плохо подходила к стране, где их поначалу не было. Ирландские христиане предпочли избрать своим идеалом монахов-пустынников Египта и Ближнего Востока, которые пожелали оставить развращенные города и удалиться в дикие и малонаселенные края в поисках уединения и духовного совершенства. Общины таких отшельников, исповедовавших объединяющие их идеи аскетизма, основали первые монастыри. Монашество стало распространяться — и к V в. монастыри возникли уже на западе Британии, но только в Ирландии именно они, а не епископы взяли на себя руководство церковной жизнью.
Ирландские монастыри в отличие от египетских вскоре стали средоточием искусств и учености, а также развили активную миссионерскую деятельность, посылая монахов проповедовать христианство язычникам и основывать новые монастыри на севере Британии, а также на Европейском континенте от Пуатье до Вегы. Эти ирландские монахи не только ускорили христианизацию Шотландии, Северной Франции, Нидерландов и Германии — они положили начало новой традиции: в преимущественно сельской Европе монастырь стал центром культурной жизни. Несмотря на то, что руководство этими монастырями в конечном итоге перешло к бенедиктинскому ордену, созданному в Италии и распространившему свое влияние на север в VII—VIII вв.; ирландское влияние на средневековую западноевропейскую цивилизацию ощущалось в течение еще нескольких столетий.
Рукописные книги
Чтобы обеспечить развитие христианства, в ирландских монастырях "переписывали "Библию и другую христианскую литературу в большом количестве экземпляров. Монастырские скриптории (мастерские, где создавали книги) стали также и центрами книжной миниатюры, потому что книга, в которой было записано Слово Божье, рассматривалась как святыня, и ее внешней красоте следовало соответствовать значимости содержания. Скорее всего, ирландские монахи были знакомы с раннехристианскими иллюстрированными рукописными книгами, но и здесь, как во многом другом, они предпочли положить начало новой традиции, а не копировать прежние образцы. Миниатюры, воспроизводящие эпизоды библейской исторщгЛне слишком их интересовали; с тем большей увлеченностью они использовали декоративные украшения. Лучшие из книг такого рода сочетают в своем оформлении черты кельтского и германского искусства; их стиль характерен для монастырей англо-саксонского периода, основанных в Англии ирландцами.
Страница _с изображением креста из Линдис-фарнского Евангелия (илл. 119) поражает своей немыслимой сложностью и богатством воображения художника-миниатюриста, разместившего на изолированных друг от друга и обладающих геометрическими формами участках орнамента такое невероятное по плотности, но полное прослеживаемого движения кружевное переплетение узора в традициях звериного стиля," что сражающиеся звери с рассмотренной выше детали кошеля из Саттон Ху выглядят по сравнению с этим детской забавой. Кажется, будто языческий мир, воплощенный в этих кусающихся и царапающихся чудищах, внезапно стал подчинен высшей власти креста. Для достижения такого эффекта мастер должен был наложить на себя чрезвычайно строгие ограничения. Добровольно принятые им «правила игры» требуют, например, чтобы строгие «ограничительные» линии геометрического орнамента не пересекались с прочим узором, а также чтобы на участках, где "господствует звериный стиль, каждая линия оборачивалась частью тела животногбУ'ёсли постараться и проследить, откуда она берет начало. Есть еще и другие правила, слишком сложные, чтобы о них здесь говорить, связанные с симметрией, эффектом зеркального отражения и повторяемостью форм и цветов. Пожалуй, только «открыв» их самостоятельно при тщательном рассматривании узора мы можем получить надежду проникнуться духом этого странного, похожего на лабиринт мира.
Если отойти от орнаментального искусства, то в области реальных образов миниатюристы данной школы отдавали предпочтение символам, сопутствующим четырем евангелистам, поскольку они органично сочетались с общей орнаментальной направленностью их искусства и легко могли «заговорить» на его языке. Напротив, фигуры людей поначалу не удавались кельтским и германским художникам. На примере предположительно служившей для украшения переплета бронзовой пластины со сценой распятия (илл. 120) мы видим их беспомощность в изображении людей. Пытаясь воспроизвести характерную для раннего христианства композицию, художник, тем не менее, совершенно не способен воспринимать человеческую фигуру как органичное целое, так что фигура Христа становится бестелесной в буквальном смысле этого слова: голова, руки и ноги как бы являются отдельными элементами, механически соединенными с элементом центральным, который покрыт состоящим из завитков, зигзагов и переплетающихся линий рисунком. Очевидно, что между кель-тско-германскими традициями и искусством Средиземноморья лежит пропасть, и художник, создавший данную сцену распятия следуя канонам искусства Ирландии, не знал, как перебросить через нее мост. В эпоху раннего средневековья в таком положении оказались художники разных стран. Даже поселившиеся в Северной Италии лангобарды не знали, как подступиться к изображению людей.
ИСКУССТВО КАРОЛИНГСКОЙ ИМПЕРИИ
Созданная Карлом Великим империя просуществовала не долго. Его внуки разделили ее на три части, однако их власть ослабела, и соответственно усилилась власть местной знати. Успехи в области культуры, достигнутые в годы расцвета империи, оказались куда более долговечными. Даже та форма букв латинского алфавита, которая до сих пор используется в книгах, напечатанных на языках самых различных народов, пришла к нам из книг каролингской эпохи, а то, что мы называем их латинскими, а не каролингскими, объясняется еще одним аспектом того переворота в культуре, который произошел во времена Карла Великого: именно при нем стали собирать и переписывать древнеримские тексты на латинском языке. Старейшие из дошедших до нас произведений римской литературы были найдены именно в каролингских кодексах, происхождение которых до недавнего времени ошибочно считалось «латинским», что и дало название шрифту, которым они написаны.
Это стремление сохранить наследие классиков было частью амбициозных намерений восстановить наряду с императорским титулом цивилизацию античного Рима. Карл Великий принимал личное участие в деятельности по реализации этих планов, надеясь внедрить культурные традиции славного прошлого в полуварварское сознание своих подданных. Удивительно, но это во многом ему удалось. Таким образом, каролингское возрождение можно назвать первым, и, по-видимому, наиболее важным этапом взаимопроникновения кельтско-германской и средиземноморской культур.
Архитектура
Изящные искусства с самого начала занимали важное место в программе культурных преобразований Карла Великого: при посещениях Италии он познакомился с архитектурными памятниками Рима эпохи императора Константина, а также Равенны времен правления Юстиниана. Ему хотелось, чтобы столица его державы Ахен демонстрировала величие возрождаемой империи, впечатляя зданиями, не менее великолепными. Не вызывает сомнений, что именно воспоминания о посещении церкви Сан-Витале (см. илл. 111) послужили толчком к созданию знаменитой Дворцовой капеллы в Ахене (илл. 121), Воздвигнуть такое сооружение в далекой от Рима северной стране было весьма нелегкой задачей. Колонны и бронзовые решетки пришлось везти из Италии, да и опытных каменщиков было не так просто найти. Руководил постройкой Одо из Меца— возможно, первый из архитекторов к северу от Альп, имя которого известно. Вне всякого сомнения, капелла в Ахене является не простым подражанием архитектуре церкви Сан-Витале. Напротив, это ее решительное творческое переосмысление. Столбы и своды отличаются свойственной Древнему Риму массивностью, а геометрическая отточенность образующих внутреннее пространство элементов так не похожа на струящиеся объемы равеннского храма.
План Сен-Галленского монастыря. Столь уникальный документ, каким является сохранившийся в библиотеке Сен-Галленского монастыря в Швейцарии чертеж с его планом (илл. 122), позволяет предположить, какую важную роль играли монастыри, и как тесно они были связаны <, императорским двором. Основные детали этого документа по-видимому были утверждены собором, состоявшимся в 816—817 гг. близ Ахена. Затем данный экземпляр плана был послан настоятелю Сен-Галленского монастыря в качестве руководства для работ по перестройке. Таким образом, мы можем рассматривать его как «типовой» проект, в который предполагалось внести коррективы в зависимости от местных потребностей.
Показанный на плане монастырь представляет собой автономный комплекс, где имеется все необходимое. Он занимает прямоугольный участок размерами 500 на 700 футов (152,4 х 213,4 ). Ведущая к расположенному на западе главному входу дорожка проходит между монастырской гостиницей и скотным двором и упирается в ворота; через них входящий попадает в полукруглый, украшенный колоннами, портик, по краям которого, величественно возвышаясь над внешними приземистыми постройками стоят две круглые башни (что-то вроде обращенных к западу укреплений). Они подчеркивают значение церкви как центра монашеской общины. Церковь имеет форму базилики с трансептом (поперечным нефом) и хорами в восточной части, с апсидами и алтарями как на восточном конце, так и на западном. Главный неф и два боковых с размещенными там другими многочисленными алтарями не образуют единого непрерывного пространства. Посредством особых перегородок они разделены на «ячейки». Предусмотрено большое количество входов: два рядом с западной апсидой и еще несколько боковых, с юга и севера.
Организация пространства церкви в целом носит функциональный характер и отражает особенности, присущие монастырскому храму, приспособленному к потребностям именно монашеского богослужения, отличающегося от служб в обычной церкви, где собирается община мирян. С юга к церкви примыкает двор для прогулок монахов с аркадами (сводчатыми галереями) по краям, вокруг которого объединены такие постройки, как дормиторий, или спальня монахов (восточная сторона), рефлекторий (трапезная) с кухней (южная сторона) и винные погреба. Три больших строения к северу от церкви — дом для гостей, школа и дом настоятеля. С востока — лазарет, капелла и помещение для послушников, еще не принявших монашеский постриг, кладбище (помеченное большим крестом), сад, загоны для кур и гусей. У южного края находятся также мастерские, амбары и другие службы.
Само собой разумеется, такого в точности монастыря нигде не существует; даже в Сен-Галлене данный проект не был полностью претворен в жизнь — и все же план прекрасно дает нам понять, что представляли собой монастыри на протяжении всего средневековья.
Рукописные книги и переплеты
Сохранились упоминания о том, что во времена Каролингов церкви украшались настенными росписями, мозаиками и скульптурными рельефами, но до нашего времени от них почти ничего не осталось. С другой стороны, сохранилось достаточно большое количество иллюстрированных книг, изделий из слоновой или моржовой кости, произведений ювелирного искусства. Дух каролингского возрождения ощущается в них еще полнее, чем в остатках архитектурных сооружений. Когда мы смотрим на миниатюру с изображением Св. евангелиста Матфея (илл. 123) из Евангелия, происходящего из Ахена и по преданию найденного в гробнице Карла Великого, но в любом случае тесно связанного с его двором, трудно поверить, что такая работа была выполнена на севере Европы около 800 г. Только большой золотой нимб не позволяет представить, что это портрет писателя эпохи античности. Кем бы ни был художник — византийцем, итальянцем или франком — у нас не вызывает сомнений его прекрасное знание традиций римской миниатюры, вплоть до орнамента в виде аканта вдоль широкой рамки, которая подчеркивает стремление автора показать, что это изображение является как бы окном в иной мир.
Данная миниатюра относится к наиболее ортодоксальному направлению в каролингском возрождении. По своей сути она является своего рода аналогом переписываемых работ античных авторов, только в сфере изобразительного искусства. На миниатюре из Евангелия архиепископа Реимского Эбо (илл. 124) перед нами словно предстает образ времен античности, «переведенный» на художественный язык каролингской эпохи. Св. евангелист Марк несколько напоминает нам сидящего на троне примерно в той же позе Христа с рельефа, пятью веками ранее украсившего саркофаг Юния Басса (см. илл. 108) — одна нога впереди, идущие по диагонали складки тоги в верхней части фигуры, правильные черты лица. Сходным образом решены также руки, одна из которых держит в первом случае свиток и во втором кодекс, тогда как другая — перо для письма, причем появившееся в более позднее время. Скорее всего, движение этой руки первоначально означало поясняющий жест. И еще: ножки в виде лап животных у высеченного на барельефе трона, на котором восседает Христос, имеют точно такую же форму, что и ножки сиденья Св. Марка. Однако, в отличие от рельефа миниатюра наполнена импульсами энергии, приводящей в движение все детали: и складки обвивающих фигуру одежд, и вздымающиеся холмы, и гнущиеся под порывами ветра кусты и травы; и даже обрамляющий миниатюру орнамент из акантовых листьев приобретает какое-то необычное сходство с языками пламени. Что касается самого Евангелиста, он предстает перед нами уже не излагающим свои мысли римским писателем, а человеком, охваченным божественным вдохновением, орудием в руках Бога, с горячечным пылом записывающим Его Слово. Взгляд Апостола устремлен не на книгу, которую он пишет, а на служащего как бы посланцем для передачи текста священного писания крылатого льва со свитком (символ этого Евангелиста). Столь прямая и непосредственная зависимость от Божьей воли, от Бога-Слова знаменует появление нового, средневекового понимания роли человека в противовес старому, античному. Что же до тех средств, Которыми достигается художественная выразительность данной миниатюры,— это относится в первую очередь к динамизму линий, которого нет в миниатюре из Евангелия Карла Великого — то они вызывают в памяти полные страстного движения орнаменты ирландских рукописных книг (см. илл. 119).
Стиль реймской школы можно почувствовать и в рельефных изображениях на украшенном драгоценными камнями окладе Евангелия из Линдау (илл. 125), принадлежащего к третьей четверти IX в. Этот шедевр ювелирного искусства наглядно показывает, как замечательно были усвоены искусством каролингского возрождения доставшиеся ему в наследство кельтско-германские традиции работы с металлом. Полудрагоценные камни распределены по золотой поверхности изделия группами, причем они находятся не на ее уровне, а приподняты на удерживающих их лапках либо на относительно высоких креплениях, арчатых в основании, чтобы свет проникал и снизу, усиливая блеск и сияние. Любопытно, что в фигуре распятого Христа мы не находим даже намека на боль или смертную муку. Кажется, что он не висит, а стоит с распростертыми в скорбном жесте руками. Наделить его признаками свойственных человеку страданий было еще немыслимо, хотя арсенал выразительных средств был у мастера под рукой. Мы ясно видим это по тому, как красноречиво передают горе окружающие крест фигурки.
Между тем, когда в 911 г. окончилась династия немецкой ветви Каролингов, политический центр Германии сместился в Саксонию. Правители из Саксонской династии (919—1024) сумели восстановить сильную королевскую власть. Наиболее выдающимся из них был Оттон I, считавший себя продолжателем каролингской императорской традиции и с самого начала заявивший притязания на такую же державную власть, которой обладал Карл Великий. Женившись после завоевания Ломбардии на вдове короля Италии и получив «лан-гобардскую» корону, он распространил свою власть на большую часть Италии, и вступил в Рим, где в 962 г. папа возложил на его голову императорскую корону. Так была воссоздана империя, получившая позднее название «Священной Римской империи германской нации», возможно, ее следовало бы назвать «германской мечтой», ибо наследникам Оттона I так никогда и не удалось окончательно утвердить свою власть к югу от Альп. Однако эти притязания на владение Италией имели далеко идущие последствия, и вовлекли
Оклад библии из Линдау был изготовлен около 870 г., в то время, когда империя Карла Великого уже разделилась на Восточно-Франкское и Западно-Франкское королевства; ими правили его внуки, Карл Лысый и Людовик Немецкий, владения которых в целом соответствуют современным границам Франции и Германии. Власть их, однако, была такой слабой, что континентальная Европа опять оказалась беззащитной перед иноземными вторжениями: на юге продолжались набеги мусульман-арабов, славяне и мадьяры (венгры) совершали нападения с востока, приплывшие из Скандинавии викинги-норманны опустошали северные и западные земли. Эти последние были предками нынешних датчан и норвежцев и начиная с конца VIII в. почти не прекращали морских набегов на Ирландию и Британию. Затем они вторглись в Северозападную Францию и захватили область, которую с тех пор называют Нормандией. Обосновавшись там, они вскоре приняли христианство и усвоили каролингскую культуру. Начиная с 911 г., их вожди были официально признаны герцогами, номинально подчиненными власти короля Франции. В XI в. политическая и культурная роль нормандцев в германских императоров в затянувшийся на несколько веков конфликт с папами и местной итальянской знатью, связав замешанные на любви и ненависти отношения между Севером и Югом в такой узел противоречий, что их эхо порой ощущается по сей день
Скульптура
В оттоновскую империю, а именно в середине X в. до начала XI в. Германия как в политике, так и в сфере искусства стала играть ведущую роль в Европе. Ее достижения в этих областях начались с возрождения каролингских традиций. Однако совсем скоро возникли новые, присущие только Германии индивидуальные черты. Особенно хорошо видно, как изменились взгляды, при сравнении изображения Христа на окладе Евангелия из Линдау с распятием Геро из собора в Кельне (илл. 126). Здесь мы встречаемся с новой для западного искусства трактовкой образа страдающего Иисуса. Его вырезанная из дерева фигура благодаря своим размерам отличается монументальностью и производит сильное впечатление. Мягкие, закругленные формы тела передают его объемность; в этой работе чувствуется глубокое сострадание к мукам Христа. Особенно потрясает, как тело подалось вперед, что заставляет ощутить его тяжесть, увидеть, как невыносимо реально напряглись руки и плечи. Лицо же — с резкими, угловатыми чертами — превратилось в безжизненную маску агонии.
Каким путем пришел скульптор оттоновской эпохи к этой новой, поначалу смелой концепции? Мы не уменьшим его заслугу, если вспомним, что впервые такое отношение к распятому Иисусу Христу было проявлено художниками второго «золотого века» византийского искусства. По-видимому, византийское влияние было сильным в Германии того времени, и это не удивительно: ведь Оттон II был женат на племяннице византийского императора и между их дворами должна была существовать живая связь. Оставалось лишь воплотить сложившийся в Византии образ в крупные скульптурные формы, заменив его мягкую патетичность на тот отличающийся огромною выразительною силой реализм, который с тех пор стал выдающейся чертой немецкого искусства.
Архитектура
Одним из учителей и наставников Отгона Ш, сына и наследника Отгона II, является клирик по имени Бернвард, впоследствии ставший епископом Гильдесгеймским. Именно в период его пребывания на этой кафедре и была построена в местном бенедиктинском аббатстве церковь Св. Михаила, впоследствии получившая статус Гильдесгеймского кафедрального собора (илл. 127, 128). Если посмотреть на его план, то на память приходит церковь монастыря в Сен-Галлене (см. илл. 122): там также предусмотрены боковые входы, и хоры расположены сходным образом. Собор Св. Михаила, однако, отличается глубоко прочувствованной симметрией. Он не только имеет два идентичных поперечных нефа-трансепта с башнями над средостением и лестничными башенками — даже опоры аркады его главного нефа не одинаковы, а состоят из квадратных в плане столбов, перемежающихся с расположенными попарно колоннами. Такая система чередующихся архитектурных элементов делит аркаду на три равные секции, по три прохода в каждой, причем первая и вторая соотносятся с оформлением входов, повторяют их и служат как бы архитектурным эхом симметрии, присущей каждому из трансептов. Поскольку, кроме того, боковые и главные нефы являются непривычно широкими с точки зрения взаимозависимости их длины и ширины, мы можем полагать, что Бернвард намеревался достичь гармоничного равновесия продольных и поперечных осей симметрии по всей данной постройке. Во времена епископа Бернварда западные хоры были приподняты над уровнем пола остальной части церкви, чтобы под ними можно было разместить полуподвальную капеллу-крипт, по-видимому специально посвященную Св. Михаилу, в которую можно было войти как из трансепта, так и с восточной стороны храма.
Художественная работа по металлу
Уже то, что Бернвард сам заказал пару украшенных бронзовыми рельефами дверей, по-видимому, предназначавшихся для проходов из крипта в церковную галерею, позволяет судить, какая важная роль отводилась им крипту в церкви Св. Михаила. (Изготовление дверей было завершено в 1015 г., когда был освящен крипт.) Вероятно, эта идея пришла к Бернварду после посещения Рима, где он мог видеть древнеримские (а может быть и византийские) бронзовые двери. Те, что были им заказаны, отличались, однако, от создававшихся ранее: их поверхность была разделена на несколько полей в виде широких горизонтальных полос, а не на расположенные вертикально секции, причем каждое из полей было украшено рельефом, представляющим собой библейскую сцену.
На илл. 129 показана деталь дверей, изображающая Адама и Еву после грехопадения. Ниже мы видим часть надписи-посвящения, где указана дата и содержится имя Бернварда. Обращают на себя внимание классические очертания вставленных в дверь букв, типичные для Древнего Рима. В фигурах рельефов мы не отыщем монументального духа распятия Геро. Они кажутся значительно меньшими, чем в действительности; так что легко можно ошибиться и принять их за работу ювелира, такого как тот, что создал оклад Евангелия из Линдау (см. илл. 125). Композиция была позаимствована, скорее всего, из книжной миниатюры. Стилизованная, странного вида растительность полна движения, передаваемого теми же извивающимися, изогнутыми линиями, которые характерны для ирландской книжной миниатюры. И все же история Адама и Евы передана с замечательными прямотой и выразительностью. Указующий перст Божий, отчетливо видный на фоне обширного незанятого изображением пространства, служит центральным элементом всей композиции. Этот жест осуждает Адама; тот, съежившись, переадресовывает его Еве, а та, в свою очередь,— змею у своих ног.
Рукописные книги
Та же выразительность взгляда и жеста характерна и для оттоновской школы книжной миниатюры, представляющей собой новый, сложившийся на основе каролингских и византийских элементов стиль, отличающийся необыкновенно большими возможностями и художественной силой. Важнейшим центром создания книг был в то время монастырь Рейхенау, расположенный на острове Констанцского озера. Возможно, лучшей вышедшей из его стен книгой и величайшим шедевром всего средневекового искусства является Евангелие От-тона Ш. В сцене омовения Христом ног Св. апостола Петра (илл. 130), изображенной на одной из ее миниатюр, мы ощущаем эхо античной живописи, дошедшее до нас через традицию, сохранившуюся в искусстве Византии. Мягкие, пастельные тона заднего плана вызывают в памяти пейзажи греко-римских настенных росписей (см. илл. 99), а некое архитектурное сооружение, служащее своего рода рамой для фигуры Христа, напоминает об архитектурных пейзажах, с которыми мы встречались в доме Веттиев (см. илл. 98), и находится с ними в
отдаленном родстве. Очевидно, что значение этих элементов осталось непонятным художнику оттоновской эпохи и получило новое толкование. Он как бы иначе использовал их, и то, что некогда являлось архитектурным пейзажем — композицией, используемой для украшения,— теперь стало Небесным Градом, Новым Иерусалимом из Апокалипсиса, скинией Бога, пространством, заполненным золотым божественным сиянием, фоном которому служит реальный земной мир с его обычной воздушной средой. Аналогичное превращение произошло и с фигурами. В античном искусстве подобная композиция использовалась, чтобы изобразить врача, исцеляющего больного. Теперь роль «пациента» принадлежит апостолу Петру, а место врача занял сам Иисус (отметим, что мы вновь видим его здесь молодым, безбородым философом). В результате основное действие переносится из физической сферы в духовную. Возникает новая разновидность действий, которые не только видны в жестах и взглядах— от них даже могут зависеть относительные размеры изображаемого. Христос и апостол Петр, наиболее активные в этом смысле фигуры, отличаются и наибольшими размерами по сравнению с остальными. «Задействованная» рука Иисуса длиннее его руки, действия не совершающей, а восемь учеников, которые только и делают, что наблюдают за происходящим, «ужаты» до совсем маленького пространства, так что мы можем видеть разве что их руки и головы. Даже в раннехристианском искусстве аналогичные изображения людей, объединенных в толпу (см. илл. 106), не бывали такими в буквальном смысле бесплотными.
РОМАНСКОЕ ИСКУССТВО
Вдумчивый читатель, еще раз вернувшись к уже изложенному в этой книге материалу, обратит внимание на то, что почти все заглавия и подзаголовки относятся не только к истории художественной культуры, но и к общей истории нашей цивилизации. Некоторые из них связаны с орудиями труда (например, палеолит), другие — с географией, этнологией, религией. В любом случае они заимствованы из других областей знания, хотя применительно к рассматриваемому нами предмету также приняты для обозначения художественных стилей. До сих пор из этого правила было лишь два исключения: термины «архаика» и «классика», указывающие в первую очередь на стиль. Они обращают наше внимание скорее на качество формы, а не на совокупность условий, в которых она создавалась. Есть ли еще названия подобного рода? Конечно, они существуют, но лишь для искусства последних девяти веков.
Те, кому впервые пришла мысль рассматривать историю искусства как эволюцию стилей, поначалу считали, что высочайшей вершиной всего развития искусства древнего мира являлось греческое искусство периода между правлением Перикла и временем Александра Македонского. Этот стиль они назвали «классическим», то есть совершенным. Все, что было создано ранее, получило ярлык «архаики», подразумевавший нечто старомодное, связанное условностями и отжившими обычаями, еще не относящимся к эпохе классики, но продвигающимся в «верном» направлении. В то же время считалось, что стили последующих эпох вообще не заслуживают специальных названий, поскольку не обладают присущими только им положительными свойствами, являясь лишь отголосками классического искусства или результатом его упадка.
Те, кто занимался историей средневекового искусства, вначале следовали той же логике. Для них высочайшей вершиной была готика ХШ—XV вв. Для всего, что еще не принадлежало к готическому стилю, они приняли термин «романский», звучавший тоже наподобие ярлыка. При этом имелась в виду преимущественно архитектура. Было замечено, что до времен готики церкви имели круглые арки и массивные, тяжелые стены, столь отличавшиеся от стрельчатых арок и парящей легкости готических соборов, и напоминали скорей постройки Древнего Рима. Название стиля как раз и несло в себе этот смысл: «романский» означает «римский» Если принять эту точку зрения, все средневековое искусство до 1200 г. можно называть романским, если в нем обнаруживается какая-либо связь со средиземноморской традицией.
Вспомним, что каролингское искусство появилось на свет в результате сознательной политики возрождения Римской империи, проводимой Карлом Великим и его окружением. Даже после его смерти оно оставалось тесно связанным с императорским двором. Искусство оттоновской эпохи было того же происхождения и, соответственно имело узкую базу. Напротив, приблизительно в то же время романское искусство в общепринятом смысле этого термина, то есть европейское искусство средних веков, примерно с 1050 по 1200 гг., распространилось по всей Западной Европе. Оно состояло из огромного множества местных стилей, отличавшихся друг от друга, но родственных, имевших между собой много сходства, к тому же избежавших влияния из какого-либо общего источника. В этом отношении романский стиль напоминает скорей искусство, бытовавшее в Европе в самом начале средних веков, а не предшествующие ему непосредственно придворные стили, хотя и каролингско-оттоновская традиция оставила на нем свой отпечаток наряду со многими и другими, такими как позднеантич-ная, раннехристианская и византийская, влияние которых трудней заметить. Имело также место взаимодействие исламской культуры и кельтско-германского наследия.
И сплавила все эти разнородные компоненты в единый стиль во второй половине XI в. не какая-то одна сила, а целый комплекс причин, который привел к повсеместному появлению на западе свежих ростков новой творческой активности. Это было время воодушевления, связанного с ростом религиозного чувства, что нашло отражение в огромном росте числа паломников к святым местам. Христианство, наконец, восторжествовало по всей Европе. Викинги, остававшиеся в IX—X вв. преимущественно язычниками и наводившие своими набегами ужас на Британские острова и континентальную Европу, теперь пополнили число приверженцев католической церкви — не только в Нормандии, но и в Скандинавии. Мусульманская угроза после 1031 г. значительно ослабела. Мадьяры, заселив Панно-нию, перешли к оседлому образу жизни и основали Венгерское королевство.
Не менее важным оказалось возобновление средиземноморской торговли. Успешные действия военных флотов Венеции, Генуи и Пизы привели к тому, что купеческие суда опять поплыли по прежним путям. Возрождались торговля и ремесла; это вело к оживлению жизни в городах и к их росту. В смутные времена раннего средневековья население городов Западной Римской империи сильно уменьшилось. Так в Риме, где к началу IV в. проживало около миллиона человек, в какой-то период оставалось менее пятидесяти тысяч жителей. Некоторые города вообще пришли в запустение. С XI в. они начали восстанавливать свое прежнее значение. Повсюду строились новые города; в них из ремесленников и купцов образовалось находившееся по своему правовому положению между крестьянами и феодальной знатью среднее сословие, которое стало важной составной частью средневекового общества.
Именно в это время между 1050 и 1200 гг.
Западная Европа стала во многих отношениях более
«романской», чем когда бы то ни было, начиная с VI
в., отчасти восстановив некоторые характерные для
античности особенности международной торговли,
городскую жизнь и военную мощь империи древних
римлян. Разумеется, не хватало централизации
политической власти (границы основанной Отгоном
I империи проходили немногим западнее
сегодняшних рубежей Германии), поэтому Риму,
основываясь на авторитете папы, пришлось взять на
себя роль духовного центра, являющегося некой
объединяющей силой. Отправившаяся в первый
крестовый поход армия, в которую вошли
представители многих национальностей,
откликнувшиеся на прозвучавший в 1095 г. призыв Урбана II освободить Святую землю от мусульман, была столь сильна, что другое такое войско для выполнения этой задачи не смог был выставить ни один светский властитель.
АРХИТЕКТУРА
Огромное различие между романской архитектурой и архитектурой предыдущих веков заключалось в невероятном росте строительной активности. Живший в XI в. монах по имени Рауль Глабер выразил по этому поводу свое упоение, воскликнув, что мир покрывается «белым плащем церквей». И дело не только в том, что росло их число — как правило, они становились больше, совершенней с точки зрения архитектурных форм, их стиль все сильнее обнаруживал сходство со зданиями Древнего Рима. Теперь их нефы имели сводчатые перекрытия вместо прежних деревянных, а их интерьеры — в отличие от раннехристианских, византийских, каролингских и оттоновских церквей — украшали как архитектурный орнамент, так и скульптура. География важнейших памятников романской архитектуры в целом соответствует тому пространству, для которого Рауль Глабер подыскал слово «мир» — это был католический мир от Северной Испании до Рейнланда, от шотландско-английской границы до Центральной Италии. Больше всего церквей было во Франции — именно там мы найдем огромное количество местных типов и воплощение самых смелых идей, но и в других европейских странах мы встретимся с богатым арсеналом архитектурных новшеств, которым нет параллелей в предыдущей эпохе.
Юго-западная Франция
Обзор романских церквей — в нем неизбежно будут представлены лишь некоторые из них — начнем с церкви Сен-Сернен в Тулузе, городе на юге Франции (илл. 131-133). Она принадлежит к числу больших церквей так называемого «паломнического» типа; стоявших некогда на дорогах, ведущих к известным центрам паломничества, одним из которых являлся Сант-Яго-де-Кампостела на северо-западе Испании. Ее план при сравнении с планом собора Св. Михаила в Гильдесгейме (см. илл. 128) сразу производит на нас огромное впечатление своими сложностью и целостностью. По форме он напоминает выразительный и лаконичный латинский крест, «центром тяжести» которого служит западная часть церкви. Понятно, что она должна была вмещать не только членов монашеской общины, но и огромные толпы простых богомольцев, для чего и требовались трансепт и протяженный центральный неф.
Справа и слева к нему примыкает по паре боковых нефов — всего их четыре — два из которых, проходя между крайними боковыми и главным нефами, огибают крылья трансепта и далее также апсиду, образуя непрерывную внутреннюю галерею верхних хоров, упирающуюся двумя своими концами в башни западного фасада. Напомним, что впервые подобная галерея возникла в более раннее время в церквах, где имелся крипт (как в соборе Св. Михаила). Но если тогда она сообщалась с криптом, находившимся ниже уровня основной части храма, то теперь, соединившись с пространством трансепта и нефов, дополненная в районе главной апсиды примыкающими с внешней стороны небольшими капеллами, поднялась наверх. Образуя единое целое, апсида, галерея и капелла известны как «хоры паломников». На приведенном плане мы также видим, что все боковые нефы на всем протяжении перекрыты крестовыми сводами. Наряду с уже известными нам особенностями это вносит в интерьер церкви хорошо ощущаемый элемент упорядоченности: боковые нефы как бы составлены из квадратных в плане «ячеек»-травей, величина которых служит основным компонующим элементом или «модулем» для других объемов; так, пролеты главного нефа и трансепта соответствуют двум таким единицам, а основание башни над средокрестием (пересечением главного нефа с поперечным) и башен западного фасада — четырем.
Внешний вид церкви также отличается выразительностью форм и обилием архитектурных деталей. Разноуровневая крыша как бы вычленяет центральный неф и трансепт относительно общей массы боковых нефов (внешних и внутренних), главной апсиды, внутренней галереи (хоров) и выступающих капелл в виде малых апсид. Дополнением к этому служат контрфорсы, усиливающие простенки между окнами, позволяя им выдерживать оказываемое сводами давление. Сами окна и входы-порталы также выделены соответствующим декоративным обрамлением. Впечатляющая своей высотой центральная башня, достроенная во времена готики, первоначально была задумана более низкой. Две башни фасада, к сожалению, так и остались незавершенными.
Когда мы заходим в главный неф, нас поражает его высота, сложная архитектурная проработка стен, сумеречное, непрямое освещение. Все это так непохоже на то впечатление простора и безмятежности, которое оставляет интерьер собора Св. Михаила с его четко разграниченным на простые «блоки» пространством (см. илл. 127). Если стены главного нефа собора Св. Михаила напоминают о временах раннего христианства (см. илл. 105), то в случае церкви Сен-Сернен они скорее напоминают такие постройки, как Колизей (см. илл. 85). Весь набор свойственных древнеримской архитектуре элементов — сводов, арок, полуколонн и пилястров — тесно связанных в единое упорядоченное целое, вновь предстает здесь перед нами. Однако если в греко-римской архитектуре детали соответствовали реальным «мускулам» строительных конструкций, то здесь, в главном нефе церкви Сен-Сернен, архитектурные элементы декора имеют иное, духовное значение; то же самое мы наблюдали в оттоновских миниатюрах, где изображение различных частей тела и даже масштаб фигур определялся их духовной значимостью. Полуколонны во всю высоту нефа показались бы древнему римлянину такими же неестественными, как и протянутая рука Христа на илл. 130. Создается впечатление, что они «вытянуты» какой-то мощной невидимой силой, спешащей как можно скорее достичь членящих полуцилиндрический свод поперечных арок. Их настойчиво повторяющийся ритм как бы ведет нас вперед, к находящейся в восточной части церкви залитой светом апсиде и опоясывающей ее галерее (теперь увы, заслоненным более позднего происхождения алтарем).
Описывая впечатление, которое производит интерьер церкви, мы вовсе не хотим сказать, что архитектор сознательно ставил перед собой задачу достичь подобного воздействия. Для него красота и решение инженерно-строительных задач были неразделимы. Перекрытие нефа сводом вместо сооружения деревянной крыши в целях обеспечения противопожарной безопасности было не только практичным, но давало возможность сделать храм, этот дом Бога, еще более величественным и грандиозным. А поскольку чем выше свод от земли, тем труднее создавать для него опорные конструкции, то архитектору пришлось использовать весь арсенал имевшихся в его распоряжении средств, чтобы поднять потолок главного нефа как можно выше. Для большей безопасности ему даже пришлось пожертвовать непосредственным освещением церкви через верхний ряд окон. Он предпочел поместить в боковых нефах галереи (верхние хоры), чтобы перенести на них давление, оказываемое сводом на стены главного нефа в поперечной плоскости, в надежде, что через них в центральную часть здания проникнет достаточно света. Церковь Сен-Сернен напоминает нам, что архитектура, как и политика, это «искусство возможного», и что в ее сфере успех, как и, впрочем, везде, достижим тогда, когда в конструкции и эстетике сооружения найден предел возможностей, диктуемых обстоятельствами.
Бургундия и Западная Франция
Решение проблемы сводчатого перекрытия главного нефа, найденное строителями церкви Сен-Сернен, было не окончательным, каким бы впечатляющим оно на первый взгляд не казалось. Бургундские архитекторы предложили более изящный вариант, использованный при постройке собора в Отёне (илл. 134), где галереи (верхние хоры) была заменены декоративной аркадой (носящей название «трифорий», поскольку она состоит из сгруппированных по три глухих проемов) и верхним рядом окон. Возможность сооружения столь высокого «трехэтажного» центрального нефа дало применение стрельчатых арок свода, создающих давление на опору не в поперечном направлении, а почти исключительно сверху вниз. Для придания большей гармоничности интерьеру главного нефа стрельчатая арка используется и в его аркаде. Возможно, ее появление во Франции связано с влиянием и исламской архитектуры, где она получила широкое распространение еще раньше. По-видимому архитектура Отёнского собора тоже приближается к пределу возможного, так как верхняя часть нефа обнаруживает небольшой, но все же заметный наклон стен в стороны от центральной оси, вызванный воздействием «раздвигающего» их свода— своего рода предостережение от дальнейших попыток увеличить высоту или ширину окон верхнего ряда.
Нормандия и Англия
Чем дальше на север, тем заметнее меняется направление развития архитектуры. Гак, почти полностью лишен украшений фасад церкви аббатства Сент-Этьенн в нормандском городе Кан (илл. 135), которое было основано Вильгельмом Завоевателем примерно через два года после вторжения в Англию (см. стр. 138). Четыре высоких контрфорса делят передний фасад церкви на три вертикальные секции, и это движение ввысь продолжают две замечательные башни; их высота производила бы впечатление даже и без высоких шпилей периода ранней готики. Церковь Сент-Этьенн отличается холодной и сдержанной архитектурой, изящество ее пропорций воспринимается скорее умом, чем глазами.
Такой способ восприятия, став явлением норманнской архитектуры, привел к новому важнейшему достижению в области техники возведения церковных зданий в Англии, где Вильгельм тоже начал широкое строительство. Начатый в 1093 г. Дерхемский собор — одно из самых больших сооружении в церковной архитектуре средневековой Европы (илл. 136). Несмотря на очень большую ширину главного нефа, над ним, по-видимому, с самого начала намеревались соорудить свод. Сводчатое перекрытие над восточной частью здания было завершено в удивительно короткий срок — к 1107 г., а точно такое же над остальной частью нефа— к ИЗО г. Данное перекрытие представляет большой интерес, так как это самый ранний случай систематического использования стрельчатого крестового свода на нервюрах для перекрытия трехъярусного нефа. Это новшество, таким образом, является значительным шагом вперед по сравнению с тем решением, которое было найдено для собора в Отёне. Боковые нефы, вид на которые открывается через отделяющую их аркаду, состоят из приближающихся в плане к форме квадрата и уже знакомых нам ячеек-травей с крестовыми сводами, тогда как пролеты главного нефа, разделенные мощными поперечными арками, намеренно удлинены и перекрыты крестовыми сводами так, что ребра (нервюры) образуют узор в виде сдвоенных перекрестий, которые делят соответствующий участок свода на семь секторов, а не на обычные четыре. Поскольку пролеты главного нефа вдвое длиннее ячеек боковых нефов, поперечные арки опираются лишь на нечетные столбы аркады, поэтому размеры и внешний вид столбов неодинаковы: более массивные имеют сложную составную форму «пучков» колонн и пилястров, примыкающих к прямоугольному или квадратному устою; четные же столбы представляют собой круглые колонны.
Чтобы зримо представить себе происхождение
столь своеобразной системы, попробуем вообра
зить, будто архитектор сначала задумал перекрыть
главный неф бочарным сводом с галереями-хорами
над боковыми нефами и без верхнего ряда окон, как
в церкви Сен-Сернен. При выполнении
соответствующих чертежей ему пришло в голову,
что, если предпочесть крестовый свод над главным
и боковыми нефами, то в верхней части стен
высвободятся полукруглые участки для верхнего
ряда окон: в этих местах стена не выполняет
существенной несущей функции и может иметь
проемы (илл. 137). Каждый пролет среднего нефа
содержит два похожих как сиамские близнецы
крестовых свода, разделенных на семь секторов.
Вес всей этой части свода передается на шесть
находящихся на уровне галереи точек, имеющих
надежную опору. Если арки у средо-крестия
являются полукруглыми, то арки к западу от него (т.
е. находящиеся ближе к входу) уже имеют слегка
стрельчатую форму — свидетельство
беспрестанного поиска архитектором более рациональных решений. Устраняя ту часть полукруглой арки, тяжесть которой вызывает боковой распор стен, он превращает ее в стрельчатую; обе половины последней как бы опираются одна на другую. Поэтому такая арка оказывает на стену гораздо меньшее направленное во вне давление по сравнению с полукруглой, и ее можно сделать сколь угодно высокой. Это открытие давало большие возможности и впоследствии
привело к созданию устремленных ввысь готичес
ких соборов. Основой такого крестового свода
служили ребра-нервюры, составляющие его каркас;
промежутки между ними заполняла кладка из
камней минимальной толщины, что позволяло
уменьшить как вес свода, так и боковой распор стен.
Неизвестно, была ли эта система изобретена именно
для собора в Дерхеме, но она не могла быть создана
задолго до его постройки, поскольку все еще носит
экспериментальный характер. С эстетической точки
зрения центральный неф в Дерхеме — один из
лучших во всей романской архитектуре:
удивительно мощные столбы двух чередующихся
разновидностей замечательным образом
контрастируют с эффектно освещенными и выгнутыми, как паруса, поверхностями свода.
Италия
Мы могли бы предположить, что именно в центральной Италии, бывшей некогда сердцем империи древних римлян, станет возможным создать наилучшие образцы романики, поскольку здесь могли служить примером уцелевшие античные постройки. Однако этого не произошло. Честолюбивые правители, стремившиеся возродить «то величие, которым был Рим», отводя при этом себе роль императора, как правило жили на севере Европы. Духовная власть папы, подкрепленная владением довольно значительными территориями, сделала трудно осуществимыми амбициозные планы императоров по усилению их власти в Италии. Со временем там возникли новые процветающие центры ремесла и торговли, благополучие которых основывалось на мореплавании или местном производстве. Они объединяли вокруг себя более мелкие владения или коммуны, соперничавшие друг с другом, либо заключавшие не слишком долгие союзы с папой или германским императором, если это сулило политическую выгоду. Постепенно наиболее развитой областью Италии стала Тоскана. Тосканцы не ставили перед собой задачу воссоздания ушедшей в прошлое империи римлян; кроме того, в силу дошедших через сохранившиеся церковные постройки традиций времен раннего христианства и хорошего знакомства с образцами древнеримской архитектуры они предпочли продолжать использовать формы, в своей основе раннехристианские, украшая их при помощи средств, мотивы которых были навеяны эпохой язычества. Если обратиться к одному из наиболее хорошо сохранившихся образцов тосканской романики, комплексу собора в Пизе (илл. 138), и сопоставить его сперва с церковью Сан-Апполинаре в Равенне, а затем с церковью Сен-Сернен в Тулузе (см. илл. 103, 132), у нас практически не останется сомнений относительно того, с которой из них она находится в наибольшем родстве. Конечно, он выше своей предшественницы и благодаря появившемуся большому трансепту приобрел в плане форму латинского креста, а также имеет купол, поднятый на высоком барабане над средокрестием. Но мы по-прежнему можем здесь наблюдать характерные для ранних базилик черты, такие как ряды плоских аркад и отдельно стоящая колокольня (знаменитая пизанская падающая башня, которая была построена совершенно вертикальной, но вскоре начала наклоняться из-за слабого фундамента), то есть во многом воспроизводящие облик церкви Сан-Апполинаре.
Единственным намеренно сохраненным в тосканской архитектуре «остатком» древнеримского стиля является облицовка наружных стен церкви разноцветными мраморными квадрами (в раннехристианской архитектуре преобладали скромные фасады). В Риме от прежней богатой облицовки зданий мало что оставалось: она была снята для украшения более поздних построек. Однако интерьер Пантеона (см. илл. 87) все же давал некоторое представление об этом утраченном наряде, и взглянув, например, на флорентийский баптистерий (илл. 139) мы можем распознать желание архитектора украсить его таким же мраморным одеянием, состоящим из панелей-квадров золотого и белого мрамора в высшей степени строгой геометрической формы. Пропорции и детали глухих аркад тоже по существу классические. Постройке в целом настолько присущ дух классицизма, что через какое-то время флорентийцы сами поверили, будто когда-то она служила храмом древнеримского бога войны Марса.
СКУЛЬПТУРА
Возрождение в эпоху романики монументальной каменной скульптуры представляется еще более важным, чем архитектурные достижения того времени, поскольку этот жанр не получил развития ни в каролингском, ни в оттоновском искусстве. Напомним, что статуя как самостоятельное произведение практически полностью исчезла в западноевропейском искусстве после V в. Каменный рельеф продолжал существовать лишь в качестве применявшегося в архитектуре орнамента или украшения какой-либо поверхности, причем его глубина стала очень небольшой. Таким образом, единственной продолжавшей существовать в раннес-редневековом искусстве разновидностью скульптуры стал жанр скульптурной миниатюры — небольшие рельефы и создаваемые иногда скуль-птурки из металла или слоновой кости. В оттоновском искусстве, где мы видим такие работы, как двери епископа Бернварда (см. илл. 129), размеры произведении увеличились, но сам дух традиции остался прежним. Свойственное данной эпохе стремление к созданию крупномасштабных скульптурных произведений, примером которого может служить действительно впечатляющее распятие Геро (см. илл. 126), было ограничено почти исключительно работами по дереву. Сегодня нам уже трудно сказать, когда и откуда началось возрождение каменной скульптуры; возможно, это произошло где-то вдоль дорог Юго-западной Франции и Северной Испании, ведущих паломников к Сант-Яго-де-Кампостела. Как и в случае с романской архитектурой, быстрое развитие каменной скульптуры в 1050—1100 гг. связано с общим ростом религиозной устремленности в обществе накануне крестовых походов. Украшающая церкви скульптура обращалась в первую очередь к чувствам мирян, а не членов замкнутых монастырских общин. В тулузской церкви Сен-Сернен имеется несколько таких произведений. Это значительные для своего времени работы, созданные ок. 1090 г. Трудно сказать, в какой части церкви находилась одна из них, изображающая некоего апостола (илл. 140). Возможно, в передней части алтаря. Когда мы смотрим на нее, то кажется, будто она нам что-то напоминает. Действительно, твердость и уверенность фигуры апостола позволяют ощутить сильное влияние античности, свидетельствующее о том, что мастер имел возможность хорошо изучить древнеримскую скульптуру времен поздней античности (образцы которой в достаточной мере сохранились в Южной Франции). С другой стороны, особенности компоновки — торжественная фронтальность изображения, помещенного в украшенную архитектурными элементами раму,— в целом указывают на византийский источник. Обращает на себя внимание большое сходство с архангелом Михаилом на вырезанной из слоновой кости миниатюре (см. илл. 109). Однако, столь сильно изменив масштаб миниатюры, создатель тулузского рельефа придал ему новое качество: ниша превратилась в какую-то реальную пещерку, волосы — в круглую плотно облегающую голову шапочку, фигура стала суровой и какой-то «топорной». Практически, этот апостол обрел вновь почти те же достоинства и непосредственность, что отличали греческую скульптуру эпохи архаики.
Эта работа явно рассчитана на восприятие не только с близкого расстояния: размеры изображенного апостола составляют более половины обычного человеческого роста. Его впечатляюще большое, грузное тело хорошо видно на значительном расстоянии. Это подчеркнутая массивность позволяет догадаться, что могло послужить толчком к возрождению крупномасштабной скульптуры: объемное и осязаемое каменное изображение кажется более реальным по сравнению с живописным. Священнослужителю, погруженному в абстракции теологии, она могла показаться неуместной, даже опасной. Св. Бернар Клервоский, писавший в 1127 г., осуждал употребление скульптуры для украшения церквей как тщеславное безрассудство, суетное развлечение, вводящее нас в искушение «охотней читать по мрамору, чем по нашим книгам». Однако голос его не был услышан. Для простодушной паствы в любой большой скульптуре неизбежно было что-то от идола; именно это и давало ей такую притягательную силу.
Еще одним важным центром, где начала развиваться романская скульптура, являлось аббатство в Муассаке, к северу от Тулузы. Южный портал его церкви обнаруживает такое богатство фантазии резчика, жившего одним поколением позже создателя рельефа с апостолом из церкви Сен-Сернен, которое заставило бы Св. Бернара содрогнуться. На илл. 141 мы видим прекрасно выполненный каменный столб (центральный стержень, поддерживающий перемычку портала, разделяя проем на две половины) и левый косяк портала. Оба косяка имеют зубчатый профиль; стволы украшающих косяки полуколонн и центральный столб повторяют этот «фестончатый» рисунок, как будто их выдавили из огромного кондитерского шприца. Люди и животные приобретают такую же гибкость формы, так что невероятно тонкая фигурка пророка на боковой стороне столба кажется удивительно соответствующей тому не слишком удобному «пьедесталу», на который она водружена. Следует обратить внимание и на то, как вписывается тело пророка в зубчатые очертания колонны. В нем достаточно свободы, чтобы он мог скрестить в каком-то танцеобразном движении ноги и, разворачивая свиток, повернуть голову, чтобы разглядеть интерьер церкви. Но каково же значение пересекающихся изображений львов, образующих симметричные зигзаги на передней поверхности столба? Судя по всему, они просто «оживляют» ствол колонны наподобие их предшественников со «звериных орнаментов» ирландских миниатюр, населявших отведенное им поле. В книжной иллюстрации такая традиция не прекращала своего существования, и, несомненно, оказала влияние на автора данной работы, подобно тому, как взволнованное движение пророка восходит к каролингской миниатюре (см. илл. 124). Изображения львов могут иметь еще одно происхождение: от противостоящих друг другу зверей в древнем искусстве Ближнего Востока через персидские изделия из металла (см. илл. 44, 54). И все же присутствие этих львов в Муассаке с точки зрения эффективности их использования как орнамента нельзя дать исчерпывающего объяснения. Они принадлежат к существующей в романском искусстве обширной семье диких тварей и чудищ, которые сохраняют свою демоническую живучесть, даже когда их пытаются заставлять, как наших львов, выступать в качестве опоры. Таким образом, в их задачу входит выразительность, а не только декоративность. Они служат воплощением темных сил, прирученных и стоящих на страже, либо загнанных туда, где должны оставаться вечно недвижными, как бы ни скалились в знак протеста их пасти.
Бургундия
В романских церквах над перемычкой главного портала обычно размещался тимпан, представлявший собой, как правило, композицию, в центре которой изображался Христос на троне. Чаще всего это было апокалиптическое видение сцены страшного суда— наиболее впечатляющий сюжет в христианском изобразительном искусстве, запечатленный с особо выразительной силой на рельефе, украшающем Отёнский собор. На илл. 142 показана его деталь — часть правой половины тимпана, где изображено «взвешивание душ». В самом низу, трепеща от страха, из могил восстают мертвые; некоторых уже преследуют змеи, других хватают огромные, похожие на клешни руки. А выше зримо и наглядно решается их судьба при помощи весов, с одной стороны от которых стоят ангелы, а с другой корчатся бесы. Спасенные души льнут, словно дети, в поисках защиты к нижнему краю одежд ангелов, тогда как осужденные попадают в руки злобно ухмыляющихся демонов и низвергаются ими в ад. В фигурах этих демонов мы замечаем ту же родственную ночным кошмарам фантазию, которая свойственна существующему в романском искусстве миру зверей. Эти твари являются химерами: напоминая в целом людей, они имеют очень тонкие птичьи ноги, покрытые сверху шерстью, хвосты, заостренные уши и огромные злобные рты. По безграничной жестокости эти монстры не сравнимы даже с чудовищными зверями; то, чем они занимаются, захватывает их, доставляя зловещую радость. Всякий входящий, «читавший по мрамору» этого барельефа (как выразился Св. Бернар), неизбежно входил в собор со смиренным сердцем и сокрушенным духом.
Долина Мёза (Мааса)
Историки искусства редко признают факт появления в XII в. мастеров с отчетливо выраженной творческой индивидуальностью — возможно, из-за того, что он противоречит широко распространенному мнению об анонимности всего средневекового искусства. Действительно, такие случаи довольно редки, но это не может принизить их значения.
Возрождение внимания к личности художника наблюдалось в Италии, а также на севере, в долине реки Мёз (Маас), протекающий через Северовосточную Францию, Бельгию и Голландию. Во времена Каролингов это был район распространения реймского стиля (см. илл. 124, 125), и свойственное тому периоду хорошее знание классических источников осталось в этих местах характерным и для романского искусства. Так что и здесь отход от прежней «обезличенное™» был связан с влиянием античного искусства, хотя оно и не привело к созданию монументальных произведений. Наибольшего совершенства жившие на берегах Мёза скульпторы эпохи романики достигли в работе с металлом. Прекрасным подтверждением этому может служить созданная в 1107— 1118 гг. в г. Льеже купель (илл. 143). Автор этого шедевра, Рейнер из Гюи, является первым мастером, имя которого нам известно. Чаша купели, подобно описанному в Библии «морю», имевшему аналогичную форму и находившемуся в Иерусалимском храме царя Соломона, опирается на двенадцать волов, символизирующих двенадцать апостолов. Украшающие купель рельефы, по высоте примерно соответствующие рельефам на дверях из собора Св. Михаила (см. илл. 129), тем не менее разительно от них отличаются. Вместо грубоватой выразительности работы оттоновской эпохи мы находим здесь гармоничное равновесие и соразмерность деталей и элементов купели, утонченную сдержанность скульптурного рельефа и глубокое понимание органичности композиции. Все это отражает глубокое родство с античными традициями, хотя художник и пользуется языком средневекового искусства. Если приглядеться к показанной со спины обернувшейся фигуре (под деревом, слева), то по грации движения и одежде греческого типа ее можно принять за работу античного мастера.
Монументальная статуя романского периода, изображающая животное, является произведением светского, а не религиозного искусства. Ее можно осмотреть со всех сторон. В настоящее время она существует в единственном экземпляре, хотя, вероятно, когда-то их было изготовлено несколько. Это бронзовый лев в натуральную величину, увенчивающий высокую колонну, поставленную саксонским герцогом Генрихом Львом перед своим дворцом в Брунсвике в 1166 г. (илл. 144). Этот полный ярости зверь (явно олицетворяющий самого герцога или по крайней мере ту сторону его характера, которая и принесла ему прозвище) удивительно напоминает архаическую бронзовую статую капитолийской волчицы (см. илл. 80). Возможно, такое сходство не случайно, поскольку в то время статую волчицы можно было увидеть в Риме, и она должна была производить глубокое впечатление на скульпторов эпохи романики.
ЖИВОПИСЬ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ
В отличие от архитектуры и скульптуры, живопись не знала столь революционных перемен, которые сильно отличали бы ее от каролингской или оттоновской. И более «римской», чем каролингская или оттоновская, ее тоже трудно назвать. Это, однако, не означает, что в XI—ХП вв. она имела меньшее значение, чем в предшествующую эпоху, а лишь свидетельствует о большей силе традиции в данной области, что особенно характерно для жанра книжной иллюстрации.
Вместе с тем, вскоре после начала XI в. мы отмечаем и здесь зарождение стиля, который соответствовал монументальности романской скульптуры, зачастую предвосхищая ее.
Район Ла-Манша
Романская живопись, так же как архитектура и скульптура, дала Западной Европе большое количество разнообразных региональных стилей, однако ее наивысшие достижения связаны с монастырскими скрипториями Северной Франции, Бельгии и Южной Англии. Созданные в этом регионе работы так схожи по стилю, что иногда невозможно сказать, на котором из берегов Ла-Манша появился тот или иной манускрипт. Так, стиль замечательной миниатюры, изображающей Св. евангелиста Иоанна (илл. 145), связан одновременно с двумя школами: Камбре и Кентербери. Абстрактное чертежное искусство раннесредневе-кового манускрипта (см. илл. 124) испытало на себе византийское влияние (например, петлеобразные складки ткани — их происхождение восходит к таким работам, как рельеф, показанный на илл. 109), но не утратило своего энергичного ритма. Именно эта четко контролируемая динамика каждого контура основной фигуры и ее обрамление объединяет различные элементы композиции в единое целое. Такое качество линий позволяет определить отдаленный источник этой традиции, лежащей в области кельтско-герман-ского искусства. Если сравнить данную миниатюру с показанной на илл. 119 страницей из Лин-
дисфарнского Евангелия, то мы увидим, какое
воздействие на узор миниатюры со Св. Иоанном
оказала плетенка раннего средневековья. Складки
материи и гроздья растительного орнамента
отличает импульсивная, но упорядоченная живость
изображения, являющаяся отзвуком парных
переплетающихся змееподобных чудищ звериного
стиля, тогда как лиственный орнамент происходит
от классического аканта, а в изображении
человеческих фигур миниатюрист следует каро
лингским и византийским образцам. Всей же
странице в целом свойственно не только единство
формы, но и содержания. Св. Иоанн как бы реально
существует в ограниченном рамкой пространстве
миниатюры, так что пожелай мы отделить от нее его
изображение, он остался бы без чернильницы,
которую ему подает даритель манускрипта, аббат
Ведрикус, без символизирующего Св. Дух голубя в
Божьей деснице, который служит ему источником
вдохновения, а также без орла (символа,
соответствующего данному евангелисту).
Изображения в других медальонах не связаны с
центральной фигурой апостола столь
непосредственно и представляют собой сцены из его жития.
Этот стиль, в котором господствуют линия и простой, замкнутый контур, проявляется в работах, весьма различных по жанру и по размеру: это стенные росписи, шпалеры, витражи, скульптурные рельефы. Так называемый «Ковер из Байе» представляет собой вышитый шерстью фриз длиной 70,1 м, изображающий вторжение Вильгельма Завоевателя в Англию. На илл. 146 показан фрагмент с битвой при Гастингсе. Широкие полосы — сверху и снизу — служат обрамлением главной сцены. Если верхняя, украшенная птицами и животными, является чисто декоративной, то нижняя заполнена телами павших воинов и лошадей и, таким образом, служит частью основного сюжета. «Ковер из Байе» почти начисто лишен изящества, характерного для искусства античности (см. илл. 59), но тем не менее дает нам удивительно яркое и подробное описание военных действий XI века. Здесь нет людских масс, подчиненных дисциплине сюжета, как в греко-римском искусстве, но не потому, что было утрачено умение создавать композиции с частичным наложением находящихся в разных ракурсах фигур, а ввиду возникновения нового понимания индивидуализма, когда каждый воин благодаря своей силе или хитрости рассматривается как потенциальный герой. Обратите внимание на то, как воин, упав с перекувырнувшейся лошади (ее задние ноги высоко подняты) пытается сбросить наземь своего противника и тянет на себя подпругу его седла.
Юго-западная Франция
Твердая линия контура и сильное чувство стиля характерны также и для настенной живописи романского периода. «Строительство Вавилонской башни» (илл. 147) является составной частью производящего сильное впечатление цикла, украсившего своды главного нефа церкви в Сен-Савен-сюр-Гартан. Насыщенная энергичным действием композиция отличается глубоким драматизмом. Сам Бог, обращаясь к строителям этого колоссального сооружения, становится одним из персонажей повествования. Его фигура композиционно уравновешена размещенной справа фигурой увлеченного работой гиганта Нимро-да, затеявшего возведение башни и теперь подающего строительные блоки наверх, каменщикам, так что основным содержанием данной сцены становится великое соревнование между людьми и Богом. Тяжеловатые темные контуры и выразительная игра жестов делают всю композицию хорошо «читаемой» с большого расстояния. Аналогичные черты имеют место и в иллюстрированных манускриптах этого региона. Несмотря на свои небольшие размеры они могут быть столь же монументальными.
Долина реки Мёз (Маас)
В начале второй половины XII в. на обоих берегах Ла-Манша начинают ощущаться значительные перемены, касающиеся стиля романской живописи. На илл. 148 мы видим деталь Клос-тернойбургского алтаря — одну из многих украшающих его выполненных в технике эмали пластин, изображающую переход через Чермное море,— работы Николая из Вердена. Легко заметить, что линии вновь обрели особенность передавать трехмерность форм. Это уже не абстрактный орнамент. Складки более не живут своей собственной жизнью, образуя затейливые узоры, а позволяют угадывать очертания скрытого под одеждами тела. По существу, мы сталкиваемся здесь с тем же возрождением античной традиции, которое наблюдали на примере купели из Льежа работы Рейнера из Гюи (см. илл. 143); новизна заключается лишь в двухмерности изображения. То, что новый стиль ведет происхождение скорее всего от художественной обработки металла (которая предусматривает не только литье и чеканку, но и гравировку, эмальерное дело и работу по золоту), может показаться необычным более для скульптуры, чем для живописного изображения. Кроме того, художественная обработка металла на берегах Мёза была очень высоко развита еще со времен Каролингской династии. Мастер, создавший Клостернойбургский алтарь, в своих «картинах на металле» сумел преодолеть различия между скульптурой и живописью, романским и готическим искусством. Несмотря на то, что данное произведение было выполнено задолго до конца XII в., оно является скорей провозвестником нового стиля, нежели конечным результатом развития старого. Действительно, идеи, нашедшие отражение в этой работе, в последующие пятьдесят лет оказали большое влияние на живопись и скульптуру. Удивительно зрелое мастерство Николая из Вердена нашло живой отклик в Европе, где в то время пробуждался интерес к человеку и окружающему его миру.
ГОТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
Термин «готика» возник применительно к архитектуре, и именно в ней проявились наиболее характерные черты этого стиля. На протяжении столетия— примерно с 1150 до 1250 гг.— архитектура оставалась преобладающим видом искусства. Этот период можно назвать эпохой великих соборов. В первое время готическая скульптура по духу жестко подчинялась архитектуре. Но после 1200 г. эта зависимость стала все более ослабевать. Наивысшие достижения в области скульптуры относятся к 1220—1420 гг. Что касается живописи, то местом ее расцвета, пришедшегося на 1300— 1350 гг., стала центральная Италия, а примерно с 1400 г. она становится ведущим жанром искусства к северу от Альп. Таким образом, рассматривая всю эпоху готики в целом, мы видим, как постепенно роль основного вида искусства перешла от архитектуры к живописи, то есть качества, присущие архитектуре, уступили место качествам, свойственным живописи.
На эту общую схему накладывается еще одна: повсеместное распространение нового стиля во многих странах с одной стороны при наличии местных особенностей с другой. Возникнув как локальное явление в Иль-де-Франс, готическое искусство распространяется по всей Франции и захватывает всю Европу, где его называют opus modernum или francigenum (современный французский стиль). В ХШ в. новый стиль перестает казаться привнесенным извне, и начинают складываться его местные разновидности. По мере приближения к середине XIV в. отмечается все возрастающая тенденция к взаимопроникновению региональных форм, и уже около 1400 г. мы наблюдаем практически повсеместное преобладание удивительно однородного стиля — интернациональной готики. Это единство, однако, оказывается недолговечным: в Италии, ведущее место в искусстве которой теперь принадлежит Флоренции, создается совершенно новый стиль, известный как Раннее Возрождение, тогда как по другую сторону Альп столь же выдающееся место занимает Фландрия, где получают развитие живопись и скульптура поздней готики. И, наконец, через столетие итальянское возрождение станет основой еще одного международного стиля. Теперь, рассмотрев вкратце основные этапы развития готического искусства, мы сможем ознакомиться с ним более подробно.
АРХИТЕКТУРА
Франция
Сен-Дени и аббат Сугерий. В отличие от предшествовавших стилей мы можем указать время возрождения готики с исключительной точностью: 1137—1144 гг.; именно в этот период аббат Сугерий осуществил перестройку церкви королевского аббатства Сен-Дени в непосредственной близости от Парижа. Единственной областью Франции, находившейся под непосредственным управлением короля, был Иль-де-Франс, но даже здесь знать нередко бросала вызов его власти. Однако с начала XII в. она стала усиливаться, а размеры королевского домена расширяться. Сугерий, как главный советник Людовика VI, играл ключевую роль в этом процессе. Именно он укрепил союз короля с церковью, привлек на его сторону французских епископов и находившиеся под их патронатом города; король со своей стороны поддержал папство в его борьбе с германскими императорами.
Сугерий оказывал поддержку монархии в плане не только практической, но и «духовной» политики. Акцентируя внимание на божественном происхождении королевской власти и видя в ней оплот правосудия и справедливости, он стремился к объединению нации вокруг короля. Его архитектурные замыслы относительно аббатства Сен-Дени следует понимать именно в этом контексте, так как, основанное в конце VIII в., оно пользовалось особой славой — и как место поклонения святому, являющемуся просветителем и защитником Франции, и как главный памятник каролингской династии. Сугерий намеревался сделать аббатство духовным центром королевства, местом паломничества. Его церковь должна была затмить великолепие прочих, стать наивысшим взлетом религиозных и патриотических чувств. Но чтобы она стала зримым воплощением этих планов, ее следовало расширить и перестроить. Сугерий оставил такое подробное и красноречивое описание всех своих замыслов, что мы знаем гораздо больше о том, чего он хотел достичь, чем о конечном результате, так как западный фасад и украшавшая его скульптура дошли до нас в плачевном состоянии, а хоры, которые были задуманы как наиболее важная часть церкви, сохранили первоначальный вид только у внутренней галереи (илл. 149).
Галерея и окружающий апсиду венок капелл знакомы нам по романским «хорам паломников» (см. стр. 133). Но в Сен-Дени они объединены с основным пространством церкви совершенно новым образом. Капеллы уже не являются самостоятельными элементами, а сливаются со всем зданием, образуя, по сути, вторую галерею: при этом основанный на применении стрельчатой арки крестовый свод на нервюрах используется повсеместно. (В романских «хорах паломников» крестовый свод имели только галереи.) В итоге мы воспринимаем двойную галерею в Сен-Дени не в качестве ряда отдельных ячеек, а как единое целое (хотя и расчлененное) пространство, форма которого очерчена кружевом стройных арок, нервюров и поддерживающих своды колонн.
Интерьер Сен-Дени в первую очередь отличается от прежних церквей легкостью и обилием света. Его архитектурные формы изящны, и, по сравнению с массивной тяжеловесностью романских построек, кажутся почти невесомыми, а площадь окон увеличена до такой степени, что их уже трудно назвать проемами в стене — они занимают ее всю, становясь, собственно, прозрачной стеной. Такое обилие света обеспечивается применением тяжелых и видимых только снаружи контрфорсов. Выступая между капеллами, они принимают на себя боковой распор сводов. Так что столь удивительную воздушность как бы лишенного тяжести интерьера легко объяснить: самые тяжелые элементы конструкции скрыты от нашего взора.
Описывая построенные Сугерием хоры, мы заглянули в самую суть готической архитектуры; вместе с тем, каждый отдельно взятый их элемент в действительности не является новшеством. Все они существовали в различных местных школах французской и англо-норманнской романики, откуда и были заимствованы. Однако до церкви Сен-Дени мы нигде не встретим их в сочетании, использованными для постройки одного здания. В свое время в Иль-де-Франсе не сложился собственный вариант романского стиля, не было и опытных мастеров. Так что Сугерию — он сам говорит об этом— пришлось собрать их из многих других мест. И все же готическая архитектура возникла не просто как синтез отдельных особенностей романского стиля. Рассказывая о перестройке церкви, Сугерий настойчиво подчеркивает строгую геометричность планировки и стремление к обилию света как главную цель, поставленную перед мастерами. «Гармония» (под ней понималась соразмерность разных частей церкви с точки зрения математических пропорций) является для него единственным источником красоты, поскольку наглядно демонстрирует законы, по которым вселенная была создана божественным разумом. «Неземной» свет, льющийся на хоры через «святые» окна церкви, становится Божественным светом, мистическим символом Святого Духа. Такая интерпретация гармонии чисел и света стала итогом многовекового развития христианского мировоззрения. Сугерий, по-видимому, особенно глубоко ощущал этот теологический символизм. Он ушел в него с головой, желая найти ему зримое воплощение при перестройке церкви, посвященной святому покровителю его королевства. О степени достигнутого успеха свидетельствует не только внешний вид построенных им хоров, но и производимое ими впечатление. Каждый посетивший аббатство был буквально ошеломлен плодом усилий Сугерия, и уже через несколько десятилетий новый стиль распространился далеко за пределы Иль-де-Франса. Гораздо трудней объяснить, как и почему Сугерием был достигнут такой успех. Здесь мы опять сталкиваемся со старым противоречием формы и содержания. Как могли богословские воззрения французского аббата привести к таким достижениям в технике строительства, если только не предположить, что он сам был архитектором? Как ни странно, это лишь кажущееся противоречие. В слово «архитектор» вкладывался совсем иной смысл, чем тот, который вкладывается сейчас. Нынешнее понятие происходит из Древней Греции и Древнего Рима и укоренилось в Италии в эпоху Возрождения. Согласно представлениям средневековья, это был человек, осуществляющий общее руководство, а не мастер, то есть строитель в узком смысле этого слова, ответственный за строительные работы. Обучение же архитектуре, как профессии, в то время, конечно, отсутствовало.
Разумеется, не вызывает сомнения, что хоры в Сен-Дени спроектированы и построены более рационально, чем в любой из романских церквей. В задачу строителя церкви, однако, входит не просто обеспечение максимума пространства при минимуме использованных материалов. Для мастера, возводившего хоры под руководством Сугерия, технические задачи, относящиеся к сооружению свода, несомненно, были теснейшим образом связаны с вопросом о форме (то есть о красоте, гармонии, совершенстве и так далее). Избранное им решение предусматривает наличие некоторых на первый взгляд функциональных архитектурных элементов, которые на самом деле практически не выполняют никакой функции, таких как тонкие колонны (полупилоны), якобы передающие вес сводов на пол церкви. Однако для того, чтобы понять, из чего складываются красота, гармония и совершенство, средневековому архитектору требовалось руководство духовного авторитета. В случае заказчика, столь глубоко интересующегося архитектурной эстетикой, как Сугерий, это вело к его полному вовлечению в создание проекта постройки. Таким образом, стремление Сугерия «воплотить теологию в камне» скорее всего с самого начала явилось решающим фактором. Можно предположить, что именно оно придало форму существовавшему в его сознании образу идеальной постройки и предопределило выбор принадлежащего к норманнской школе мастера. Тот оказался на уровне поставленной перед ним поистине великой задачи: идеи и указания аббата не просто нашли в нем отклик — он был к ним исключительно восприимчив. Так вдвоем они создали готический стиль.
Собор Нотр-Дам, Париж. И все-таки церковь Сен-Дени была монастырской; будущее же готической архитектуры принадлежало городам, а не жившим в сельской местности монашеским общинам. Следует напомнить, что с начала XI в. наступил расцвет городов. Развитие их шло все быстрее. Их все возрастающее значение ощущалось не только в экономике и политике, но и во многих других сторонах жизни. Важной как никогда стала роль епископов и городского духовенства. Вот почему готику можно назвать «великой эпохой кафедральных соборов». (Собор являлся главной церковью управляемого епископом диоцеза и обычно находился в главном городе епархии.) Являвшиеся поначалу центрами обучения, монастыри уступили эту свою роль создаваемым епархиями школам и университетам, а сами кафедральные соборы стали средоточием творческих усилий в области искусства.
В архитектуре парижского собора Нотр-Дам (что означает дословно «Наша Госпожа», т. е. Богородица), постройка которого была начата в 1163 г., черты, проявившиеся уже в облике перестроенной Сугерием церкви Сен-Дени, воплотились наиболее полно. Его план (илл. 150) с преобладающей продольной осью симметрии отличается столь удивительными целостностью и компактностью, которых не удавалось достичь в большинстве романских церквей. Двойная внутренняя галерея хоров продолжена непосредственно в боковые нефы, а длина совсем короткого трансепта почти не превышает ширины фасада. Своды, разделенные ребрами на шесть сегментов в каждом пролете главного нефа (имеющем в плане квадратную форму), хотя и не идентичны напомнившим нам сиамских близнецов крестовым сводам Дерхемского собора (см. илл. 136), тем не менее являются продолжением архитектурного эксперимента, начатого в норманнской романике. В интерьере собора (илл. 151) мы находим и некоторые другие особенности, свойственные норманнскому варианту ро
манского стиля. Это и колонны аркады главного
нефа, и галереи над примыкающими к нему бо
ковыми нефами. Применение стрельчатых арок,
служащих ребрами свода, впервые имевшее место в
западных пролетах центрального нефа Дерхем-ского
собора, стало в Нотр-Дам систематическим — здесь
они использованы повсеместно. Вместе с тем,
большой размер верхних окон, а также изящество и
легкость архитектурных форм, служащих как бы
отражением рисунка главного свода, создают тот
связанный в нашем представлении с готическими
интерьерами «эффект невесомости», благодаря
которому стены главного нефа кажутся такими
тонкими. Еще одной приметой готики является
вертикальная направленность внутреннего
пространства. И дело здесь не столько в действительных пропорциях главного нефа (в некоторых романских соборах он столь же высок— если понимать под его высотой отношение к ширине), как во всегда акцентированных вертикалях и той парящей легкости, с какой передается ощущение высоты. В романских же интерьерах (таких, как на илл. 133) подчеркивается мощь принимающих на себя вес сводов опор.
Как и в случае задуманных Сугерием хоров, контрфорсы (этот «костяк» всей постройки) не видны изнутри. На плане они показаны соответствующими сплошной каменной кладке черными прямоугольниками, выступающими с внешней стороны здания наподобие зубцов. Над боковыми нефами эти контрфорсы переходят в аркбутаны — перекинутые наподобие мостов арки, поднимающиеся к особо нуждающимся в дополнительной опоре участкам стены между окнами верхнего ряда, на которых сконцентрирован боковой распор свода главного нефа (илл. 152, 143). Возникновение такого свойственного готической архитектуре способа создания опор для свода, несомненно, продиктовано функциональными соображениями. Вместе с тем, даже аркбутаны вскоре получили эстетическое значение: их форма не только позволила выполнять функцию опоры, но и зримо выражать ее самыми различными способами, подчиняясь чувству стиля строителя собора.
Представленный на илл. 154 западный фасад собора Нотр-Дам является наиболее монументальным. Он сохранился практически полностью; только украшающая его скульптура сильно пострадала во время французской революции, и большая ее часть была восстановлена. Внешний вид фасада в общих чертах напоминает церковь Сен-Дени, образцом для которой послужили в свою очередь романские фасады Нормандии, такие как Сент-Этьенн в Кане (см. илл. 135). Сравнив фасад Нотр-Дам с последним, отметим, что в нем сохранились основные отличительные черты нормандской церкви: контрфорсы, усиливающие углы башен и членящие главный фасад на три части, размещение порталов и наличие трех этажей. Богатое же скульптурное убранство скорее типично для фасадов Западной Франции и покрытых затейливою резьбой порталов Бургундии (см. илл. 142).
Но гораздо важней данного сходства те особенности, что отличают фасад Нотр-Дам от его романских предшественников, и прежде всего то, как последовательно все архитектурные детали объединены в удивительно сбалансированное и согласованное целое. Значимость, которую придавал Сугерий гармонии, геометричности и пропорциональности проявилась здесь с еще большей силой, чем даже в Сен-Дени. Этой дисциплине форм подчиняется и скульптура, для которой уже непозволительно спонтанное (и зачастую неконтролируемое) увеличение размеров, столь характерное для романского стиля, а предписывается четко определенная роль в рамках единого архитектурного решения. В то же время кубическая массивность фасада Сент-Этьенн трансформируется в нечто совершенно противоположное. Кружевные аркады, огромные порталы, окна нарушают монотонность стены, так что достигается общий эффект легкой ажурной ширмы. Мы увидим, как быстро развивалось в первой половине XII в. эта тенденция, сравнив западный фасад Нотр-Дам с построенным несколько позднее фасадом южного трансепта, который виден в центре илл. 152. Круглое окно-розетка западного фасада еще глубоко утоплено в толще стены, и в результате его ажурный каменный переплет четко выделяется на фоне стены, тогда как на фасаде трансепта мы уже не можем вычленить окно-розетку из его обрамления — оно составляет сплошное единое кружево со всем окружающим его пространством,
Шартрский собор. Из всех наиболее известных готических соборов только в Шартрском до наших дней сохранились в первоначальном виде почти все витражи — а их насчитывалось более ста восьмидесяти. Тот, кто хоть раз наблюдал волшебство разноцветных лучей света, льющегося вниз через большие верхние окна центрального нефа, никогда не забудет их красочного сияния, напоминающего блеск драгоценных камней (илл. 155). Эти окна пропускают гораздо больше света, чем кажется. Суть в том, что они выполняют роль множества цветных рассеивающих фильтров, изменяющих характеристики обычного дневного света, придавая ему поэтичность, наделяя символическим значением «неземного света», по определению аббата Сугерия. Это впечатление эфирного, неземного света, в котором растворяется физическая осязаемость стен и, соответственно, граница между тленным и вечным мирами, создает в человеке глубокое религиозно-мистическое чувство, лежащее в основе духовности эпохи готики.
В Шартрском соборе стиль высокой готики предстает перед нами уже сформировавшимся, но наибольших высот в своем развитии он достигнет спустя еще одно поколение. Головокружительная высота становится основной целью и в техническом и в эстетическом смысле. Каркасная конструкция в ущерб безопасности была доведена до предела своих возможностей. Внутренняя логика развития данной системы настойчиво требовала создания сводов тонких, как перепонка, и такого расширения площади окон, чтобы вся стена выше аркады главного нефа превратилась в сплошной верхний их ряд.
Реймский собор. То же стремление к преобладанию вертикалей и обеспечению характерного освещения прослеживается и в развитии соответствующего стилю высокой готики фасада. Наиболее известен фасад Реймского собора (илл. 156), удивительно контрастирующий с фасадом Нотр-Дам в Париже, хотя он и был задуман всего около тридцати лет спустя. Многие архитектурные детали использованы и там, и тут, но в более позднем варианте они были видоизменены и сочетаются совсем по-иному. Порталы не утоплены вглубь, а напротив, выступают вперед, наподобие островерхих портиков или крылец; место тимпанов над входом заняли окна. Ряд изображающих королей статуй, который в соборе Нотр-Дам формирует четкую горизонталь, разделяющую первый и второй этажи, поднят в Реймсе столь высоко, что сливается в аркадой третьего этажа. Все архитектурные элементы, за исключением окон-розеток, стали выше и уже. Множество остроконечных пинаклей еще сильнее подчеркивают неизменную устремленность ввысь. Скульптурное убранство — несомненно, самое великолепное по сравнению с другими соборами — более не размещено в четких специально выделенных зонах. Скульптура распространилась и на многие другие, нетрадиционные прежде участки, такие как выступы и карнизы, не только на главном фасаде, но и на боковых, так что собор со стороны становится похож на голубятню, где «живут» статуи. Усиление вертикального начала в архитектуре французских готических соборов шло весьма быстро: на илл. 157 показано, к чему привело развитие этой тенденции и какими средствами достигались такая удивительная высота свода и столь значительное увеличение площади окон.
Интернациональная готика. Французские соборы в стиле высокой готики являются результатом поистине титанических усилий их создателей; немногие из построек в мире, возведенных до или после, могут с ними сравниться. Это памятники, принадлежащие всей нации: затраты на их сооружение были огромны, пожертвования поступали со всех концов страны от представителей всех слоев общества. Они стали вещественным выражением того слияния религиозных и патриотических чувств, к которому стремился аббат Су-герий. Одним из самых удивительных явлений готического искусства стал тот энтузиазм, который вызвал в других странах «французский королевский стиль парижского региона». Еще более примечательна его приспособляемость к различным местным условиям— настолько, что в наше время памятники готической архитектуры в Англии и Германии стали предметом национальной гордости, а искусствоведы этих стран рассматривают готику как «чисто местный» стиль. Быстрому развитию готического искусства способствовал ряд факторов: замечательное мастерство французских архитекторов и резчиков по камню, высокий престиж среди интеллектуальной элиты французских центров образования, а также влияние цистерцианцев, членов нового монашеского ордена, основанного Св. Бернардом Клервоским, распространивших по Западной Европе строгую разновидность готики. И, наконец, последней причиной повсеместной победы готического искусства, по-видимому, стала чрезвычайная убедительность самого стиля, его способность будить воображение и воспламенять религиозные чувства даже среди людей, далеких от атмосферы Иль-де-Франса.
Англия
Едва ли вызовет сомнение факт, что именно Англия должна была оказаться особенно восприимчивой к новому стилю. И все-таки английская готика развилась скорее из разновидности готического стиля, характерной для Иль-де-Франса (впервые примененной в Англии в 1175 г. французским архитектором, осуществившим перестройку хоров Кентерберийского собора) и цистерциан-ского течения в архитектуре, нежели из англо-норманнской романики. За менее чем пятьдесят лет возник своеобразный вариант готического стиля, известный как раннеанглийский, лучшим образцом которого является собор в Солсбери (илл. 158). При первом же взгляде видно, насколько его внешний вид отличается от французских соборов, и насколько трудно оценивать его с точки зрения стандартов французской готики. Компактность и преобладание вертикалей исчезли; здание выглядит приземистым и растянутым; оно словно расползается во все стороны. Великолепная башня над средокрестием, что служит акцентом всего здания, соединяя воедино его части, была построена веком позже и значительно более высокой, чем предполагалось первоначально. Ввиду не столь большой высоты собора и аркбутаны играют здесь как бы вспомогательную роль. Примечательно, что стена западного фасада превратилась в своего рода ширму, более широкую, чем сама церковь, а четко выраженные горизонтальные полосы, образуемые статуями и орнаментом, делят фасад на несколько уровней, в то время как башни фасада, «съежившись», стали башенками, не привлекающими к себе большого внимания.
Английская готика развивалась в направлении более четко выраженного вертикального начала. Хоры Глостерского собора (илл. 159) являются выдающимся образцом английской поздней готики, называемой также перпендикулярной. Это название ей, безусловно, подходит, поскольку теперь в ней преобладает вертикальная составляющая, явно отсутствующая в ранней английской готике. В этом отношении перпендикулярная готика значительно ближе французским образцам, но вместе с тем в ней столько типично английских особенностей, что за пределами Англии она явно воспринималась бы как нечто неуместное. Повторяющиеся одинаковые небольшие ажурные панели напоминают ряды скульптур на западном фасаде собора в Солсбери. Восточный торец собора имеет в плане прямоугольную форму в отличие от полукруглых апсид более ранних английских церквей; как и в них, обе «половины» стрельчатого свода уходят вверх с очень небольшим наклоном. Нервюры свода приобрели новое дополнительное значение; их стало так много, что они образуют кружевной орнамент, как бы прикрывающий границы пролетов, и в результате весь свод выглядит как нигде не прерывающаяся поверхность. Это ведет к созданию впечатления подчеркнуто целостного внутреннего пространства. Такая декоративная усложненность разделенного на четыре части классического свода характерна также и для возникшего по другую сторону Ла-Манша стиля так называемой пламенеющей готики, но англичане применяли этот архитектурный прием раньше и более широко.
Германия
В Германии готическая архитектура приживалась значительно медленнее, чем в Англии. До середины ХШ в., несмотря на все возрастающее применение элементов ранней готики, преобладала романская традиция, в которой постоянно ощущались отголоски оттоновской эпохи. Начиная примерно со второй четверти ХШ в. высокая готика Иль-де-Франса стала оказывать сильное влияние на архитектуру Рейнланда. Особенно характерна для германской готики церковь, построенная с применением зальной системы (Hallen Kirche), где все нефы имеют одинаковую высоту. Изменчивое, как бы расширяющееся пространство пристроенных в 1361—1372 гг. к церкви Св. Зебальда в Нуремберге (илл. 160) больших зальных хоров обволакивает человека, словно он стоит внутри огромного шатра. Возникает ощущение свободы, связанное с отсутствием зрительной подсказки относительно того, куда должен идти попавший в эту церковь. А совершенно прямые линии примыкающих к устоям пучков колонн, плавно расходящихся, превращаясь в ребра-нервюры, похожи на эхо, снова и снова повторяющее непрерывное движение, ощущаемое в самом пространстве церкви.
Италия
По отношению к европейской готической архитектуре итальянская готика стоит особняком. Если судить по формальным критериям Иль-де-Франса, ее по большей части вообще нельзя назвать таковой. Однако она привела к появлению зданий такой поразительной красоты, что это нельзя объяснить просто развитием местного романского стиля. Поэтому во избежание слишком прямолинейного или узкоспециального подхода при рассмотрении итальянских памятников следует соблюдать особую осторожность в оценках; в противном случае нам не удастся вполне воздать должное проявившемуся в них столь уникальному сочетанию готических элементов и средиземноморской традиции. Основой итальянской концепции готического стиля послужили скорее цистерциан-ские образцы, чем кафедральные соборы, построенные в соответствии с канонами, возникшими в Иль-де-Франсе. Уже в конце ХП в. цистерцианские монастыри возникли как в северной, так и в центральной Италии; строившие их архитекторы неукоснительно придерживались стиля, возникшего при возведении французских монастырей этого ордена.
Цистерцианские церкви, в свою очередь, произвели большое впечатление на францисканцев, членов монашеского ордена, основанного в начале ХШ в. Св. Франциском Ассизским. Эти нищенствующие монахи, идеалами которых служили бедность, простота и смирение, являлись братьями Св. Бернарда Клервоского, и строгая красота цис-терцианской готики должна была казаться им выражающей идеалы, близкие их собственным. На церквах францисканцев с самого начала сказывалось цистерцианское влияние, и они, таким образом, сыграли главную роль в становлении итальянской готики.
Церковь Санта-Кроче во Флоренции вполне может претендовать на право называться прекраснейшей из францисканских церквей (илл. 161). Ее также можно считать шедевром готической архитектуры, несмотря на деревянные потолки вместо крестовых сводов. Вне сомнения, это был намеренный выбор, а не вопрос строительной техники либо экономии средств — этот выбор сделан не только на основании местной практики (деревянные потолки характерны для тосканской романи-ки), но и ввиду возможного желания вернуться к простоте раннехристианских базилик и, таким образом, соединить францисканский идеал бедности с традициями церкви первых веков христианства. Поскольку деревянные потолки не требуют аркбутанов, то их нет. Это позволяет сохранить ничем не нарушаемую протяженность открытых стен.
Но почему в таком случае мы говорим о Санта-Кроче как о готической постройке? Вне всякого сомнения, стрельчатая арка не является единственным признаком готики. Чтобы рассеять сомнения стоит лишь бросить взгляд на интерьер, потому что мы сразу почувствуем, что он создает совершенно не свойственный раннехристианской или романской архитектуре эффект. Стены нефа невесомы, «прозрачны», и эти их свойства удивительно сродни северной готике, а очень большие окна восточной стены, создающие чрезвычайно сильное впечатление, передают идею главенствующей роли света с такою же выразительностью, как хоры, построенные в Сен-Дени аббатом Суге-рием. Конечно же, по эмоциональному воздействию Санта-Кроче принадлежит готике — тогда как по монументальной простоте средств, которыми оно достигается, это церковь францисканская и флорентийская.
Если главной целью архитектора Санта-Кроче было создание впечатляющего интерьера, то Флорентийский собор задумывался как предмет гражданской гордости горожан, главная архитектурная доминанта, возвышающаяся надо всей застройкой (илл. 162). Создание скульптором Арнольдо ди Камбио первоначального проекта относится к 1296 г.; примерно в это время приступили к постройке и церкви Санта-Кроче. При несколько меньших размерах предполагаемого собора по сравнению с нынешними, в целом он был задуман примерно таким же. В том виде, который он имеет сейчас, собор был, однако, сооружен согласно проекту Франческо Таленти, перенявшего эстафету строительства около 1343 г. Главная особенность здания — огромный купол, имеющий в сечении форму восьмиугольника, с полукуполами, которые имеют второстепенный характер — мотив, явно восходящий ко временам поздней Римской империи (см. илл. 86). Купол настолько велик, что главный неф кажется лишь дополнением к нему. Основные характеристики купола были определены в 1367 г. специальным комитетом, куда вошли ведущие художники и скульпторы; само строительство, однако, относится к началу XV в. (см. стр. 225).
Во внешнем виде Флорентийского собора кроме окон и дверных проемов нет ничего готического. Место фланкирующих фасад башен, знакомых нам по северной готике, занимает отдельностоящая кампанила, постройка которой была начата великим итальянским художником Джотто, успевшим закончить лишь первый этаж; после него работу продолжил скульптор Андреа Пизано, сын Николо Пизано (см. стр. 176). Им возведена та часть, где имеются ниши. Остальное достроил к 1360 г. Таленти.
СКУЛЬПТУРА
Франция
Сен-Дени. Хотя в оставленном аббатом Суге-рием описании перестройки Сен-Дени о скульптурном убранстве церкви говорится совсем немного, он, несомненно, придавал ему большое значение. Три портала западного фасада были гораздо больше, чем в романских церквах Нормандии, а украшавшая их резьба— богаче. К сожалению, сейчас они находятся в настолько плачевном состоянии, что по ним едва ли можно судить о взглядах Сугерия на, роль скульптуры в общем контексте его замыслов.
Идеи Сугерия проложили дорогу изумительным по красоте порталам Шартрского собора (илл. 163), работа над которыми началась в 1145 г. На них сказалось влияние Сен-Дени, только они стали еще более роскошными. Возможно, это старейший образец вполне сложившегося стиля ранней готики в области скульптуры. Если сравнить их с романскими порталами (см. илл. 141), нас прежде всего поразит новое чувство упорядоченности, как будто все присутствующие на них фигуры замерли, полные внимания, осознавая ответственность перед окружающим их архитектурным обрамлением. Плотная насыщенность и страстность движения, присущие романской скульптуре, уступили место подчеркнутым ясности и симметрии. Фигуры на перемычках, архивольтах и тимпанах больше не связаны друг с другом, каждая из них выступает как отдельное самодостаточное произведение, так что вся композиция в целом несет в себе гораздо большую смысловую нагрузку, чем существовавшие прежде порталы.
Особенно впечатляет в этом отношении новая трактовка косяков (илл. 164) с рядами колонн, украшенных высокими статуями. Они выполнены не как рельефы, утопленные в каменную поверхность или выступающие относительно нее; фигуры на косяках шартрских порталов являются статуями в полном смысле этого слова, каждая из которых имеет собственную ось; их можно — по крайней мере теоретически — отделить от поддерживающих колонн. Таким образом, мы имеем дело с событием, значение которого поистине революционно,— со времен античности это первый настоящий шаг к возобновлению искусства объемной монументальной скульптуры. Очевидно, что этот шаг мог быть сделан лишь путем «заимствования» для человеческой фигуры строгой цилиндрической формы колонны, в результате чего данные статуи имеют более абстрактный вид по сравнению с работами в стиле романики. Но свойственные им статичность и несоблюдение естественных пропорций просуществуют недолго. Уже сама полноценная объемность придает им большую выразительность по сравнению с какой-либо романской скульптурой, а присущая их лицам мягкая человечность служит отражением глубоко реалистической тенденции в этом виде готического искусства.
Конечно, реализм — термин относительный, и его значение подвержено значительным изменениям в зависимости от обстоятельств. По-видимому, применительно к шартрским порталам он обусловлен реакцией на фантастические и демонические аспекты романского искусства, которая проявилась не только в спокойном, торжественном духе этих скульптур и в увеличении их объемности, но и в рациональной дисциплине той символической программы, что лежит в основе всей композиции. Если глубинные аспекты этой программы может оценить только человек, хорошо знакомый с богословием существовавшей при Шартрской кафедре школы, то ее главные элементы может понять каждый.
Статуи, последовательность которых объединяет все три портала, изображают библейских пророков, царей и цариц. У них двойная задача: подтвердить притязания правителей Франции на роль духовных наследников персонажей Ветхого Завета и подчеркнуть гармонию светской и духовной властей, священства и государя — идеал, настойчиво проповедовавшийся Сугерием. Сам Иисус изображен в центральном тимпане сидящим на троне, как судия и правитель вселенной, окруженный четырьмя символами евангелистов. Под ним собрались апостолы, тогда как архивольты украшены изображениями двадцати четырех апокалиптических старцев. На правом тимпане мы видим три сцены: Рождество Христово, Сретение и Богородицу с младенцем (символизирующую также церковь); на архивольтах над ними помещены аллегорические изображения наук: так земная мудрость приносит присягу верности перед божественной мудростью Иисуса Христа. На левом тимпане мы видим Христа воскресшего (Христа, вознесшегося на небо) в обрамлении зодиакальных символов годового круга и противопоставленных им земных символов: соответствующих каждому из двенадцати месяцев видов работ.
Готический классицизм. Готическая скульптура обогатилась также еще одной, в равной степени важной традицией; это был классицизм долины реки Мёз (Маас), развитие которого от Рейнера из Гюи до Николая из Вердена (см. илл. 143, 148) мы проследили в предыдущей главе. В конце ХП в. это течение, прежде представленное работами по металлу и миниатюрами, начало проявляться и в жанре монументальной каменной скульптуры, трансформируя ее из раннеготической в классическую скульптуру высокой готики. Особенно много общего в работами Николая из Вердена имеет «Успение Богородицы» (илл. 165), тимпан Страсбургского собора. Драпировки и типажи, а также движения и жесты несут на себе тот же отпечаток классицизма, который сразу заставляет вспомнить Клостернойбургский алтарь (см. илл. 148). Делают это произведение готическим, а не романским наполняющие сцену Успения глубоко прочувствованные мягкость и нежность. Мы видим, как общие чувства соединяют присутствующих, как они общаются взглядом и жестом, более красноречивыми чем слова — с таким мы еще не встречались. И эта патетичность тоже имеет давние классические корни — вспомним, что она вошла в христианское искусство Византии во времена второго «золотого века». Однако, насколько теплей и красноречивей она проявилась в Страсбурге, чем в Дафни
Вершиной готического классицизма являются
несколько статуй Реймского собора, из них наиболее
известна группа, изображающая встречу Марии и
Елизаветы (илл. 166, справа). Создание для косяка
портала подобной пары фигур, «разыгрывающих»
сцену встречи и как бы ведущих между собой
разговор, в период ранней готики было бы просто
немыслимо. Уже тот факт, что это стало возможным
теперь, показывает, до какой степени колонна-опора
отступила на задний план. Весьма характерно, что S-
образный изгиб фигуры, возникший в результате
ярко выраженного contrapposto (. . 81),
преобладает и во фронтальном виде и в виде сбоку, а контуры и объемность тела подчеркиваются горизонтальными складками одежды, обтягивающей живот беременной женщины. Взаимоотношения между двумя этими женщинами отличаются теми самыми человеческой теплотой и симпатией, которые мы наблюдали на тимпане из Страсбурга, но классицизм этих статуй более монументален. Они заставляют задаться вопросом, не был ли их автор вдохновлен непосредственно полномасштабными древнеримскими статуями. Одного влияния Николая из Вердена было бы недостаточно, чтобы появились столь уверенно выполненные объемные формы.
Для создания такого большого количества скульптурных работ, как в данном случае, требовалось прибегать к услугам мастеров из многих других областей; в связи с этим среди скульптур Реймского собора можно выделить группы работ, принадлежащих различным стилям. Два таких стиля, имеющие явные отличия от классицизма —сцены встречи Марии и Елизаветы, заметны в группе Благовещения (илл. 166, слева). Статуя Девы Марии выполнена в простой, суровой манере, со строго вертикальным расположением фигуры; ее одеяние отличается прямыми, цилиндрической формы складками, сходящимися под острыми углами. Этот стиль был, вероятно, создан около 1220 г. скульпторами, работавшими над западными порталами собора Нотр-Дам. Фигура архангела, напротив, удивительно грациозна: отметим округлое небольшое лицо, обрамленное вьющимися волосами, выразительную улыбку, сильный S-образный изгиб стройного тела, искусно проработанную ткань просторных одежд. Этому «элегантному стилю», созданному около 1240 г. парижскими мастерами, работавшими для королевского двора, предстояло широкое распространение в последующие десятилетия. Он вскоре станет, по сути дела, эталонным для скульптуры высокой готики.
Германия
Развитие готического стиля в скульптуре за пределами Франции началось лишь к началу ХШ в.— стиль порталов Шартрского собора едва ли нашел существенный отклик за границей — но как только он стал распространяться, этот процесс пошел с удивительной быстротой. Начало ему было положено в Англии, как в свое время это произошло при создании там местного стиля готической архитектуры. К сожалению, в период реформации было уничтожено так много английских готических статуй, что изучение развития скульптуры в Англии существенно затруднено. В Германии развитие готической скульптуры можно проследить с большей легкостью. Начиная с 20-х годов ХШ в., немецкие мастера, получившие подготовку во французских мастерских, где создавалась скульптура для строящихся огромных соборов, перенесли новый стиль на свою родину, хотя германская архитектура того времени была по-прежнему преимущественно романской. И все-таки даже после середины XIII в. в Германии не было таких больших скульптурных циклов, как во Франции. Вследствие этого немецкая готическая скульптура отличалась тенденцией к тому, чтобы не иметь столь тесную связь с архитектурным окружением (наилучшие работы зачастую предназначались для интерьеров, а не для фасадов церквей), а это в свою очередь позволяло достигать большей индивидуальности и свободы в поиске .выразительных средств по сравнению с французскими образцами.
Наумбургский мастер. Все эти качества в полной мере проявились в стиле неизвестного на-умбургского мастера, поистине гениального художника, наиболее известной работой которого является замечательная серия статуй и рельефов, созданных им примерно в 1240—1250 гг. для Наум-бургского собора. Показанное на илл. 167 «Распятие» служит центральным элементом перегородки, отделяющей хоры от общедоступной части здания. Справа и слева мы видим статуи Богородицы и Иоанна Крестителя. Размещенные в глубине увенчанного островерхим щипцом портика, эти три фигуры обрамляют проход, соединяющий главный неф со святилищем хора. Размещая данную скульптурную группу на перегородке (а не над нею, в соответствии со сложившейся практикой), скульптор как бы опустил их на землю — в физическом и эмоциональном отношении. Страдания Христа теперь принадлежат реальному человеку вследствие выразительно переданных веса и объемности его тела. Богородица и Иоанн Креститель как бы молятся вместе с пришедшими в собор людьми, и горе их более красноречиво, чем когда-либо прежде. Пафос этих фигур носит характер героики и драмы, разительно отличаясь от лиризма страс-бургского тимпана или реймской сцены встречи Марии и Елизаветы (см. илл. 165, 166). Если французская классическая скульптура высокой готики навевает воспоминания о работах Фидия, то наумбургский мастер близок по темпераменту Ско-пасу (см. стр. 85).
Пьета (Оплакивание Христа). В готической скульптуре, как мы видим, отразилось желание трактовать традиционные темы христианского искусства с большей эмоциональной выразительностью. К концу XIII в. эта тенденция породила в церковном искусстве новые образы, предназначенные для удовлетворения индивидуальных религиозных потребностей. Для этого явления часто употребляют немецкий термин Andachtsbild, поскольку Германия сыграла ведущую роль в развитии этого вида скульптуры. Его наиболее характерным и широко распространенным сюжетом является «Пьета» (итальянское слово Pieta происходит от латинского pietas, от которого, в частности, произошли слова пиетет и пиетизм, обозначающие почтительность и высокое благочестие), то есть изображение Богородицы, оплакивающей умершего Христа. Такая сцена не упоминается в Евангелии при описании Страстей Христовых. Скорее всего, она была придумана — трудно сказать где и когда— как некая трагическая противоположность такому известному мотиву, как Мадонна с младенцем.
Изображенная на илл. 168 «Пьета» вырезана из дерева, поверхность которого ярко раскрашена, что должно было усиливать производимое впечатление. В этой работе реализм стал средством передачи экспрессии, отраженной на исполненных муки лицах. Покрытые запекшейся кровью раны Христа автор сделал очень большими, тщательно проработанными — почти гротескными. Фигуры похожи на кукол — такие они неподвижные, так тонки и негибки руки и ноги. Очевидно, что художник поставил перед собой задачу создать произведение, способное вызвать такое всеобъемлющее чувство ужаса и жалости, чтобы наши чувства полностью слились со страданиями убитой горем Богородицы.
Стиль интернациональной готики на Севере
В только что рассмотренной «Пьете» скульптор достиг апогея в отрицании физических аспектов человеческой фигуры. Лишь во второй половине XIV в. мы снова наблюдаем возрождение интереса к полновесности и объемности, сочетающееся со стремлением к исследованию материального мира. Вершина этого нового движения приходится примерно на 1400 г., период преобладания интернациональной готики (см. стр. 177—178, 188—193). Виднейшим представителем данного направления является Клаус Шлютер, скульптор родом из Нидерландов, творивший в Дижоне по заказам бургундского герцога. В своей работе «Колодец Моисея (Колодец пророков)», которую мы видим на илл. 169, автор развивает сразу два новых направления в искусстве готической скульптуры. Колодец, имеющий символическое значение, окружен статуями ветхозаветных пророков; кроме того он был когда-то увенчан крестом с распятием. В находящейся справа величественной фигуре Моисея обращают на себя внимание одеяния с обилием складок, прекрасно передающие мягкость материи и обильно драпирующие грузное тело, словно являясь его просторной оболочкой, а также выступающие детали, которые как будто пытаются проникнуть в окружающее пространство, стремясь «захватить» его как можно больше (отметим, например, изогнутый вовне свиток). В фигуре пророка Исайи, которого мы видим обращенным влево, эти аспекты стиля Клауса Шлютера не так ярко выражены. Вместе с тем, нас поражают точность и зрелый реализм каждой детали, от мельчайших подробностей одежды до прекрасно переданной морщинистой кожи. И это впечатление не обманчиво, поскольку мы имеем дело с итогом периода развития искусства скульптуры (творчество Клауса Шлютера— его вершина), который привел к появлению первых со времен античности настоящих портретов, в том числе произведений самого Шлютера. Именно приверженность конкретным деталям материального мира отличает его реализм от реализма XIII в.
Италия
Мы предпочли рассмотреть итальянскую готическую скульптуру в самую последнюю очередь, поскольку в этом виде искусства, как и в готической архитектуре, Италия стоит особняком от остальной Европы. Впервые готическая скульптура появилась в Италии на самом юге, в Апулии и Сицилии, наследственном королевском домене германского императора Фридриха II, приглашавшего к своему двору французских, немецких, а также местных скульпторов и художников. Немногое дошло до нас из работ, выполненных по его заказам, но существует свидетельство, что ему нравился классический стиль, ведущий начало от реймских скульптур Марии и Елизаветы. Этот стиль предлагал тот язык изобразительных средств, что был понятен правителю, считавшему себя наследником римских цезарей.
Пикколо Пизано. Такова была предыстория творчества Никколо Пизано, приехавшего в Тоскану с итальянского юга около 1250 г. (год смерти Фридриха II). Его называли «величайшим и, в некотором смысле, последним мастером средневекового классицизма». В 1260 г. он завершил в баптистерии Пизанского собора мраморную кафедру, покрытую сюжетными рельефами. На одном из них изображена сцена Рождества Христова (илл. 170). Дух классики так силен в этом произведении, что с первого взгляда в нем трудно обнаружить готические элементы. Тем не менее, они присутствуют. Прежде всего это передаваемый людскими фигурами мир чувств, принадлежащий эпохе готики. С другой стороны, насыщенность, с которой заполнено персонажами все пространство, не имеет аналогов в северной готической скульптуре. Помимо Рождества на кафедре изображены Благовещение и сцена с пастухами, получающими в поле благую весть о рождении Христа. Такой подход к рельефу, когда он рассматривается как пустой прямоугольник, который надо заполнить до отказа выступающими из него объемными формами, наводит на мысль, что Никколо Пизано должен был хорошо знать древнеримские саркофаги (см. илл. 108).
Джованни Пизано. Спустя полвека Джованни (1245/1250— после 1314), который был сыном Никколо и являлся не менее одаренным скульптором, также изготовил мраморную кафедру для Пизанского собора. И она тоже украшена сценой Рождества Христова (илл. 171). Обе работы имеют очень много общего — и это не удивительно — но в то же время они противостоят одна другой — резко и красноречиво. Гибкие склоненные фигуры на рельефе Джованни в одеждах с плавно ниспадающими складками не напоминают ни об античности, ни о реймских скульптурах Марии и Елизаветы. Вместе с тем, они отражают влияние элегантного стиля Парижского двора, ставшего в конце XIII в. эталонным в готическом искусстве. С этими переменами пришло и новое понимание рельефа: для Джованни Пизано пространство столь же важно, как и пластическая форма. Теперь мы не видим «плотно пригнанных» друг к другу фигур. Между ними достаточно большое расстояние, чтобы разглядеть пейзаж, на фоне которого изображена данная сцена. Каждой фигуре выделена своя доля окружающего пространства. Если рельеф Никколо Пизано привлекает нас последовательностью округлых выступающих масс, то работа Джованни оказывается состоящей в основном из пустот и теней. Кроме того, Джованни следует в русле того самого, стремящегося к «развоплощению» направления, с которым мы уже встречались к северу от Альп на рубеже ХШ и XIV вв., только не заходит очень уж далеко.
Стиль интернациональной готики на Юге
Примерно к началу XV в., в период преобладания интернациональной готики в Италии, завершился процесс тщательного усвоения французского искусства. Наиболее выдающимся мастером, на творчестве которого сказалось его влияние, стал флорентиец Лоренцо Гиберти (ок. 1381—1455), который в юности был, по-видимому, тесно связан с искусством Франции. Первые сведения о нем относятся к 1401—1402 гг., когда он стал победителем конкурса мастеров, оспаривавших право получить заказ на пару богато украшенных бронзовых дверей для баптистерия Сан-Джованни во Флоренции. (Создание этих дверей, украсивших северный портал здания, заняло свыше двадцати лет.) Каждый участник должен был представить пробный рельеф, вписанный в готический орнамент из четырех листьев (флерон, иначе крестоцвет) и изображающий жертвоприношение Авраама. Рельеф Гиберти (илл. 172) поражает нас прежде всего совершенством исполнения, на котором сказался опыт его работы в качестве ювелира. Блестящая, как шелк, поверхность, богатство красивых, тщательно выполненных деталей помогают понять, почему победу одержал именно он. Правда, может показаться, что композиции недостает драматизма, но именно такие мягкость и лиричность изображения характерны для Гиберти и отражают вкусы того времени. Реализм интернационального стиля не простирается в область чувств. Люди в мягко драпирующих фигуру просторных одеждах сохраняют некоторую придворную элегантность, даже когда разыгрывают сцены насилия.
Как бы ни сказалось на данной работе французское влияние, в одном Гиберти остается истинным итальянцем — в его восхищении античной скульптурой, о чем свидетельствует прекрасный обнаженный торс Исаака. Здесь скульптор возрождает классическую традицию, достигшую наивысшей точки в творчестве Никколо Низано, но затем постепенно прекратившую существование на протяжении XIV в. Однако Гиберти выступает и как наследник Джованни Пизано. В рельефе «Рождество Христово», выполненном Джованни (см. илл. 171), мы уже отмечали как смелое новшество ту выразительность, которую он придал окружающему фигуры пространству. В пробном рельефе эта тенденция находит новое развития, что позволяет найти для пониженных участков рельефа куда более естественное объяснение. Впервые со времен античности скульптор заставляет нас воспринимать фон рельефа не просто как гладкую поверхность, а как пустое пространство, из которого навстречу зрителю возникают скульптурные формы, так что ангел в верхнем правом углу кажется нам парящим в воздухе. Это свойственное картинам, а не скульптуре качество связывает работу Гиберти с живописью в стиле интернациональной готики, где мы встречаемся со сходным подходом к изображению глубины пространства и воздушной среды (см. стр. 177—178). Он сам не был революционером, но подготовил почву для того великого переворота, которому предстояло произойти во втором десятилетии XV в. во флорентийском искусстве и который мы называем Ранним Возрождением.
ЖИВОПИСЬ
Витражи
Если возникновение готического стиля в архитектуре и скульптуре было в Сен-Дени и Шартре эффектным и быстрым, то готическая живопись сперва развивалась довольно медленно. Новый архитектурный стиль, введенный аббатом Сугерием, почти сразу породил новую концепцию монументальной скульптуры, но не предъявил никаких требований относительно радикальных перемен в живописи. Конечно, описывая перестройку церкви Сен-Дени, Сугерий особенно выделяет волшебный эффект, создаваемый витражами, через которые льется в храм «всепроникающий свет». Таким образом, витражи с самого начала являлись неотъемлемым элементом готической архитектуры. И все-таки техника создания витражей уже достигла известного совершенства во времена романики. Те «многие мастера из различных мест», которых Сугерий собрал для изготовления витражей в Сен-Дени, возможно, стояли перед лицом более сложной задачи, и им предстоял гораздо больший чем прежде объем работ, но стиль выполненных витражей так и остался романским.
В течение следующих пятидесяти лет, когда для возведения готических построек все шире применялась каркасная система, а окна верхнего ряда становились все больше и больше, витражи заняли место книжной миниатюры в качестве главного жанра живописи. Создатели витражей были тесно связаны с мастерскими, обеспечивающими строительство новых огромных соборов, и поэтому постепенно стали испытывать все возрастающее влияние со стороны скульпторов, изготовлявших статуи для украшения этих построек: в силу этого, около 1200 г. они пришли к созданию собственного, несомненно готического стиля.
Замечательный витраж в Буржском соборе, изображающий пророка Иоиля (илл. 173) — один из серии витражей с ветхозаветными пророками — находится в близком родстве с реймскими статуями Марии и Елизаветы. Свое происхождение та и другая работа ведут от классического стиля Николая из Вердена (см. илл. 148), только Иоиль больше похож на проекцию статуи на прозрачную ширму-экран, чем на увеличенную фигуру с эмалей Клостернойбургского алтаря. Витраж состоит из сотен кусочков цветного стекла, соединенных свинцовыми полосами. Максимальный размер этих кусочков был жестко ограничен примитивностью средневековых способов стекольного производства, так что создававший витраж мастер не мог просто «писать по стеклу». Скорей он создавал свои работы из стекла, используя имеющие разную форму фрагменты, которые он обрезал, чтобы подогнать под нужные очертания; так составляют мозаику или кусочки разрезанной картинки в известной игре-головоломке. Только такие детали, как глаза, волосы и складки одежды, действительно наносились черной либо серой краской или, лучше сказать, прочерчивались на поверхности стекла. Такие приемы работы привели к созданию абстрактно-орнаментального стиля, имеющего тенденцию сопротивляться любой попытке передать трехмерность пространства. Но под руками большого мастера из неразберихи и путаницы свинцовых полос возникают такие величественные и монументальные фигуры, как пророк Иоиль.
Помимо трудностей, связанных с особенностями материала, из которых они создавали свои произведения, мастера, заполнявшие витражами окна огромных готических соборов, сталкивались также с поистине гигантским объемом работ. От романского художника никогда не требовалось выполнять витражи, играющие столь важную роль в архитектурном облике здания или такого большого размера — витраж с Иоилем имеет высоту 4,27 м. Такая задача требовала аккуратной и методичной разметки, беспрецидентной для традиций средневековой живописи. В то время сходными приемами пользовались только архитекторы и каменщики; именно их навыки и позаимствовали витражисты для создания «чертежей» своих композиций. Как мы помним из описания хоров в Сен-Дени (см. стр. 158—160), готическая архитектура, создавая гармонию чисел, пользуется системой геометрических соотношений. Те же правила могут быть использованы и при «проектировании» витражей, через которые сияет Божественный Свет.
Первую половину ХШ в. можно назвать периодом наивысшего расцвета искусства витража. Затем по мере уменьшения строительной активности снизилась и потребность в витражах, а книжная миниатюра постепенно вернула себе прежнее главенствующее положение.
Иллюстрированные рукописные книги
Если посмотреть на показанную на илл. 174 страницу из Псалтири, написанной около 1260 г. для французского короля Людовика IX (известного как Людовик Святой), то мы увидим совершенно очевидное изменение стиля. Изображенная сцена служит иллюстрацией к Библии (Первая книга Царств, глава П, стих 2). На ней Наас Аммонитянин угрожает израильтянам, осажденным в Иависе. Обратим прежде всего внимание на тщательно выдержанную симметричность обрамления: вытянутые, украшенные стройным орнаментом прямоугольные полосы, так напоминающие те, что мы видели на витраже с пророком Иоилем, а также архитектурные декорации, удивительно похожие на отделяющую хоры перегородку из Наумбурга (см. илл. 167). На этом подчеркнуто двухмерном фоне выделяются фигуры, рельефность которых достигается плавной и искусной моделировкой Но их сходство со скульптурой исчезает на линии внешнего контура— тяжелой и темной, скорее похожей на свинцовую полосу с витража. Сами фигуры обладают всеми отличительными особенностями «элегантного стиля» созданного двадцатью годами ранее скульпторами королевского двора: это полные грации жесты, живые позы, улыбающиеся лица, изящно вьющиеся пряди волос. От экспрессивной энергичности романского стиля не осталось и следа (см. илл. 145). Миниатюра служит примером того рафинированного и утонченного вкуса, который сделал придворное искусство Парижа предметом подражания во всей Европе.
Италия
В конце XIII в. итальянская живопись испытала настоящий взрыв творческой активности; он был столь же эффектен и имел такое же долговременное влияние на будущее, как и строительство французских готических соборов. Если попытаться выяснить, чем он был обусловлен, мы придем к выводу, что он вырос на почве тех самых «старомодных» взглядов, которые нам встречались в архитектуре и скульптуре итальянской готики. Хотя в средневековой Италии сильное влияние искусства Севера сказывалось еще со времен Ка-ролингов, она всегда сохраняла тесную связь с византийской цивилизацией. Поэтому иконопись, мозаика и настенная живопись — то есть виды изобразительного искусства, которые так никогда и не укоренились к северу от Альп,— продолжали жить на итальянской почве. И в то же самое время, когда витраж стал преобладающим в изобразительном искусстве Франции, новая волна византийского влияния захлестнула в итальянской живописи не слишком жизнеспособные элементы романики. Этот неовизантийский стиль (или «греческая манера письма», как назвали его итальянцы) преобладал до конца XVIII в., так что итальянские художники имели возможность проникнуться византийскими традициями гораздо глубже, чем когда-либо. Вспомним, что в это же время итальянские архитекторы и скульпторы шли совсем по другому пути. Не затронутые греческим влиянием, они продолжали осваивать готический стиль, приспосабливая его к местным условиям. Когда же к 1300 г. готика проникла и в произведения живописи, то взаимодействие этого стиля с неовизантийским породило новый, обладающий поистине революционной новизной.
Дуччо. Среди живописцев, работавших в греческой манере, наиболее выдающимся является Дуччо из Сиены (ок. 1255 — до 1319)— Его огромный алтарь для Сиенского собора, называемый «Маэста» (то есть «Величие»), украшают небольшие панели с изображенными на них сценами из жизни Богородицы и Христа. Эти панно— наиболее зрелая работа Дуччо. На одном из них мы видим «Вход Господень в Иерусалим» (илл. 175). В этом произведении взаимное обогащение готических и византийских элементов дало жизнь открытию, имевшему основополагающее значение для дальнейшего развития живописи— новому типу пространства. Холодная греческая манера словно оттаяла под кистью Дуччо. Негнущиеся ткани одежды со складками, сходящимися и расходящимися под разными углами, уступили место волнообразной мягкости; абстрактная штриховка золотыми линиями сведена к минимуму; тела, лица и руки оживают, трехмерное пространство наполняется их едва уловимыми движениями. Очевидно, что мы опять имеем дело с наследием греко-римского иллюзионизма— одной из составных частей византийской традиции — до сего времени тихо дремавшей. Мы обнаружим здесь и полузаметные черты готики. Она ощущается в том, как плавно ниспадают складки одежд, в привлекательной естественности фигур людей и в заботливых взглядах, которыми они обмениваются. Должно быть, главным источником такого готического влияния явился Джованни Пи-зано (см. стр. 176), работавший в Сиене с 1285 по 1295 г. в качестве скульптора и архитектора, отвечающего за строительство фасада собора.
Во «Входе Господнем в Иерусалим» есть то, чего мы никогда прежде не видели в живописи: на ней люди населяют пространство, образованное архитектурными формами. Художники северной готики в своих работах тоже пытались изобразить архитектурные сооружения, но при этом делали их совершенно плоскими (как в Псалтири Людовика Святого, см. илл. 174). Итальянские художники времен Дучче, хорошо освоившие греческую манеру, восприняли достаточно много приемов греко-римского иллюзионизма, чтобы с их помощью передавать вид сооружений, не лишая их трехмерности. На панно «Вход Господень в Иерусалим» функция архитектуры состоит в создании пространства. Движение вглубь по диагонали передается не фигурами, имеющими везде один и тот же масштаб, а стенами по краям ведущей в город дороги, воротами, как бы обрамляющими приветствующую Христа толпу, постройками заднего плана. Несмотря на недостатки выстраиваемой Дуччо перспективы, архитектурный пейзаж обладает способностью быть местом действия, окружать его, и потому более логичен, чем подобные архитектурные композиции в античном искусстве (см. . 98).
Джотто. После Дуччо перейдя к Джотто, мы встретимся с дарованием гораздо более смелым и впечатляющим. Будучи лет на десять—пятнадцать моложе, Джотто уже изначально не столь тесно связан с греческой манерой; кроме того, он по характеру своего призвания склонялся скорее к настенным росписям, чем к небольшим панно. Лучше всего сохранившиеся и наиболее характерные для его творчества росписи находятся в Падуе, в церкви Капелла-дель-Арена и выполнены в 1305— 1306 гг. Они содержат в основном сцены из жизни Христа, размещенные в три яруса, и план их расположения тщательно продуман (илл. 176). Джотто использует многие из тех сюжетов, которые размещены на обратной стороне алтарного образа «Маэста» кисти Дуччо, в том числе и «Вход Господень в Иерусалим» (илл. 177). Уже при первом взгляде на работу Джотто мы понимаем, что имеем дело с поистине революционными переменами в живописи. Вызывает удивление, как шедевр такой впечатляющей силы мог быть создан современником Дуччо. Конечно, оба варианта имеют много общих элементов, поскольку в конечном счете восходят к одному и тому же византийскому источнику. Но там, где Дуччо подробностями сюжета и новым пониманием пространства обогатил традиционную схему, Джотто подвергает ее решительному упрощению. Действие разворачивается параллельно плоскости картины. Пейзаж, постройки, фигуры людей занимают не больше места, чем это необходимо. Уже сама скромная техника фресковой живописи (акварельная краска наносится на свежеоштукатуренную стену) с ее ограниченным диапазоном тонов и приглушенностью красок подчеркивает простоту искусства Джотто, так не похожую на сияющие подобно драгоценным камням краски картины Дуччо, написанной яичной темперой по золотому грунту. И тем не менее, работа Джотто производит гораздо более сильное впечатление: она настолько приближает нас к месту действия, что мы становимся скорей его участниками, чем сторонними наблюдателями.
Как удается художнику добиться такого необычайного эффекта? Во-первых, основное действие фрески происходит на переднем плане, а во-вторых — и это особенно важно — она размещена так, что нижняя ее часть находится на уровне глаз зрителя. Поэтому мы можем представить себя стоящими на той же изображающей поверхность земли плоскости, что и фигуры на фреске, несмотря на то, что видим их снизу, тогда как Дуччо предлагает нам наблюдать разворачивающееся действие сверху, с высоты птичьего полета. Последствия такого выбора положения зрителя относительно картины эпохальны. В данном случае этот выбор предполагает осознание взаимодействия между картиной и зрителем через разделяющее их пространство, и Джотто может считаться первым, кому удалось на практике его осуществить. Дуччо, конечно, даже не задумывался над сопряженностью пространства его картины с пространством зрителя; отсюда у нас возникает чувство, что мы как бы проплываем над местом действия, а не становимся его участниками. Даже иллюзионизм античной живописи в наиболее ярких своих проявлениях давал лишь кажущуюся связь двух этих пространств (см. илл. 98), а Джотто словно оставляет для нас место и сообщает выписанным формам такую трехмерную реальность, что они кажутся вещественными и осязаемыми, как статуи.
У Джотто пространственность создается фигурами, а не архитектурным пейзажем. Поэтому его пространство более ограничено, чем то, которое мы наблюдаем у Дуччо; оно простирается не далее совокупности перекрывающихся объемов фигур, но в этих пределах обладает гораздо большей убедительностью. Для современников такая материальность в живописи должна была казаться почти чудом. Именно эта его сторона заставляла их превозносить Джотто как равного замечательнейшим художникам прошлого, или даже более великого, ибо переданные им формы выглядели столь жизненно, что могли быть приняты за саму реальность. Достаточно красноречив тот факт, что о художнике рассказывают много историй, в которых его имя связывается с утверждениями, будто живопись выше скульптуры— и в них не пустая похвальба, поскольку Джотто действительно положил начало явлению западного искусства, которое можно назвать «эрой живописи». Символической поворотной точкой можно считать 1334 г., когда он возглавил мастерскую при Флорентийском соборе — прежде такой почетной и ответственной должности удостаивались только архитекторы и скульпторы.
И все-таки целью Джотто было не просто перенести в живопись традиции готической скульптуры. Создав радикально новый тип пространства картины, он углубил свое понимание ее плоскости. Когда мы рассматриваем работу Дуччо либо одного из античных или средневековых предшественников, мы делаем это, как правило, с остановками. Наш взгляд медленно переходит от одной детали к другой, пока мы не осмотрим ее всю. Джотто, напротив, приглашает нас окинуть произведение одним взглядом. Его крупные простые формы, компактная группировка фигур, ограниченная глубина пространства картины— вот средства, помогающие придать произведениям этого автора такую внутреннюю целостность, с которой мы еще не встречались. Отметим, как эффектен контраст множества вертикалей в группе апостолов слева и поднимающейся вверх наклонной линией, образуемой приветствующей Христа толпой справа, и как он сам, находясь в центре, перекрывает разрыв между двумя группами. Чем дольше мы изучаем эту композицию, тем лучше понимаем ее удивительную ясность и уравновешенность.
Искусство Джотто так смело и оригинально, что выявить его истоки куда сложней, чем у стиля Дуччо. Помимо того, что он ознакомился с греческой манерой письма во Флоренции, молодой Джотто, по-видимому, был знаком с более монументальным, хотя и грубоватым неовизантийским стилем, в котором работали художники Рима, отчасти находившиеся под влиянием произведений искусства, украшавших стены древнеримских и раннехристианских построек. Существует вероятность, что он имел также возможность ознакомиться с еще более древними памятниками подобного рода. Классическая скульптура также произвела на него большое впечатление. Однако значительно более существенным было влияние обоих Пизано — Никколо и, в особенности, Джованни — положивших начало итальянской готической скульптуре. Именно они стали первыми и основными посредниками, связавшими Джотто с искусством северной готики. Последняя остается главным из элементов, на основе которых сложился стиль Джотто. Без знакомства (прямого или опосредованного) с работами в северном стиле, такими как та, что показана на илл. 165, его творчество никогда не смогло бы достичь такой могучей силы эмоционального воздействия.
Мартини. В истории искусства найдется мало художников, которые смогли бы сравниться с фигурой Джотто — поистине великого реформатора, но сам по себе его успех помешал становлению нового поколения флорентийских художников: оно дало скорей последователей, чем новых лидеров. Их современники из Сиены были более удачливы в этом отношении, поскольку Дуччо не оказал на них такого чрезмерного влияния. Вследствие этого именно они, а не флорентийцы предприняли следующий решительный шаг в развитии итальянской готической живописи. Симоне Мартини (ок. 1284— 1344 г.) по праву может быть назван наиболее выдающимся из последователей Дуччо. Последние годы своей жизни он провел в Авиньоне, городе на юге Франции, месте пребывания пап во время их «авиньонского пленения», продлившегося почти весь XIV в. Его работа «Путь на Голгофу», первоначально служившая частью небольшого алтарного образа, была, вероятно, выполнена там около 1340 г. По яркости сверкающих красок и, в особенности, по заполненному архитектурными сооружениями фону это небольшое, но насыщенное панно напоминает искусство Дуччо (см. илл. 175). Однако страстность фигур, их полные экспрессии жесты, выражения лиц — выдают влияние Джотто. Симоне Мартини не слишком волнует ясность пространства, но он проявляет себя острым наблюдателем. Исключительное разнообразие костюмов и типажей, богатство поз создают чувство приземленной реальности, совершенно отличающееся как от лиризма Дуччо, так и от величественности Джотто.
Лоренцетти. Близость к повседневной жизни проявляется также в работах братьев Пьетро и Амброджо Лоренцетти (оба умерли в 1348?), но уже при большей монументальности и в соединении с особенно острым интересом к проблеме пространства. Наиболее смелым экспериментом в этой области является принадлежащий кисти Пьетро и выполненный в 1342 г. триптих «Рождество Богородицы» (илл. 179); изображенные на нем архитектурные детали сопряжены с реальными очертаниями рамы, образуют единую систему и смотрятся как единое целое. Более того, помещение со сводчатым потолком, где произошли роды, занимает сразу два панно: оно кажется лишь отчасти закрытым колонной, отделяющей центр от правой створки. На левой створке мы видим переднюю, что ведет в обширное, но едва видимое помещение, в котором угадывается интерьер готической церкви.
Достижение Пьетро Лоренцетти состоит в том,
что он довел до конечного результата идею, ко
торую начал развивать тремя десятилетиями раньше
Дуччо; только теперь удалось сделать так, что
поверхность картины стала прозрачным окном,
через которое (а не на котором) мы видим такое же
пространство, как то, что нас окружает. И все же
одного Дуччо недостаточно, чтобы объяснить столь
поразительный успех Пьетро. Он стал возможен при
комбинировании «архитектурного» и
«скульптурного» пространств, взятых у Дуччо и Джотто.
Тот же прием позволил Амброджо Лоренцетти развернуть на выполненных в 1338—1340 гг. фресках в сиенской ратуше панораму целого города (илл. 180). И нас опять впечатляет дистанция, разделяющая точно переданный «портрет» Сиены от Иерусалима Дуччо (см. илл. 175). Фреска Амброджо является частью искусно выполненной аллегорической серии росписей, показывающих разницу между хорошим и дурным управлением. Поэтому для того, чтобы показать город-республику с хорошо налаженной жизнью, художник должен был заполнить улицы и дома соответствующей деятельностью жителей. Веселая, занятая делом толпа соотносит архитектурный пейзаж с масштабом человеческой фигуры и придает ему удивительную реальность.
Эпидемия чумы («черная смерть»). Первые четыре десятилетия XIV в. отмечены в истории Флоренции и Сиены как периоды политической стабильности, успехов в экономике и великих достижений в области искусства. Однако в сороковых годах на них одна за другой обрушились волны несчастий, эхо которых ощущалось многие годы: купцов и банки постигали банкротства по причине долгов, правительства смещались в результате переворотов, неурожаи повторялись из года в год, а в 1348 г. разразилась эпидемия бубонной чумы, распространившаяся по всей Европе и названная «черной смертью»; во время нее умерло свыше половины городского населения. Многие сочли эти события знаками божьего гнева, предупреждением грешному человечеству, повелением оставить земные удовольствия; в других под страхом внезапной смерти еще сильней возросло желание наслаждаться жизнью, пока еще есть время. Столкновение двух этих позиций нашло отражение в живописи и привело к появлению темы «Триумф смерти».
Траини. Наиболее впечатляющей разработкой этого сюжета отличается огромная фреска крытого кладбища Кампосанто неподалеку от Пизанского собора, приписываемая местному мастеру Франческо Траини (по документам ок. 1321—1363). На ее детали, показанной на илл. 181, мы видим элегантно одетых мужчин и женщин верхом на лошадях, неожиданно повстречавших на своем пути три разлагающихся трупа в открытых гробах. Даже животные устрашены видом и запахом гниющей плоти. И только отшельник, отвергнувший все земные радости, спокойно выводит из этой сцены мораль. Но примут ли его мораль живущие или попросту отвернутся от страшного зрелища, еще более утвердившись в своем стремлении следовать путем наслаждений? Любопытно, что собственные симпатии художника, по-видимому, разделились. Его стиль далек от чрезмерной духовности, он явно «от мира сего» и напоминает реализм Ам-броджо Лоренцетти, хотя здесь формы строже и экспрессивней.
В работе Траини сильна связь с великими мастерами второй четверти XIV в. Тосканские художники, достигшие зрелости после чумы и творившие около середины XIV в., не могут сравниться с мастерами более раннего периода, чьи работы мы только что рассмотрели. По сравнению с творчеством предшественников их стиль кажется сухим и формалистичным, хотя в лучших произведениях им удавалось с большой силой передать мрачный дух эпохи.
К северу от Альп
Теперь мы вынуждены опять обратиться к готической живописи, развивавшейся к северу от Альп. То, что происходило там во второй половине XIV в., в значительной мере определялось влиянием великих итальянских художников. К середине XTV в. итальянское влияние становится в живописи северной готики сильным, как никогда. Это влияние могло исходить от итальянских художников, работавших за пределами своей страны; примером может служить Симоне Мартини (см. стр. 184). Другим проводником итальянского влияния была Прага, которая стала в 1347 г. столицей императора Карла IV и быстро превратилась в международный культурный центр, уступавший лишь одному Парижу. Выполненная около 1360 г. неизвестным богемским (чешским) художником работа «Успение Богородицы» вновь вызывает в памяти достижения великих сиенских художников, хотя о них данный мастер мог знать только из вторых или третьих рук. Богатство его красок напоминает Симоне Мартини (см. илл. 178), а тщательно выписанные архитектурные детали интерьера явно ведут происхождение от таких работ, как «Рождество Богородицы» Пьетро Лоренцетти (см. илл. 179), хотя ему недостает «просторности» итальянских работ. К чертам итальянского стиля относятся, кроме того, исполненные страстей лица, а также наложение фигур, усиливающее трехмерность композиции, но оставляющее открытым нескромный вопрос относительно того, что делать с нимбами. И все же картина богемского мастера не просто подражание итальянской живописи; жесты и лица передают такую силу чувств, которая является лучшим в наследии северной готики. В этом смысле панно больше сродни «Успению Богородицы» из Страсбургского собора (см. илл. 165), нежели какому-либо итальянскому произведению.
Интернациональный стиль
К началу XV в. соединение северной и итальянской традиций привело к появлению единого стиля, преобладающего во всей Западной Европе. Этот стиль, который мы называем интернациональным, не ограничен рамками живописи — мы использовали тот же термин и для скульптуры данного периода — но художники, разумеется, сыграли главную роль в его становлении.
Бродерлам. Одним из виднейших представителей интернационального стиля был Мельхиор Бродерлам (до ок. 1387—1409), фламандец, работавший в Дижоне, при дворе бургундского герцога. На илл. 183 представлены две створки алтаря, созданного им в 1394—1399 гг. На каждой из них изображено по две сцены. В результате храм «Сретения» и пейзаж «Бегство в Египет» резко противопоставлены, хотя художник и предпринимаем вялую попытку убедить нас, что пейзаж простирается вокруг здания. По сравнению с работами Пьетро Лоренцетти и Симоне Мартини пространство, изображенное Бродерламом, во многих отношениях поражает своей наивностью — постройки выглядят похожими на кукольный домик, а детали пейзажа не соответствуют масштабу людских фигур. И все же оно дает гораздо большее ощущение глубины, чем это было в любой из предшествовавших работ северной готики. Причина кроется в искусной моделировке форм. Они темны и мягко округлены, бархатные тени создают чувство свето-воздушной среды, более чем компенсирующее любые просчеты по части масштаба и перспективы. Та же мягкая живость — отличительный признак стиля интернациональной готики — присутствует в просторных, свободно ниспадающих одеждах со струящимся узором изогнутых линий складок и напоминает о творчестве Шлютера и Гиберти
Эти створки служат примером еще одной особенности интернационального стиля— «реализма деталей», того самого реализма, с которым мы впервые повстречались в готической скульптуре (см. илл. 175). Мы обнаруживаем его в старательно переданных цветах и листьях, в восхитительном ослике (нарисованном явно с натуры) и в простоватом Иосифе, который выглядит и ведет себя как обычный крестьянин и тем оттеняет утонченную, аристократичную красоту Богородицы. Такая концентрация внимания на тщательно выписанных деталях делает работу Бродерлама похожей скорее на увеличенную миниатюру, хотя створки имеют высоту 136,5 .
Лимбургские братья (братья Лимбург).
Тот факт, что к северу от Альп книжная иллюстрация оставалась ведущей формой живописи несмотря на возросшее значение живописных панно, может быть подтвержден миниатюрами из книги «Les Tres Riches Heures du Due de Berry» («Роскошный часослов герцога Беррийского»). Она была написана для брата французского короля, человека с не слишком хорошим характером, но щедрого покровителя искусства. Миниатюры его действительно роскошно иллюстрированного часослова относятся ко времени наивысшего расцвета интернационального стиля. Они выполнены Полем из Лимбурга и его двумя братьями — фламандцами, переселившимися во Францию в XV в., как Шлютер и Бродерлам. Должно быть, они также посетили Италию, так как в их работах имеются многочисленные мотивы и целые композиции, заимствованные у великих тосканских мастеров.
Наиболее примечательны страницы Часослова, отведенные для календаря. На них с большим искусством показана жизнь людей и природы в каждый из месяцев. Такие циклы в течение долгого времени были очень характерны для средневекового искусства; первоначально они состояли из двенадцати изображенных отдельно фигур людей, каждый из которых занимался соответствующей тому или иному месяцу сезонной работой. Однако братья на основе этих элементов создали целую панораму сельской жизни.
На илл. 184 показан сев озимых в октябре. Ландшафт и замок гармонично соединяются в глубоком, полном воздуха пространстве. День ясный, солнечный, и мы видим на пашне тени от людских фигур— впервые со времен античности. Нас восхищает богатство реалистически переданных деталей, таких как пугало на среднем плане или следы сеятеля на свежевспаханном поле. Сеятель особенно примечателен. Его поношенная одежда и грустный вид сами говорят за себя. Он задуман как в высшей степени выразительный образ, возбуждающий сочувствие к горестному уделу крестьянина, противопоставленному жизни аристократии, символом которой служит великолепный замок на другом берегу реки. (Этот замок представляет собой Лувр времен готики, наиболее роскошную постройку той эпохи; см. стр. 283—284.)
Джентиле да Фабриано. От панно Бродерлама остается всего шаг до алтаря в стиле интернациональной готики работы великого итальянского художника Джентиле да Фабриано (ок. 1370—1427), на котором мы видим трех волхвов и сопровождающих их людей (илл. 185). Одеяния персонажей столь же красочны и свободны, а складки ткани мягко закруглены, как это было принято в северном стиле. Спускающаяся с далеких холмов праздничная и веселая процессия едва не захлестывает размещенное художником в левом углу святое семейство. Восхищают хорошо видные нам животные, в число которых входят и не встречавшиеся прежде: верблюды, обезьяны, а также леопарды, применявшиеся на охоте. (Этих зверей охотно приобретали представители высшей знати, многие из которых содержали частные зоопарки.) Восточный характер окружения волхвов усиливается монголоидной внешностью некоторых спутников. Но, конечно, не по этим экзотическим деталям видно, что это работа итальянского мастера, а по тем ощутимой весомости материальных объектов и пониманию их физических свойств, что отличают ее от произведений художников, принадлежавших к северной разновидности интернационального стиля.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ВОЗРОЖДЕНИЕ, МАНЬЕРИЗМ И БАРОККО
Рассматривая переходный период от античности к средневековью, мы говорили о том, что переломным моментом, обозначившим «водораздел» между этими двумя эпохами, явилось возникновение ислама. Однако не было столь же значительного события, которое отделяло бы Средние века от Возрождения. Конечно, на долю XV и XVI веков выпали глубокий духовный кризис Реформации и Контрреформации, падение Константинополя и завоевание турками юго-восточной Европы, заокеанские экспедиции, открывшие страны Нового Света, Африки и Азии, что повлекло за собой соперничество двух крупнейших колониальных держав — Испании и Англии. Но ни одно из этих важных событий не положило начало новой эпохе. В то время, когда они происходили, Возрождение уже получило полное развитие. Даже если не обращать внимания на тех немногочисленных ученых, которые упорно отрицают сам факт существования эпохи Возрождения, мы, тем не менее, сталкиваемся с огромным разнообразием взглядов на это явление. По-видимому, большинство исследователей сходятся только в одном — Возрождение началось тогда, когда люди осознали, что они уже не живут в средневековье.
Из этого утверждения следует неоспоримый факт — впервые в истории новая эпоха воспринималась особенно и ей было дано название. Средневековый человек не думал о том, что он живет в период, отличающийся от античности; прошлое выражалось для него простыми аббревиатурами «до н. э.» и «н. э.»: «эра закона» (т. е. Ветхого завета) и «эра Господней милости» (т. е. после Рождества Христова). С его точки зрения, история делается не на земле, а на небесах. В эпоху Возрождения, напротив, прошлое разделялось не в соответствии с божественным намерением спасения души, а на основании достижений людей. В античности теперь видели эпоху, когда цивилизация достигла кульминационной точки развития всех своих творческих сил, эпоху, конец которой был внезапно положен вторжением варваров, разрушивших Римскую империю. В течение последовавшего за этим тысячелетнего периода «тьмы» («невежества») было создано немногое, но в конце концов, на смену этой «промежуточной эпохе», или средневековью, пришло возрождение всех тех искусств и наук, которые процветали во времена античности. А потому новую эпоху вполне можно было назвать «возрождением» или «ренессансом» (итал. rinascita от лат. renascere — «возрождаться»; франц. renaissance).
Подобный революционный взгляд на историю еще в 1330-х гг. выразил в своих трудах итальянский поэт Франческо Петрарка. Он был первым из великих, кто сформулировал основную идею эпохи Возрождения. Петрарка считал, что в новую эпоху должно произойти «возрождение классики», а именно: восстановление латинского и греческого языков в их былой чистоте и обращение к подлинным текстам античных авторов. В последующие два столетия эта идея возрождения античности охватила почти весь культурный пласт, включая изобразительное искусство, которому было суждено сыграть чрезвычайно важную роль в становлении эпохи Возрождения. О причинах этого мы будем говорить позднее.
Тот факт, что идея новой исторической ориентации принадлежит одному человеку, очень ярко характеризует новую эпоху. Индивидуализм — новый подход к осознанию своей личности— позволил Петрарке заявить, вопреки устоявшемуся мнению, что «эпоха веры» была на самом деле периодом «тьмы» («невежества»), в то время как «отсталые язычники» времен античности по просвещенности не имели себе равных в истории. Подобное стремление подвергать сомнению укоренившиеся убеждения и обычаи стало характерной чертой эпохи Возрождения. Гуманизм, по мнению Петрарки, означает убежденность в том, что так называемые «гуманитарные науки» более важны, нежели изучение Священного писания; т. е. изучение языков, литературы, истории и философии должно происходить не в религиозных, а в светских рамках.
Не нужно полагать, что Петрарка и его преемники хотели в полной мере возродить античность. Существование «тысячелетия тьмы» («невежества»), разделявшего их и древних, заставляло признать (в отличие от средневековых классиков), что греко-римский мир безвозвратно ушел в прошлое. Его былую славу можно воскресить только мысленно, созерцая его с ностальгическим восхищением через преграду «веков тьмы» («невежества»), открывая для себя величие достижений древних в искусстве и философии и решаясь бросить им вызов в духовной сфере.
Сколь ни велико было пристрастие гуманистов к античной философии, они не стали неоязычниками, а пошли на примирение наследия древних философов с идеями христианства. В искусстве эпохи Возрождения задача мастеров заключалась не в копировании античных образцов, а в том, чтобы создать произведения равные им и даже, по возможности, их превосходящие. На деле это означало, что авторитет подобных образцов был далеко не безграничным. Писатели стремились к точности выражения и красноречию Цицерона, но не обязательно на латинском языке. Архитекторы продолжали строить церкви для отправления христианских ритуалов, не копируя при этом языческие храмы; они проектировали свои сооружения «в духе античности», используя архитектурные приемы, которые заимствовали в процессе изучения памятников античной архитектуры.
Художники эпохи Возрождения оказались в положении ученика чародея, когда тот, пытаясь подражать учителю, вдруг проявил невиданную магическую силу. Но поскольку их учитель умер, художникам приходилось самим справляться с этой неведомой им силой, и, в конце концов, они становились мастерами. Этот процесс вынужденного роста сопровождался кризисами и внутренним напряжением. Наверное, жить в эпоху Возрождения было не очень удобно, но зато захватывающе интересно. Теперь мы видим, что это внутреннее напряжение вызвало поток невиданной творческой энергии. Как ни парадоксально, но желание возвратиться к классическому прошлому, основанное на неприятии средневековья, принесло новой эпохе не возрождение античности, а рождение современной культуры.
|



