Битва с драконом
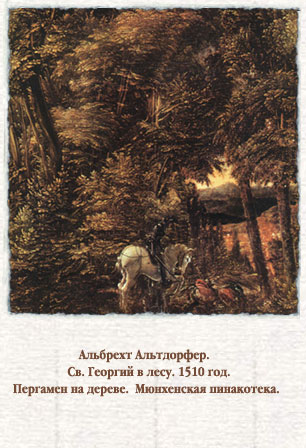 Согласно
преданию, Лидда или Лудд - родина святого
Георгия. Случилось так, что именно из этого селения я увидел
в первый раз пестрые поля Палестины, похожие на райские поля. В
сущности, Лидда - военный лагерь и потому вполне подходит святому
Георгию. Вся эта красивая пустынная земля звенит его именем, как
медный или бронзовый щит. Согласно
преданию, Лидда или Лудд - родина святого
Георгия. Случилось так, что именно из этого селения я увидел
в первый раз пестрые поля Палестины, похожие на райские поля. В
сущности, Лидда - военный лагерь и потому вполне подходит святому
Георгию. Вся эта красивая пустынная земля звенит его именем, как
медный или бронзовый щит.
Не одни христиане славят его - в гостеприимстве своей фантазии,
в простодушном пылу подражательства мусульмане переварили добрую
часть христианских преданий и приняли св. Георгия в сонм своих героев.
В этих самых песках, говорят, Ричард Львиное Сердце впервые воззвал
к святому и украсил его крестом английское знамя. Но о св. Георгии
говорится не только в предании о победе Ричарда; предания о победе
Саладина тоже восхваляют его. В той темной и страшной битве один
христианский воин дрался так яростно, что мусульмане прониклись
благоговейным ужасом даже к мертвому телу и похоронили его с честью
как св. Георгия.
Этот лагерь подходит к Георгию, и место здесь подходящее для поединка.
По преданию, это было в других краях; но в местах, где зеленые поля
сменяются бурым отчаянием пустыни, кажется, что и сейчас человек
бьется с драконом.
Многие считают битву св. Георгия просто волшебной сказкой. По-видимому,
они правы, и здесь я пользуюсь ею только в качестве сравнения.
Представьте себе, что кто-нибудь поверил в св. Георгия, но отбросил
при этом всю ту чепуху о крылатом и когтистом чудище, которую предание
приплело к его образу. Возможно, этот человек, преследуя патриотические
или еще какие-нибудь хорошие цели, счел св. Георгия недурным образцом
для вас. Возможно, он узнал, что ранние христиане были скорее воинами,
чем пацифистами. Как бы то ни было, он поверил в историческую реальность
св. Георгия и ничуть не удивится, если найдет свидетельства о его
жизни.
И вот, представьте себе, что этот человек отправился на место легендарной
битвы и не нашел или почти не нашел следов св. Георгия. Зато он
нашел на этом месте кости крылатого когтистого чудища или древние
изображения и надписи, сообщающие о том, что здесь приносились жертвы
дракону и одной из них была царская дочь. Нет сомнения, он удивится,
найдя подтверждения не правдоподобной, а немыслимой части предания.
Он нашел не то, что ожидал; но пользы от этого не меньше, даже
больше. Находки не доказали, что жил св. Георгий, но они блестяще
подтвердили предание о битве с драконом.
Конечно, если бы так случилось, человек не обязательно поверил
бы преданию. Он просто увидел бы: что-то в нем есть. И по всей вероятности,
он вывел бы из этого, что предание в какой-то степени серьезнее,
чем можно было думать.
Я совсем не считаю, что все случится именно так с этой палестинской
легендой. Но так случилось с другой, самой священной и страшной
из палестинских легенд. Именно это случилось с легендой о Том, рядом
с кем и дракон, и Георгий - просто элементы орнамента; о Том, благодаря
кому даже Георгиевский крест напоминает нам в первую очередь не
о св. Георгии.
Не думаю, что в этой пустыне св. Георгий сразился с драконом. Но
Иисус сразился здесь с дьяволом.
Св. Георгий - только служитель, а дракон - только символ, но поединок
их - правда. Тайна Христа и Его власти над бесами выражена в нем.
На пути из Иерусалима в Иерихон я часто вспоминал о свиньях, кинувшихся
с крутизны. Не примите это за намек - на свинью я похож, но нет
во мне той прыти, а если я чем и одержим, то никак не бесом уныния,
доводящим до самоубийства.
Но когда едешь к Мертвому морю, действительно кажется, что несешься
с кручи. Странное чувство возникает здесь: вся Палестина - круча,
словно другие земли просто лежат под небом, а эта обрывается куда-то.
Ни карты, ни книги не говорили мне об этом.
Я видел детали - костюмы, дома, пейзажи, - но они не дают представления
о бесконечном, долгом склоне. Мы ехали в маленьком "форде"
среди утесов; потом дорога исчезла, и наша машина переваливалась,
как танк, через камни и высохшие русла, пока нам не открылся зловещий
и бесцветный вид Мертвого моря.
До него далеко и на карте, тем более в машине, и кажется, что ты
приехал в другую часть света. Но все это - один склон; даже в диких
краях за Иорданом можно увидеть, обернувшись, церковь на холме Вознесения.
И хотя предание о свиньях относится к другим местам, мне все казалось,
что оно удивительно подходит к этому склону и таинственному морю.
Мне чудилось, что именно здесь можно выудить чудовищных рыб о четырех
ногах или "морских свиней" - разбухших, со злыми глазками,
духов Гадары.
И вот я вспомнил, что именно это предание послужило в свое время
предметом спора между христианством и викторианской наукой.
Спорили лучшие люди века: научный скепсис защищал Гексли, верность
Писанию - Гладстон. Все считали, что тем самым Гладстон представляет
прошлое, а Гексли - будущее, если не просто конечную истину. У Гладстона
были очень плохие доводы, и он оказался прав. У Гексли доводы были
первоклассные, и оказалось, что он ошибся. То, что он считал бесспорным,
стали оспаривать; то, что он считал мертвым, - даже сейчас слишком
живо.
Гексли был необычайно силен в логике и красноречии. Его нравственные
принципы поражают мужеством и благородством. В этом он лучше многих
мистиков, сменивших его. Но они его сменили.
То, что он считал верным, - рухнуло. То, что он считал рухнувшим,
- стоит и по сей день. В споре с Гладстоном он хотел (по собственным
его словам) очистить христианский идеал - нравственная высота которого
подразумевалась - от заведомо нелепой христианской демонологии.
Но если мы заглянем в следующее поколение, мы увидим, что оно презрительно
отмахнулось от возвышенного и очень серьезно отнеслось к нелепому.
Мне кажется, для поколения, сменившего Гексли, очень типичен Джордж
Мур - один из самых тонких и талантливых писателей эпохи. Он побывал
почти во всех интеллектуальных кругах, пережил немало мод и поддерживал
(в разное время, конечно) почти все модные мнения, чем весьма гордился,
считая себя самым вольным из вольнодумцев. Возьмем его как образчик
и посмотрим, что стало с утверждениями Гексли.
Если вы помните, Гексли иронически сомневался в том, что кто-нибудь
когда-нибудь считал справедливость - злом, милосердие - ненужным
или, наконец, не видел расстояния между собой и своим идеалом. Но
Джордж Мур, перещеголяв Ницше, сказал, насколько мне помнится, что
восхищается Кромвелем за его несправедливость. Он же осуждал Христа
не за то, что тот погубил свиней, а за то, что Он излечил бесноватого.
Другими словами, он счел справедливость злом, а милосердие - ненужным.
Если же говорить о смиренном отношении к идеалу, он заявил прямо,
что у его несколько изменчивых идеалов одна ценность - они принадлежат
ему. Конечно, все это он писал только в "Исповеди молодого
человека"; но в том-то и дело, что он был молод, а Гексли,
по сравнению с ним, - стар.
Наше время подвело подкоп не под христианскую демонологию, не под
христианскую теологию, а под ту самую христианскую этику, которая
великому агностику казалась незыблемой, как звезды.
Но, высмеивая мораль, новое поколение возвращалось к тому, над
чем смеялся он. В следующей своей фазе Джордж Мур заинтересовался
ирландским мистицизмом, воплощенным в Иейтсе. Я сам слышал, как
Йейтс, доказывая конкретность, вещественность и даже юмор потустороннего,
говорил про своего знакомого фермера, которого феи вытащили из кровати
и отдубасили.
И вот, представьте себе, что Йейтс рассказывает Муру очень похожую
историю: о том, как некий волшебник загнал этих фей в фермерских
свинок, а те попрыгали в деревенский пруд. Счел бы Джордж Мур эту
историю невероятной? Была бы она для него чем-нибудь хуже тысячи
вещей, в которые обязаны верить современные мистики? Встал бы он
в негодовании и порвал отношения с Йейтсом? Ничуть не бывало.
Он бы выслушал ее серьезно, более того - торжественно и признал
бы грубоватым, но, несомненно, очаровательным образцом сельской
мистики. Он горячо защищал бы ее, если бы встретил где угодно, кроме
Нового Завета. А моды, сменившие кельтское движение, оставили такие
пустяки далеко позади.
Здесь действовали уже не чудаки-поэты, а серьезные ученые, вроде
сэра Уильяма Крукса иди сэра Артура Конан Дойла. Мне нетрудно поверить,
что злой дух привел в движение свинью, и гораздо труднее поверить,
что добрый дух привел в движение стол.
Но сейчас я не собираюсь спорить, я просто хочу передать атмосферу.
Все, что было дальше, ни в коей мере не оправдывает ожиданий Гексли.
Бунт против христианской этики был, а если не вернулись к христианской
мистике, то уж несомненно вернулись к мистике без христианства.
Да, мистика вернулась со всем своим сумраком, со всеми заговорами
и талисманами. Она вернулась и привела семь других духов, злее себя.
Но аналогию можно провести и дальше. Она касается не только мистики
вообще, но и непосредственно одержимости. Это - самое последнее,
что взял бы как точку опоры умный апологет викторианских времен.
Однако именно здесь мы найдем образец того неожиданного свидетельства,
о котором я говорил в начале. Не теология, а психология вернула
нас в темный, подспудный мир, где даже единство личности тает и
человек перестает быть самим собой.
Я не хочу сказать, что наши психиатры признали существование бесноватых;
если бы они и признали, они бы их назвали иначе - демономанами,
например. Но они признали вещи, ровно столько же неприемлемые для
нас, рационалистов старого толка. И если мы так уж любим агностицизм,
направим же его в обе стороны. Нельзя говорить: да, в нас есть нечто,
чего мы не сознаем; зато мы точно знаем, что оно не связано с потусторонним
миром. Нельзя говорить, что под нашим домом есть абсолютно незнакомый
нам погреб, из которого, без сомнения, нет хода в другой дом.
Если мы оперируем с неизвестными, то какое право мы имеем отрицать
их связь с другими неизвестными? Если во мне есть нечто и я о нем
ничего не знаю, как могу я утверждать, что это "нечто"
- тоже я сам? Как я могу сказать хотя бы, что это было во мне изначально,
а не пришло извне? Да, мы попали в поистине темную воду; не знаю,
правда, прыгнули ли мы с крутизны.
Не мистики недостает нам, а здоровой мистики; не чудес, а чуда
исцеления. Я очень хорошо понимаю тех, кто считает современный спиритизм
делом мрачным и даже бесовским; но это - не аргумент против веры
в бесовщину. Картина еще яснее, когда из мира науки мы переходим
в его тень, т.е. в салоны и романы.
То, что сейчас говорят и пишут, наводит меня на мысль: не бесов
у нас маловато, а силы, способной их изгнать. Мы спарили оккультизм
с порнографией, материалистическую чувственность мы помножили на
безумие спиритизма. Из Гадаринской легенды мы изгнали только Христа;
и бесы, и свиньи - с нами.
Мы не нашли св. Георгия, зато мы нашли дракона. Мы совсем не искали
его - наш прогрессивный интеллект гонится за куда более светлыми
идеалами; мы не хотели найти его - и современные и обыкновенные
люди стремятся к более приятным находкам; мы вообще о нем не думали.
Но мы его нашли, потому что он есть; и нам пришлось подойти к его
костям, даже если нам суждено об них споткнуться.
Сам метод Гексли разрушил концепцию Гексли. Не христианская этика
выстояла в виде гуманности - христианская демонология выстояла в
виде бесовщины, к тому же - бесовщины языческой. И обязаны мы этим
не твердолобой схоластике Гладстона, а упрямой объективности Гексли.
Мы, западные люди, "пошли туда, куда нас поведет разум",
и он привел нас к вещам, в которые ни за что не поверили бы поборники
разума. В сущности, после Фрейда вообще невозможно доказать, куда
ведет разум и где остановится. Теперь мы даже не можем гордо заявить:
"Я знаю только, что я ничего не знаю". Именно этого
мы и не знаем.
В сознании провалился пол, и под ним, в подвале подсознания, могут
обнаружиться не только подсознательные сомнения, но и подсознательные
знания. Мы слишком невежественны и для невежества; и не знаем, агностики
ли мы.
Вот в какой лабиринт забрался дракон даже в ученых западных странах.
Я только описываю лабиринт, он мне совсем не нравится. Как большинство
верных преданию католиков, я слишком для него рационалистичен; кажется,
теперь одни католики защищают разум. Но я сейчас говорю не об истинном
соотношении разума и тайны.
Я просто констатирую как исторический факт, что тайна затопила
области, принадлежащие разуму, особенно - те области Запада, где
царят телефон и мотор.
Когда такой человек, как Уильям Арчер, читает лекции о снах и подсознании
и при этом приговаривает: "Вполне очевидно, что Бог не создал
человека разумным", люди, знающие этого умного и сухого шотландца,
несомненно, сочтут это чудом. Если уж Арчер становится мистиком
на склоне лет (спешу заверить, что это выражение я употребляю в
чисто условном, оккультном смысле), нам останется признать, что
волна восточного оккультизма поднялась высоко и заливает не только
высокие, но и засушливые места.
Перемена еще очевидней для того, кто попал в края, где никогда
не пересыхают реки чуда, особенно же в страну, отделяющую Азию,
где мистика стала бытом, от Европы, где она не раз возрождалась
и с каждым разом становилась все моложе. Истина ослепительно ярко
сверкает в той разделяющей два мира пустыне, где голые камни похожи
на кости дракона.
Когда я спускался из Святых мест к погребенным городам равнины
по наклонной стенке или по плечу мира, мне казалось, что я вижу
все яснее, что стало на Западе с мистикой Востока.
Если смотреть со стороны, история была несложная: одно из многих
племен поклонилось не богам, а богу, который оказался Богом. Все
так же, передавая только внешние факты, можно сказать, что в этом
племени появился пророк и объявил Себя не только пророком. Старая
вера убила нового пророка; но и Он в свою очередь убил старую веру.
Он умер, чтобы ее уничтожить, а она умерла, уничтожая Его.
Говоря все так же объективно, приходится рассказать о том, что
дальше все пошло ни с чем не сообразно. Все участники этого дела
никогда уже не стали такими, как раньше.
Христианская церковь не похожа ни на одну из религий; даже ее преступления
- единственные в своем роде. Евреи не похожи ни на один народ; и
для них, и для других они - не такие, как все. Рим не погиб, подобно
Вавилону и многим другим городам, он прошел сквозь горнило раскаяния,
граничащего с безумием, и воскрес в святости. И путь его не сочтут
обычным даже те, для кого он не прекрасен, как воскресший Бог, а
гнусен, как гальванизированный труп.
А главное - сам пророк не похож ни на одного пророка в мире; и
доказательство тому надо искать не у тех, кто верит в Него, а у
тех, кто не верит. Христос не умирает даже тогда, когда Его отрицают.
Что пользы современному мыслителю уравнивать Христа с Аттисом или
Митрой, если в следующей статье он сам же упрекает христиан за то,
что они не следуют Христу?
Никто не обличает наши незороастрийские поступки; нехристианские
же (и вполне справедливо) обличают многие. Вряд ли вы встречали
молодых людей, которые сидели в тюрьме как изменники за то, что
не совсем обычно толковали некоторые изречения Аттиса. Толстой не
предлагал в виде панацеи буквальное исполнение заветов Адониса.
Нет митраистских социалистов, но есть христианские.
Не правоверность и не ум - самые безумные ереси нашего века доказывают,
что Имя Его живо и звучит как заклинание. Пусть сторонники сравнительного
изучения религий попробуют заклинать другими именами. Даже мистика
не тронешь призывом к Митре, но материалист откликается на имя Христово.
Да, люди, не верящие в Бога, принимают Сына Божия.
Человек Иисус из
Назарета стал образцом человечности. Даже деисты XVIII века,
отрицая Его божественную сущность, не жалели сил на восхваление
Его доброты.
О бунтарях XIX века и говорить нечего - все они как один расхваливали
Христа- человека. Точнее - они расхваливали Его как Сверхчеловека,
проповедника высокой и не совсем понятной морали, обогнавшего и
свое, и, в сущности, наше время. Из Его мистических изречений они
лепили социализм, пацифизм, толстовство - не столько реальные вещи,
сколько маячащий вдали предел человеколюбия.
Я сейчас не буду говорить о том, правы ли они. Я просто отмечаю,
что они увидели в Христе образец гуманиста, радетеля о человеческом
счастье. Каждый знает, какими странными, даже поразительными текстами
они подкрепляют этот взгляд.
Они весьма любят, например, парадокс о полевых лилиях, в котором
находят радость жизни, превосходящую Уитмена и Шелли, и призыв к
простоте, превосходящий Торо и Толстого. Надо сказать, я не понимаю,
почему они не занялись литературным, поэтическим анализом этого
текста - ведь их отнюдь не ортодоксальные взгляды вполне разрешили
бы такой анализ.
По точности, по безупречности построения мало что может сравниться
с текстом о лилиях. Начинает он спокойно, как бы между прочим; потом
незаметный цветок расцветает дворцами и чертогами и великим именем
царя; и сразу же, почти пренебрежительно, переходит Христос к траве,
которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь.
А потом - как не раз в Евангелии - идет "кольми паче"
("насколько же более"), подобно лестнице в небо, взлету
логики и надежды. Именно этой способности мыслить на трех уровнях
не хватает нам в наших спорах.
Мало кто может теперь объять три измерения, понять, что квадрат
богаче линии, а куб - богаче квадрата. Например, мы забыли, что
гражданственность выше рабства, а духовная жизнь выше гражданственности.
Но я отвлекся; сейчас мы говорим только о тех сторонах этой многосторонней
истории, которым посчастливилось угодить моде нашего века. Христос
прошел испытания левого искусства и прогрессивной экономики, и теперь
разрешается считать, что Он понимал все, с грехом пополам воплощенное
в фабианстве или опрощении.
Я намеренно настаиваю здесь на этой оптимистической - я чуть не
сказал "пантеистической" или даже "языческой"
- стороне Евангелия. Мы должны удостовериться, что Христос может
стать учителем любви к естественным вещам; только тогда мы оценим
всю чудовищную силу Его свидетельства о вещах противоестественных.
Возьмите теперь не текст, возьмите все Евангелие и прочитайте его,
честно, с начала до конца. И вот, даже если вы считаете его мифом,
у вас появится особое чувство - вы заметите, что исцелений там больше,
чем поэзии и даже пророчеств; что весь путь от Каны до Голгофы -
непрерывная борьба с бесами.
Христос лучше всех поэтов понимал, как прекрасны цветы в поле;
но это было для Него поле битвы. И если Его слова значат для нас
хоть что-нибудь, они значат прежде всего, что у самых наших ног,
словно пропасть среди цветов, разверзается бездна зла.
Я хотел бы высказать осторожное предположение: может быть, Тот,
Кто разбирался не хуже нас в поэзии, этике и экономике, разбирался
еще и в психологии?
Помнится, я с удовольствием читал суровую статью, в которой доказывалось,
что Христос не мог быть Богом уже потому, что верил в бесов. Одну
из фраз я лелею в памяти многие, многие годы: "Если бы он
был богом, он бы знал, что нет ни бесов, ни бесноватых". По-видимому,
автору не пришло в голову, что он ставит вопрос не о божественной
природе Христа, а о своей собственной божественной природе.
Если бы Христос, как выразился автор, был богом, Он вполне мог
знать о предстоящих научных открытиях не меньше, чем о последних
- не говоря уже о предпоследних, которые так любят теперь. А никто
и представить себе не может, что именно откроют психологи; если
они откроют существа по имени "легион", мы вряд ли удивимся.
Во всяком случае, ушло в прошлое время трогательного всеведения,
и авторы статей уже не знают точно, что бы они знали на месте Бога.
Что такое боль? Что такое зло? Что понимали тогда под бесами? Что
понимаем мы под безумием? И если почтенный викторианец спросит нашего
современника: "Что знает Бог?" - тот ответит: "А
Бог его знает!", и не сочтет свой ответ кощунственным.
Я уже говорил, что места, где я об этом думал, походили на поле
чудовищной битвы.
Снова по старой привычке я забыл, где я, и видел не видя. Вдруг
я очнулся - такой ландшафт разбудил бы кого угодно. Но, проснувшись,
живой подумал бы, что продолжается его кошмар, мертвый - что он
попал в ад. Еще на полпути холмы потускнели, и было в этом что-то
невыносимо древнее, словно еще не созданы в мире цвета.
Мы, по-видимому, привыкли к тому, что облака движутся, а холмы
неподвижны. Здесь все было наоборот, словно заново создавался мир:
земля корчилась, небо стояло недвижимо. Я был на полпути от хаоса
к порядку, но творил Бог или хотя бы боги. В конце же спуска, где
я очнулся от мыслей, было не так. Я могу только сказать, что земля
была в проказе. Она была белая, серая и серебристая, в тусклых,
как язвы, пятнах растений. К тому же она не только вздымалась рогами
и гребнями, как волна или туча, - она двигалась, как тучи и волны;
медленно, но явно менялась; она была живая.
Снова порадовался я своей забывчивости - ведь я увидел этот немыслимый
край раньше, чем вспомнил имя и предание. И тут исчезли все язвы,
все слилось в белое, опаленное солнцем пятно - я вступил в край
Мертвого моря, в молчание Гоморры и Содома.
Здесь - основания падшего мира и море, лежащее под морями, по которым
странствует человек. Волны плывут, как тучи, а рыбы - как птицы
над затонувшей землей. Именно здесь, по преданию, родились и погибли
чудовищные и гнусные вещи. В моих словах нет чистоплюйства - эти
вещи гнусны не потому, что они далеко от нас, а потому, что они
близко. В нашем сознании - в моем, например, - погребены вещи, ничуть
не лучшие.
И если Он пришел в мир не для того, чтобы сразиться с ними во тьме
человеческой души, я не знаю, зачем Он пришел. Во всяком случае,
не для того, чтобы поговорить о цветочках и экономике.
Чем отчетливей видим мы, как похожа жизнь на волшебную сказку,
тем ясней, что эта сказка - о битве с драконом, опустошающим сказочное
царство. Голос, который слышится в Писании, так властен, словно
он обращается к войску; и высший его накал - победа, а не примирение.
Когда ученики впервые пошли во всякий город и место и вернулись
к своему Учителю, Он не сказал в этот час славы: "Все на свете
- грани прекрасного гармонического целого" или "Капля
росы стремится в сверкающее море". Он сказал: "Я видел
Сатану, спадшего с неба, как молнию".
И я взглянул и увидел в скалах, расщелинах и на пороге внезапность
громового удара. Это был не пейзаж, это было действие - так архистратиг
Михаил преградил некогда путь князю тьмы.
Подо мной расплескалось царство зла, словно чаша разбилась на дне
мира. А дальше и выше, в тумане высоты и дали, вставал в небесах
храм Вознесения Христова, как меч Архангела, поднятый в знак привета.
Примечания:
- Данный текст воспроизведен по изданию:
Честертон Г. К., Собр. соч.: В 5 т. Т. 5: Вечный Человек. Эссе
/ Пер. с англ.; Сост. и общ. ред. Н. Л. Трауберг. — СПб.: Амфора,
2000.
- В бумажном издании этой странице соответствуют страницы: 328-331.
Вчера я гулял в огороде, который обнаружил в своих владениях, и думал, почему он мне так нравится. Углубившись в свою душу, я пришёл к выводу, что люблю огород, ибо в нём растёт еда. Я не хочу сказать, что огород уродлив — он очень красив. Сочетание зелени и пурпура на капустной грядке и тоньше, и пышнее, чем кричащее соседство жёлтого с лиловым в анютиных глазках. Мало на свете цветов, воздушных, как цветы картофеля. Огород красив, как сад. Но почему слово «сад» не хуже, чем слово «цветник», даже как-то приятней? Я думаю, всё потому же: в саду растёт и еда.
Капуста — твёрдый, увесистый шар; к ней можно подойти с разных сторон, ощутить её всеми чувствами. Подсолнечник можно только увидеть; он — как узор на обоях. Что выразит эту объёмность лучше, чем мысль о съедобности? Чтобы охватить репу со всех сторон, надо её съесть. Я думаю, человек с воображением, который любит плотность и толщину деревьев, весомость камней, густоту глины, наверное, мечтал хоть раз о том, чтобы они были съедобны.
Ах, если бы мягкий коричневый торф был так же вкусен, как торт! Если бы облако было сочным и сладким, как яблоко! Говорят, и не без оснований, что камень дают вместо хлеба. Но есть в геологическом музее густо-малиновый мрамор, есть там зелёные сланцы, при виде которых я жалею, что зубы мои недостаточно крепки.
Кто-то, глядя на небо с причудливой жадностью, сказал, что луна — из зелёного сыра. Я не могу принять эту теорию целиком. Что луна из сыра, я знаю с детства; и каждый месяц великан (мой знакомый) выкусывает из неё большой круглый кусок. Это сверхразумно, но не безумно. А вот против зелёного сыра восстают и чувства, и разум. Во-первых, если бы сыр был зелёный, луна была бы обитаемой; во-вторых, она была бы зелёной. В сущности, я видел луны, похожие на любой сыр, кроме зелёного. Я видел сливочный сыр — тепло-белый круг на тепло-лиловом небе над золотыми полями Кента.
Видел я и голландский сыр — тусклый, медно-красный диск среди мачт над тёмными водами Онфлера. Видел и простой крепкий чеддер на крепком густо-синем небе. А однажды я видел такую голую, такую ветхую, такую странно освещённую луну, что она показалась мне швейцарским сыром — жутким вулканическим сыром с ужасными дырками, сделанным из колдовского молока каких-то чудовищных коров. Зелёной луны я не видел и склоняюсь к мнению, что она недостаточно стара. Луна, как и всё другое, созреет к концу света, и в последние дни мы увидим, как сменяются на ней небывалые цвета, кипит причудливая жизнь.
Но это — так, к слову. Не очень важно, зелена луна или нет; такое представление о ней — хороший пример нашей метафоры. Та же весомая образность есть в стишке «Когда б весь мир был хлеб и сыр» и в благородной, грозной легенде, где Тор осушает море из рога. Мой очерк (вначале это был доклад, который я собирался прочитать Королевскому обществу) не претендует на точность; и я признаю, что теорию постепенного созревания нашего спутника ещё не следует рассматривать как доказанный, признанный наукой закон. Это рабочая гипотеза, как говорят учёные, когда нет доказательств.
Не думай, читатель, что я сошёл с ума и собираюсь грызть деревья или выкусывать большие полукруги из красивых горных хребтов. Люди очень давно почувствовали, что идею плотности можно выразить через идею съедобности. Это не интеллигентский парадокс, а один из самых старых трюизмов. Если сбитый с толку человек хочет знать, как безошибочно отличить ложную веру от истинной, я ему скажу: ложная вера всегда называет конкретные вещи учёным, абстрактным словом. Она называет распутство сексуальностью, вино — алкоголем, зверский голод — экономическими проблемами.
Истинная же вера хочет, чтобы отвлечённые понятия стали простыми, весомыми, как предметы. Она хочет, чтобы люди не только приняли, но увидели, понюхали, потрогали, услышали и вкусили истину. Все великие памятники духовной жизни предлагают нам не только узнать, но и попробовать, не только изведать, но и отведать. Живая вода и небесный хлеб, таинственная манна и священное вино пестрят в каждой строке. Светское, прилизанное общество всегда презирало эту прожорливость; духовные вожди её не презирали.
Когда мы смотрим на плотные белые холмы у Дувра, нам, конечно, не хочется мелу — это было бы странно; но мы чувствуем, что мел — съедобен, кому-то стоит поесть его. Кто-то и ест его — на нём растёт трава и ест его молча, но, без сомнения, с большим аппетитом.
Данный текст воспроизведен по изданию:
Неожиданный Честертон: Рассказы. Эссе. Сказки / ISBN 5-88403-039-8 / Пер. с англ.; сост., биограф. очерки и общ. ред. Н. Трауберг. — М.: Истина и Жизнь, 2002. — 368 с.
В бумажном издании этой странице соответствуют страницы: 245–247.
|



