В.В.БЫЧКОВ
К оглавлению * ср.
о бл. Августине.
Глава VI
КРАСОТА И ПРЕКРАСНОЕ
Анализ общих философско-эстетических понятий порядка и ритма у Августина
вплотную подводит нас еще к одному важному вопросу его эстетики. Красота, прекрасное
волновали гиппонского епископа отнюдь не только в юношеском возрасте. Как мы уже
отчасти видели, эти категории лежали в основе всей его эстетики и осмысливались
им в тесной связи с такими проблемами, как порядок, ритм, число, блаженство, удовольствие,
творчество. В понимании красоты и прекрасного Августин опирался прежде всего на
весь известный ему опыт греко-римской эстетики, пытаясь трансформировать его в
библейско-христианском духе. Особо сильное влияние оказали на него эстетические
идеи Плотина, который по праву может быть назван завершителем и систематизатором
практически всех античных представлений о красоте, отчасти их реформатором и зачинателем
новых, положивших начало средневековой эстетике. Многие эстетические идеи представителей
патристики и зрелого Средневековья, как на Востоке, так и на Западе, восходят
к эстетике таких платоников, как Филон Александрийский, Климент Александрийский
и Плотин561.
Здесь целесообразно хотя бы кратко напомнить плотиновскую теорию прекрасного562.
Развивая на новом культурно-историческом этапе платоновские идеи,
Плотин посвятил вопросам прекрасного много места в своих «Эннеадах» и, в частности,
два специальных трактата: «О прекрасном» (Эн. I, 6) и «О мысленной красоте» (Эн.
V, 8)563,
в которых с достаточной полнотой представлена его эстетическая концепция.
В первом трактате Плотин начинает разговор о прекрасном с чувственно
воспринимаемой красоты, сразу же оговариваясь, что прекрасными могут быть и поступки,
и занятия, и знания, и добродетели, и им подобные явления. Прежде всего он подвергает
критике известное стоическое определение красоты564,
имевшее хождение и во времена Августина, и в средневековой эстетике: «Почти все,
можно сказать, утверждают, что красоту, воспринимаемую зрением, порождает соразмерность
(συμμετρία) частей друг с другом
и с целым, в связи с прелестью красок. И для тех, кто это утверждает, и вообще
для всех остальных, быть прекрасным - значит быть симметричным и соразмерным.
Для них ничто простое не будет прекрасным, а необходимым образом лишь сложное,
и [лишь] целое будет для них прекрасным. Отдельные же части не будут для них прекрасны,
части должны согласоваться с целым, чтобы получилось прекрасное. Между тем если
целое прекрасно, то и части должны быть прекрасны, ибо [прекрасное] не может состоять
из безобразных частей, но все части должны получить красоту» (Эн. I, 6, Г). Плотин,
пожалуй, впервые в истории эстетики поставил вопрос о красоте простых вещей, таких,
как свет солнца, звезд, зарницы, локальный цвет, отдельно взятый звук и т. п.,
и на этой основе показал недостаточность традиционной формулы прекрасного. Далее,
он подметил, что одно и то же симметричное и соразмерное лицо в одни моменты бывает
прекрасным, а в другие нет. Поэтому, заключает он, и в самой соразмерности есть
не что иное, чем она сама, что придает ей красоту. Если же обратиться к прекрасным
занятиям, речам, математическим знаниям, добродетелям и т.п. явлениям духовно-практической
деятельности, то здесь уже, полагает Плотин, совсем неуместно говорить о симметрии
и соразмерности.
Стремясь понять сущность прекрасного в видимых предметах, он вынужден
обратиться к сфере восприятия. Воспринимая прекрасное, душа настраивается на один
с ним лад, принимает его в себя; натолкнувшись же на безобразное, она отвращается
от него, чуждается его, не принимает в себя. Душа, принадлежа по своей сущности
к лучшему из всего существующего, радуется, изумляется и принимает в себя только
то, что сродно ей, подобно тому, что принадлежит ей. Что же сходного у мира души
и у прекрасных материальных тел? Плотин усматривает это сходство в приобщенности
к идее, эйдосу, внутренней форме (τό ένδον
είδος). Видимые тела «прекрасны через приобщение эйдосу
(μετοχή είδους), скажем
мы, ибо все бесформенное, способное по природе своей принять форму и эйдос и лишенное,
однако, логоса и эйдоса, безобразно и чуждо божественному уму; и это все безобразно.
Безобразно и то, что не подчинено форме и логосу, так материя не допускает полного
оформления согласно эйдосу. Итак, эйдос, привходя [к материи], приводит в порядок
то, что благодаря сочетанию должно сделаться единым из многих частей, и приводит
в единую полноту целого, и в силу согласия делает единым. <...> Таким-то
образом возникает прекрасное тело чрез приобщение логосу, исходящему от божественного
[начала]» (Эн. I, 6, 2).
Плотина интересуют не формальные признаки прекрасного, но его сущностная
причина, и он усматривает ее в некоторой идее, или эйдосе565,
находящем выражение в материи. Главной характеристикой прекрасного (и не только
в мире визуальных форм) выступает у него степень выраженности эйдоса в
иерархически более низкой ступени бытия. Красота начинает проявляться в материи
по мере ее упорядочивания (оформления) и преодоления духовным эйдетическим началом,
которое находит пластическое воплощение в прекрасных телах и произведениях рук
человеческих. Так, «внешний вид здания, если удалить камни, и есть его внутренний
эйдос (τό ένδον είδος),
разделенный внешнею косной материей, эйдос неделимый, хотя и проявляющийся во
многих [зданиях]» (Эн. I, 6, 3). Таким образом, Плотин в русле позднеантичного
платонизма нашел новое и более обобщенное решение проблемы прекрасного. Под его
определение подходили как сложные, так и простые эстетические объекты, как предметы
материального мира, так и явления разнообразной предметно-практической и духовно-интеллектуальной
деятельности. Воплощение или выражение того или иного эйдоса платоник мог спокойно
найти практически во всяком элементе и явлении любой сферы универсума. К примеру,
«простая красота цвета [возникает] благодаря форме и преодолению темного начала
в материи присутствием бестелесного и умного света, который является эйдосом (идеей).
Поэтому и самый огонь прекрасен более остальных тел, так как по отношению к остальным
элементам он занимает место эйдоса, ибо он и выше других тел по положению, и самое
легкое из тел, будучи близким к бестелесному. <...> и огонь изначально имеет
цвет, остальные же тела от него получают эйдос цвета. Итак, он (огонь. - В.
Б.) блестит и сверкает, будучи как бы эйдосом. Все же, что не властвует [над
материей], так как обладает скудным светом, не прекрасно, как не причастное всецело
эйдосу цвета» (Эн. I, 6, 3).
От чувственно воспринимаемого прекрасного Плотин переходит, «восходя
вверх», к рассмотрению прекрасного «более высокого порядка», которое воспринимается
душой без посредства органов чувств и недоступно чувственному восприятию. Таким
образом, Плотин намечает иерархический подход к сфере прекрасного, что вполне
закономерно вытекает из его эманационно-субординативной концепции универсума и
хорошо соответствует духу платонизма.
Ко второму уровню прекрасного Плотин относит красоту занятий и знаний,
«сияние добродетели», «прекрасный лик справедливости и умеренности», и т. п. вещи,
которые своей красотой значительно превосходят красоту природных явлений. Прекрасное
этого уровня доставляет наслаждение, потрясение, изумление значительно большей
силы, чем красота телесная (Эн. I, 6, 4). Чтобы выявить суть «душевной» красоты,
Плотин применяет прием «от противного» - выясняя сначала сущность безобразного
души, которое проявляется в невоздержанности, несправедливости, обилии страстей,
в трусости, любви к нездоровым плотским наслаждениям и т. п. Безобразное души
состоит в загрязненности ее всяческими телесными пороками. «Итак, мы едва ли ошибемся,
сказав, что душа становится безобразною в силу смешения и соединения с телом и
материей и склонности к ним. Это безобразие заключается в том, что душа бывает
не чистою, не несмешанною» (Эн. I, 6, 5), и, следовательно, красота души и всего
этого уровня вообще заключается в очищении от всего тленного, телесного.
«Итак, душа очищенная становится эйдосом и логосом, вполне бестелесною,
разумною, всецело принадлежит божеству, в котором источник прекрасного и всего
подобного, что сродни ему. Итак, душа, возведенная к уму,- прекрасное во много
большей степени». Плотин переходит к следующей ступени красоты - уму. При этом
мысль его постепенно переключается от души человека к Душе и Уму мира, которые
истекают из Единого или Бога и образуют весь мир и его красоту. «Красота,- продолжает
Плотин,- свойственная душе от природы, а не заимствования, и есть ум и то, что
проистекает из ума, ибо лишь тогда душа бывает поистине только душою. Поэтому-то
правильно говорится, что добро и красота для души заключаются в том, чтобы уподобиться
Богу, ибо оттуда прекрасное и всякий иной удел сущего» (Эн. I, 6, 6). Бог являет
собой вершину эстетической иерархии. По сравнению с ним материя выглядит безобразной.
В Боге неразрывно соединены высшее благо и красота, которая поступенчато эманирует
в мир материального бытия: «и на первом месте следует поставить красоту, тождественную
с добром, из которого проистекает непосредственно ум как прекрасное. Душа же -
прекраснее благодаря уму, а все остальное прекрасное - в поступках, в занятиях
- прекрасно уже благодаря душе, дающей форму. Душа, равным образом, делает уже
прекрасными и те тела, которые так называются: так как душа божественна и как
бы часть (μοίρα) прекрасного, то [все вещи], с которыми
душа соприкасается и подчиняет их себе, она делает прекрасными, насколько они
способны приобщаться красоте» (Эн. I, 6, 6).
Божество, высшее благо описывается в этом трактате в эстетической
терминологии. Его видение, по сути дела, тождественно акту эстетического восприятия:
«Кто еще не лицезрел его, тот стремится к нему как к благу; кто же видел, тот
восхищается как прекрасным, бывает преисполнен изумления, смешанного с блаженством,
испытывает безболезненное потрясение, любит истинной любовью, со страстным пылом,
смеется над всякою другою любовью и презирает то, что прежде считал прекрасным».
В процессе этого постижения субъект сам приобщается высшей красоте, становится
прекрасным: «Итак, если кто-либо узрел то, что стоит во главе хоровода всех вещей,
что дает, оставаясь в самом себе, и ничего в себя не принимает, узрел, пребывая
в созерцании подобного и наслаждаясь им, в каком еще прекрасном нуждался бы он?
Оно, будучи само наивысшей и первой красотой, делает любящих его прекрасными и
достойными любви» (Эн. I, 6, 7).
Итак, в трактате I, 6 Плотин дает четкую иерархию красоты, или прекрасного566.
Причиной и источником красоты является Бог, как высшее единство добра и красоты.
От него красотой наделяется Ум, который сообщает ее в виде эйдосов Душе. Душа
же дает форму, или эйдосы, т. е. красоту всей духовно-практической деятельности
человека и его душе, и в последнюю очередь всем телам материального мира. Человек,
в свою очередь, как существо духовное, т. е. присущее эйдосу, имеет потребность
в общении с красотой и в идеале - стремление приобщиться к высшей красоте, обладание
которой доставляет неописуемое блаженство. Относительно высшей ступени, т. е.
Бога, Плотин не может дать точной дефиниции: то ли это единство добра и высшей
красоты, то ли - «добро, стоящее превыше красоты, - источник и первоначало прекрасного».
Ум уже полностью принадлежит к сфере прекрасного. Он источник эйдосов, а красота
- это эйдосы и «все прекрасно благодаря идеям - порождениям и сущности ума» (Эн.
I, 6, 9). Эйдосы выступают главным носителем красоты в эстетической иерархии Плотина.
В трактате V, 8 Плотин дополняет свою иерархию красоты и делает
ряд интересных эстетических выводов. Прежде всего, здесь вводится в иерархию красота
искусства. Произведения искусства обладают особой, чувственно воспринимаемой красотой,
которую придает бесформенному природному материалу художник. Форма же, или эйдос,
произведения искусства сначала появляется в замысле художника и лишь затем реализуется
в материале. Возникает же этот эйдос у художника потому, что он причастен искусству.
«Следовательно,- заключает Плотин,- красота эта присутствовала в искусстве в более
высоком виде. Именно не привходит в камень та красота, что в искусстве, но она
остается [не причастной камню], а привходит от него (искусства) другая, меньшая,
чем эта. Да и эта не осталась чистой в камне и не осталась такой, как хотел художник,
но [такой], насколько камень поддался искусству. Если искусство творит то, что
оно [есть само по себе] и чем обладает, то оно в большей и истиннейшей степени
прекрасно, обладая красотою искусства, конечно, большей и прекраснейшей, чем та,
которая есть во внешнем [проявлении]» (Эн. V, 8, 1).
Итак, Плотин впервые сознательно и аргументированно поставил вопрос
о связи искусства (при этом он имел в виду прежде всего изобразительные искусства
и архитектуру, т. е. не «свободные», но «механические» искусства!) с красотой.
«В античную эпоху,- писал В. Татаркевич, - об этой связи говорили мало. Именно
Плотин увидел в прекрасном первостепенную задачу, ценность и меру искусства. То
был, по выражению одного исследователя, «непреходящий подвиг Плотина»567.
Развивая платоновские идеи, Плотин утверждает, что существует некая чисто духовная
дисциплина искусства, типа, скажем, науки музыки или поэтики, в которой и обитает
идеальная красота искусства. Художник, овладев этой дисциплиной, «наукой», стремится
на ее основе творить собственно материальные произведения искусства, грубая и
косная материя которых не позволяет до конца воплотить идеальную красоту искусства,
поэтому реальные произведения содержат лишь более или менее удачные отображения
этой красоты. Степень приближения к «внутренней форме» искусства зависит от таланта
и технической подготовки художника.
В соответствии с таким пониманием задач искусства Плотин уточняет
и значение термина подражание применительно к изобразительным искусствам.
В понимании крупнейшего неоплатоника они подражают не внешнему виду природных
предметов, но их «внутренней форме», их эйдосам, идеям, логосам, стремясь выявить
и выразить в по-новому организованных с помощью искусства материальных формах
внутреннюю красоту изображаемой вещи. «А если кто-нибудь принижает искусства,
- пишет Плотин, - на том основании, что они в своих произведениях подражают природе,
то прежде всего надо сказать, что и произведение природы подражает [чему-то] иному.
Затем необходимо иметь в виду, что произведения искусства подражают не просто
видимому, но восходят к смысловым сущностям (λόγους),
из которых состоит и получается сама природа, и что, далее, они многое созидают
и от себя. Именно, они прибавляют к так или иначе ущербному [свои свойства] в
качестве обладающих красотой» (Эн. V, 8, 1).
Эти важные выводы античного мыслителя легли в основу не только средневековой
эстетики, но вдохновляли и вдохновляют на творческие подвиги десятки поколений
художников вплоть до наших современников. У многих теоретиков и практиков современного
искусства мы найдем высказывания, почти дословно совпадающие с плотиновскими.
И это не случайно, ибо суждения об искусстве этого, по выражению В. Татаркевича,
«наиболее абстрактного и трансцендентного из античных философов»568
отнюдь не были плодом чистого умозрения. Напротив, они опирались на глубокое проникновение
в наивысшее достижение античного художественного гения - творчество знаменитого
Фидия (см.: Эн. V, 8, 1).
Подчеркнув еще раз, что внешняя красота как в природе, так и в искусстве
не является главной, но люди, не понимая, что через внешнюю на них действует внутренняя
красота, гонятся обычно именно за телесной красотой (Эн. V, 8, 2). Плотин опять
напоминает об иерархичности красоты, дополняя иерархию новыми членами. Так же,
как между произведением искусства и Душой он вводит красоту самого искусства,
- так и между природными произведениями и Душой он ставит некоторую идеальную
красоту природы. «Итак, и в природе существует смысл красоты, являющийся первообразом
по отношению к [красоте] телесной; а по отношению к той, что в природе, существует
еще более прекрасный смысл в душе, от которого возникает и тот, что в природе»
(Эн. V, 8, 3). Здесь же Плотин отождествляет красоту со светом, отмечая, что красота
ума передается душе, «принося ей свет от большего света, как от красоты первичной».
Эти идеи впоследствии положил в основу своей эстетики анонимный автор знаменитых
«Ареопагитик»569.
От Ума, развивает далее свою теорию Плотин, происходит не только
красота Души, но и красота богов, которые совместно с Единым образуют некую божественную
целостность - космос божественности. Все «боги возвышенны, прекрасны; и красота
их неизъяснима» (Эн. V, 8, 3). Плотин говорит, конечно, не о внешней форме богов,
хотя считает, что и таковой они обладают, но о их внутренней сущности, которая
имеет бытие внутри божественного космоса в глубоком духовном единстве с Первопричиной.
Единство этого высшего мысленного космоса антиномично (единство и различие одного
и всех богов) и частично напоминает сложное тождество и различие ипостасей в христианской
Троице, как ее позже осмыслили, видимо, не без плотиновского влияния, отцы православной
догматики. Плотин так представлял себе высшего бога - источник всей красоты и
божественный космос: «И он, возможно, придет (после молитвы к субъекту духовного
созерцания. - В. Б.), неся свой собственный космос со всеми богами в нем,
будучи одним и всеми, когда и каждый есть все боги, соединяясь в одно и различествуя
заложенными в них силами, но по одной силе, свойственной многим, одним бог, будучи
одним, является всеми богами.
Действительно, сам он не убывает, когда те все возникают. Они -
вместе, и, в свою очередь, каждый - порознь в непротяженном покое, без всякой
чувственной формы. В последнем случае один был бы в одном месте, другой же - где-нибудь
в другом, и каждый был бы в самом себе не весь. Не имеет он [высший бог] и разных
самостоятельных частей в других или в самом себе; каждое в отдельности целое не
есть [тут] раздробленная сила и такая по величине, сколько в ней измеренных частей.
Оно всё есть сила, идущая в беспредельность и до беспредельности наполненная силой.
И он, высший бог, настолько велик, что и части его стали беспредельными» (Эн.
V, 8, 9). Эти идеи Плотина имели большое историческое будущее, ибо намечали путь
к преодолению однозначного дискурсивного описания величин, выходящих за узкие
рамки формальной логики. Греческая патристика особенно охотно встала на этот путь.
Предельной виртуозностью в описании нелогических закономерностей, как известно,
отличался Псевдо-Дионисий Ареопагит570.
Латинское христианство было менее восприимчиво к антиномическому мышлению. Августину
потребовалось написать целый большой трактат (один из главных в его творчестве),
чтобы, используя все свои знания, всю свою «диалектику» и риторику, попытаться
логически доказать возможность и истинность бытия нелогичного божественного
Триединства. По сути дела, разъяснению и обоснованию только что приведенной мысли
Плотина, которая, видимо, была известна Августину, но применительно уже к христианским
ипостасям, и посвящен его трактат «О Троице».
Возвращаясь непосредственно к эстетике, отметим, что именно этот
антиномический и максимально прекрасный мысленный космос Плотин наделяет истинным
бытием. У Плотина, как и вообще в греко-римской античности, красота онтологична
(собственно κόσμος по-гречески и есть красота, украшение,
и не случайно здесь именно этот термин применяет Плотин). Но у автора «Эннеад»
красота является не просто свойством бытийствующей субстанции, как во всей античной
традиции до него, но относится к самой сущности бытия. Степень причастности бытию
у него пропорциональна красоте субстанции: чем она прекраснее, тем - бытийственнее,
ближе к истинному и вечному бытию, и обратно. «Тамошняя же потенция,- пишет Плотин,-
имеет только бытие, и только бытие в качестве прекрасного. Да и где сущность была
бы лишена бытия в качестве прекрасного? С убылью прекрасного она терпит ущерб
и по сущности. Потому-то бытие и вожделенно, что оно тождественно с прекрасным,
и потому-то прекрасное и любимо, что оно есть бытие. Зачем разыскивать, что для
чего является тут причиной, если тут существует одна природа? Эта вот [чувственная]
ложная сущность, конечно, нуждается в прекрасном лжеобразе, приходящем извне,
чтобы и оказаться прекрасной и чтобы вообще быть. И она постольку существует,
поскольку участвует в красоте, соответственной эйдосу, будучи совершеннее в меру
этого приятия. Ибо более принимает форму (эйдос.- В. Б.) та сущность, которая
есть собственно прекрасная» (Эн. V, 8, 9). В другом месте Плотин прибегает к образному
выражению единства и неразрывности бытия и красоты и роли прекрасного в качестве
показателя благополучия бытия: «Прекрасное ведь и есть не что иное, как цветущее
на бытии», «цветущая на бытии окраска есть красота» (Эн. V, 8, 10).
В конце трактата V, 8 Плотин выдвигает бога, как отца всего прекрасного,
выше всей иерархии, а «первично прекрасным» обозначает его сына, т. е. Ум. Душа
же мира, как получившая красоту от него, отождествляется здесь с Афродитой (Эн.
V, 8, 13). В целом иерархическая система красоты (или прекрасного) у Плотина может
быть схематически представлена в следующем виде:
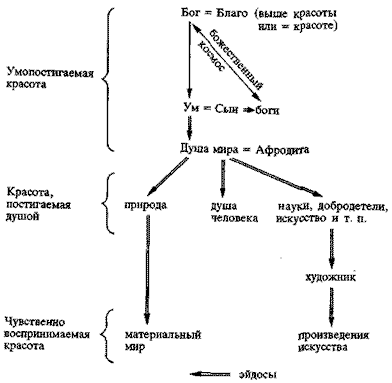
Таким образом, у Плотина вырисовывается стройная иерархия красоты,
состоящая из трех ступеней. Первая, и высшая, ступень - это умопостигаемая
красота. Источником ее является Бог (=высшему благу), а главными носителями последовательно
выступают Ум и Душа мира, которая, в свою очередь, дает начало следующей ступени
красоты - постигаемой душой (человека). На этой ступени находится идеальная
красота природы, красота души человека и красота добродетелей, наук, искусства.
Нижнюю ступень иерархии занимает чувственно воспринимаемая красота, к которой
Плотин относит реальную красоту мира и красоту произведений искусства. Передача
красоты с высших ступеней иерархии на низшие производится с помощью эйдосов, исходящих
от Ума, и имеет общую тенденцию к увеличению степени материализации красоты, ее
огрублению. На эту иерархию, так или иначе ее переосмысливая, во многом ориентировалась
средневековая эстетика и художественная культура.
Другой, не менее значимой проблемой для средневековой эстетики,
и для августиновской прежде всего, была плотиновская концепция восприятия прекрасного.
Не останавливаясь на ней подробно, мы отметим лишь следующие моменты.
Путь постижения красоты представлялся Плотину восхождением по иерархической
лестнице. Первый шаг на этом пути заключается в «бегстве» от чувственно-воспринимаемой
красоты «в родное отечество» - на более высокие ступени духовной красоты. На это,
полагает Плотин, намекал в «темных выражениях» еще Одиссей, который бежал от Цирцеи
и Калипсо, даривших ему усладу для глаз и чувственные наслаждения. Необходимо,
как бы закрыв глаза, пробудить в себе внутреннее духовное зрение, «которое имеется
во всех, а пользуются им немногие», и с его помощью приступить к созерцанию более
высоких ступеней прекрасного (Эн. I, 6, 8). Внутреннее зрение, пробудившись, сразу
не в состоянии смотреть на «блестящие предметы», т. е. на высшие ступени прекрасного.
Поэтому сначала душа должна научиться видеть прекрасные занятия и прекрасные дела,
которые совершаются хорошими людьми. После этого следует «взирать на души тех,
кто совершает прекрасные дела. Итак, каким же образом узрел бы ты красоту хорошей
души? Обратись к самому себе и посмотри» (Эн. I, 6, 9). Этот призыв обратиться
внутрь себя, к созерцанию глубин своего внутреннего мира - важное достижение позднего
платонизма (начала его мы находим еще у Филона Александрийского) и раннего христианства,
которое было подхвачено и активно развито патристической мыслью и средневековой
мистикой и философией. Оно оказало существенное влияние и на развитие эстетической
мысли, ибо привлекло особое внимание к глубинным движениям в человеческой душе,
к процессу эстетического восприятия, эстетического суждения и т. п. В последней
главе мы увидим, как много удалось сделать в этом направлении Августину, развившему
многие плотиновские идеи.
Понятно, что, погрузившись в созерцание своих глубин, далеко не
всегда найдешь там красоту, - слишком уж удобное место там для сокрытия всего
недостойного, порочного, безобразного, что отнюдь не чуждо человеку. Поэтому,
подчеркивает Плотин, если не найдешь внутри себя красоты, начинай ее формировать
в себе, наподобие скульптора, стремящегося изваять прекрасную статую: «одно он
отсекает, другое полирует, одно сглаживает, другое подчищает, пока не выявит лицо
статуи прекрасным. Так и ты: удали лишнее; выпрями то, что криво; очистив темное,
сделай его сияющим; и не прекращай обрабатывать свою статую, пока не заблистает
перед тобою богоподобная сияющая красота добродетели, пока не узришь мудрость
восседающую в священном чистом [величии]» (Эн. I, 6, 9).
Достигнув этой ступени, созерцающий субъект сам становится «истинным
светом», «самим зрением», способным к восприятию высшей красоты, ибо, полагает
Плотин, акт восприятия возможен только в том случае, если воспринимающий становится
«родственным и подобным» объекту восприятия. Никогда глаз наш не увидел бы солнце,
если бы не был солнцеподобным, и душа не в состоянии узреть прекрасное, не сделавшись
прекрасной. Поэтому всякий, кто желает видеть прекрасное, должен сам прежде стать
прекрасным (Эн. I, 6, 9), т. е. подготовить свой внутренний мир для восприятия
прекрасного. Только после этого возможно окончательное и полное восприятие красоты.
Здесь Плотин приходит к тонким психологическим наблюдениям. Он показывает, что
процесс восприятия красоты - процесс предельной психической активности субъекта
восприятия, когда он, охваченный любовью к объекту, сам приобщается к его красоте,
как бы внутренне сливается с ней и созерцает ее внутри себя - «тот, кто созерцает
его проницательно, в самом себе имеет созерцаемое» (Эн. V, 8, 10).
Плотин хорошо ощущал, что в процессе восприятия прекрасного в душе
возникает некий аналог объекта, некий образ, близкий, почти тождественный объекту,
который и возбуждает духовное наслаждение. Кроме того, Плотин знал и о другом
виде восприятия, нередко предшествующем только что описанному, когда душа переносит
на объект восприятия свой собственный образ и созерцает его как принадлежащий
объекту. Такое восприятие представлялось Плотину неистинным, но находящимся на
пути к истинному (Эн. V, 8, 11). Восприятие прекрасного у Плотина во многом отождествлялось
с постижением Первопричины, которое также осуществляется на сверхразумных путях,
в том числе и эстетических, в акте экстатического озарения. Мудрость богов «высказывается
не в суждениях, а в прекрасных образах»571,
а их сущность не подлежит дискурсивному описанию. Поэтому, вероятно, не так уж
парадоксален, как это казалось В. Татаркевичу, тот факт, «что этот наиболее абстрактный
и трансцендентный из античных философов уделял так много внимания эстетике и сыграл
такую важную роль в ее истории»572.
С особым интересом относился Плотин к зрительным образам и изобразительным
искусствам. А. Грабар573,
а вслед за ним и В. Татаркевич показали, что разработанная Плотином теория изобразительных
искусств была реализована не позднеримским, но раннехристианским искусством, т.е.
послужила определенным теоретическим фундаментом для европейского средневекового
искусства и особенно - византийского. Мы приведем здесь резюме этой теории, данное
В. Татаркевичем. Живопись по природе своей не имеет дела с «тем» миром, хотя и
может его иметь, если, подобно музыке, сосредоточит свои усилия на ритме и гармонии574.
Кроме того, она должна придерживаться следующих принципов. Необходимо избегать
тех изменений, которые являются, по мнению Плотина, следствиями несовершенства
зрения: уменьшения величины и потускнения цветов предметов, находящихся вдали;
перспективных деформаций, изменения облика вещей вследствие различия освещения.
Следует изображать вещи так, как мы видим их вблизи при всестороннем освещении,
изображать их все на первом плане, во всех подробностях и локальными красками.
Далее, так как материя отождествляется с массой и темнотой, а все духовное есть
свет, то живопись для того, чтобы прорвать материальную оболочку и достичь души,
должна избегать изображения пространственной глубины и теней. Изображенная поверхность
вещи должна излучать сияние, которое и является блеском внутренней формы вещи,
т. е. ее красотой575.
Искусство, отвечавшее этим требованиям, возникло в христианском мире еще до Плотина.
Неизвестно, знал ли он о его существовании. Во всяком случае, он лучше и глубже,
чем его христианские современники, изложил основы этого искусства и обосновал
их теоретически, исходя из своей эстетической концепции.
Завершая краткий очерк плотиновской теории красоты, подведем некоторые
итоги. Плотин в русле своей философии, опираясь на античные традиции и остро ощущая
духовную атмосферу своего времени, создал практически новую теорию прекрасного,
оказавшую существенное влияние на средневековую эстетику. Наиболее значимые для
последующего развития эстетики положения этой теории могут быть сведены к следующим.
1. Плотин дал определение красоты как наиболее совершенного и полного
выражения в материале внутренней формы, эйдоса, идеи вещи или явления.
2. Автор «Эннеад» построил развернутую иерархическую систему прекрасного,
нижнюю ступень в которой заняла красота материально го мира и произведений искусства.
3. Красота у Плотина неразрывно связана с сущностью и является показателем
бытийности ее носителя.
4. Красота впервые в истории эстетической мысли была сознатель но
связана с искусством. Важнейшую цель искусства Плотин усмотрел в выражении внутренней
красоты изображаемой вещи, ее «внутренней формы», идеи, эйдоса.
5. Плотин разработал интересную теорию восприятия красоты, уделив
главное внимание специфическим процессам психики субъекта восприятия.
6. В «Эннеадах» намечена новая теория изобразительного искусства,
которая нашла свое отражение в раннехристианском искусстве,
а полное воплощение в искусстве Византии.
Анализ взглядов Августина на проблему красоты показывает, что он
хорошо знал плотиновскую теорию576,
многое из нее воспринял и развил дальше, но некоторые идеи Плотина оказались ему
непонятными или чуждыми и он вернулся в отдельных вопросах к тем традиционным
античным взглядам, от которых Плотин отказался. Где-то Августин более предметен
и материалистичен, чем Плотин, более оптимистичен в отношении красоты материального
мира, а где-то и более ригористичен. В целом его понимание красоты, как отвечает
В. Перпет, «теплее... холодного мудрствования языческой античности»577.
В любом случае на пути от античности к Средним векам в понимании прекрасного Плотин
и Августин - две последовательные ступени, и только в этом ключе могут быть правильно
осмыслены эстетические взгляды гиппонского епископа.
В предшествующих главах мы время от времени касались тех или иных
аспектов проблемы прекрасного у Августина, ибо в его системе любая философская,
религиозная, этическая и, уж само собой разумеется, эстетическая проблематика
тесно связана с красотой. Поэтому здесь при выявлении общей концепции прекрасного
у гиппонского епископа мы вынуждены будем иногда возвращаться к его уже упомянутым
суждениям.
Красота у Августина, как и у его античных предшественников, объективна578.
«Августин живо (живей, чем древние) интересовался отношением человека к красоте,
любовью, которую человек проявлял к ней, однако он был уверен, что эта любовь
доказывает существование красоты вне человека, что человек есть зритель красоты,
а не ее творец»579.
Для античности этот вопрос был очевиден, но ко времени Августина открылись такие
глубины человеческой души, такие сложные процессы духовной жизни, что очевидность
эта стала вызывать сомнения. У самого Августина возникает знаменитый вопрос, который
продолжает обсуждаться в эстетике до сегодняшнего дня: прекрасны ли предметы потому,
что нравятся нам, или они нравятся потому, что прекрасны? Августин отвечает однозначно:
delectare quia pulchra sunt («нравятся потому, что прекрасны») (De vera relig.
32, 59), но знаменательна и сама постановка вопроса. Она показывает, как много
сомнений возникало у Августина в связи с проблемой прекрасного. Почти во всех
работах, так или иначе обращаясь к ней, он чувствовал, как справедливо отмечал
один из исследователей его эстетики, что нет ответа, который мог бы исчерпать
онтологическое богатство красоты580.
Августину близка концепция иерархичности прекрасного. Она уже достаточно
отчетливо звучала и у раннехристианских писателей, и у «великих каппадокийцев»,
но Августин воспринял ее от Плотина, о чем ясно свидетельствует его указание в
«Граде Божием». «Платоник Плотин» (Еп. III, 2, 13), пишет он, говорит, что от
высочайшего Бога, красота которого непостижима и невыразима, она распространяется
до всех земных и низких предметов. Так что красота самых маленьких цветов и листьев
обязана своим совершенством высшей, непостижимой, все в себе содержащей форме
(De civ. Dei X, 14). Вслед за Плотином и сам Августин рассуждает о передаче красоты,
как вида или формы, от высших ступеней к низшим: «По естественному порядку вид
(species), полученный от высшей красоты, слабейшим передают сильнейшие. И слабейшие
потому существуют, поскольку существуют, что им передается вид сильнейшими» (De
immort. anim. 18, 25). Плотиновская идея зависимости бытийности от красоты, хотя
и звучит здесь у Августина, тем не менее уже не имеет такого значения, как у столь
почитаемого им классика неоплатонизма. В «Исповеди» он вообще откажется от нее,
заявив, что «для тела «быть» отнюдь не значит «быть прекрасным» (Conf. XIII, 2,
3)581.
Мысль о распространении красоты от высшего к низшему Августин повторяет
и в другом трактате (см.: De vera relig. 45, 84).
Высшую ступень в иерархии Августина, как и у Плотина, занимает абсолютная
красота. Она практически неописуема, трудно постижима и поэтому априорно принимается
за некий бесконечно высокий идеал прекрасного. Августин достаточно часто обращается
к ней, в отличие от раннехристианских писателей, но так же, как и Плотин, не в
состоянии сказать о ней ничего конкретного. Чаще всего он просто обозначает тот
идеал и первопричину всякой красоты, к которой необходимо стремиться человеку582.
Эту абсолютную красоту Августин, пожалуй впервые в истории эстетики, последовательно
сливает с христианским Богом583
и, начиная с первых трактатов и до главных своих философско-религиозных трудов,
ставит понятие красоты на один уровень с понятием сущности584.
Бог представляется Августину «единственной и истинной красотой»
(Solil. I, 7, 14)585,
«от подражания которой все прекрасно, а по сравнению с которой - безобразно» (De
ord. II, 19, 51). Это вечная, неизменная, «всегда себе равная» красота, которая
«пространством не разделяется, во времени не изменяется, но сохраняет единство
и тождество во всех частях, в бытие которой люди не верят, хотя она является истинной
и высшей» (De vera relig. 3, 3). Бог - «красота всех красот» (pulchritudo pulchrorum
omnium) (Conf. III, 10, 6), «красота, из которой происходит все прекрасное» (De
div. quaest. 83, 30; Enar. in Ps. 32, 7; Conf. X, 34, 53 и др.). Созерцание Бога
есть созерцание высшей красоты. «Это созерцание Бога есть созерцание такой красоты
и достойно такой любви, что человека, одаренного в изобилии всевозможными благами,
но этого блага лишенного, Плотин без колебания называет самым несчастным» (Еп.
I, 6, 7) (De civ. Dei X, 16). Само «высшее блаженство» состоит не в чем ином,
как в полном узрении евыразимой красоты (Enchirid. 5). В «Исповеди» Августин неоднократно
дает описания Бога в эстетической терминологии, как некоего идеального эстетического
объекта. Приведем одно из них: «Поздно полюбил я Тебя, красота, такая древняя
и такая юная, поздно полюбил я Тебя! Вот Ты был во мне, а я - был во внешнем и
там искал Тебя, в этот благообразный мир, Тобой созданный, вламывался я безобразный!
Со мной был Ты, с Тобой я не был. Вдали от Тебя держал меня мир, которого бы не
было, не будь он в Тебе. Ты позвал, крикнул и прорвал глухоту мою; Ты сверкнул,
засиял и прогнал слепоту мою; Ты разлил благоухание свое, я вдохнул и задыхаюсь
без Тебя. Я отведал Тебя и Тебя алчу и жажду; Ты коснулся меня, и я загорелся
о мире Твоем» (Conf. X, 27, 38).
Вера в этот духовно сияющий, сверкающий, звучащий и благоухающий
идеал высшей красоты, глубокая любовь к нему подвигли и самого Августина на создание
прекрасных художественных образов, которыми особенно богата «Исповедь». В своем
понимании Бога как абсолютной красоты586
Августин сконцентрировал совокупность высших эстетических принципов, доведя их
до предельной идеализации. В конечном счете - это абсолютная простота и единство
(потому и сказать-то о ней практически нечего), от которых происходит все бесчисленное
множество прекрасных идей, дел, занятий, миров, тел и т. п. - все бескрайнее,
многообразное море красоты.
Следующей (при движении вниз) ступенью красоты, более доступной
человеку и поэтому более определенной, у Августина выступает духовная, или интеллигибельная,
красота. Она соответствует плотиновской ступени красоты, постигаемой душой. Любовь
к красоте духовной (amor intelligibilis pulchritudinis) Августин считал большим
благом (De civ. Dei V, 13). Приведенная в гл. 3 августиновская аллегория философии
и филокалии (см.: Contr. acad. II, 3, 7) в свете общей духовной ориентации Августина
должна быть понята не как противопоставление любви к мудрости и любви к красоте,
но как предпочтение красоты духовной красоте телесной, материальной, о чем он
неоднократно писал и в более поздних работах587.
Духовная красота связывается Августином прежде всего со сферой внутреннего мира
человека, далее - с его деятельностью, занятиями, нравственным обликом, т. е.
во многом является оценочным критерием духовной и нравственной жизни человека.
Несравненной красотой сияет мудрость, поэтому она и воспламеняет
к себе любовью многие сердца (Solil. I, 13, 22). Красота разума pulchritudo rationis)
просвечивает во всем упорядоченном и оформленном мире явлений. Именно она влечет
к себе всех истинных ценителей прекрасного (De ord. I, 8, 25).
Особое внимание уделяет Августин красоте души человека, которая
составляется из комплекса «праведных» мыслей, достойных в нравственном отношении
поступков и добродетелей, т. е. эстетическое здесь тесно сливается у Августина
с этическим588.
Добродетели, неоднократно утверждает Августин, делают душу прекрасной, а пороки
безобразят ее (De Gen. ad lit. VII, 6, 9). Душевная красота (decus animi), а точнее,
«как бы семена красоты» присущи всякой, даже самой порочной душе. Они силятся
прорасти в истинную красоту и пускают свои причудливо извивающиеся ростки и побеги
шероховатостями пороков и ложных убеждений. Даже в самой закоренелой душе, если
внимательно присмотреться, можно заметить эти ростки (Contr. acad. II, 2, 4).
Праведность, или справедливость (justitia)589,
служит главным украшением души (Serm. 9, 10, 16; Enar. in Ps. 41, 7); она «есть
высшая и истинная красота» (Enar. in Ps. 44, 3). «Праведность является в некотором
роде красотой души, благодаря которой человек становится прекрасным, часто даже
имеющий горбатое и уродливое тело» (De Trin. VIII, 6, 9; ср.: Enar. in
Ps. 64, 8; In Ioan. ev. 3, 21). Если у меня есть двое слуг,- приводит пример Августин,-
один прекрасный телом, но не верный, а другой - верен мне, но уродлив лицом и
телом, то, конечно же, второго я люблю и ценю больше, несмотря на его физическое
(телесное) уродство (Serm. 159, 3, 3).
Поэтому не случайно уже приводившиеся нами семь ступеней совершенства
души (из De quant. anim. 35, 79) Августин понимает и как семь ступеней прекрасного
(см. гл. III)590.
Прекрасна вся сфера духовной деятельности человека. Августин неоднократно
отмечал не только пользу, но и красоту наук, которая служит не последним стимулом
для занятий ими591.
Самой же прекрасной из наук и искусств является философия (см.: Contr. acad. Π,
2, 4). Герою одного августиновского диалога она представляется значительно более
прекрасной, чем все поэтические образы и герои, «чем сама Венера и Купидон, чем
все страстные чувства» (De ord. I, 8, 21). Речь идет, конечно, о религиозной философии,
ведущей к «истинной мудрости» и постижению Первопричины, т. е. абсолютной красоты.
В главе, посвященной порядку, мы видели, что Августин особое внимание
уделял красоте целого во всех проявлениях, красоте космического и социального
универсумов. Наличие бесчисленного множества прекрасных вещей и явлений в окружающем
нас мире и в структуре человеческого духа, с одной стороны, и идея абсолютной,
простой красоты - виновницы всего моря прекрасных вещей и духовных сущностей,
- с другой, привели Августина к сознанию глубокой упорядоченности всех вещей и
явлений, как внутри себя, так и в некой универсальной и всеобъемлющей целостности
бытия. Целостность (totus, in toto) и единство (unitas) становятся главной гарантией
красоты592.
Поэтому-то в сотворенном мире прекрасно все то, что образует органическую целостность.
Высшей красотой наделена сама вселенная, которая не случайно названа универсумом
от unus (один), т. е. от единства (De ord. Ι, 2, 3). Августин, опираясь на
реальные наблюдения за красотой природных, социальных и художественных явлений,
делает интересные выводы. Вслед за Плотином, утверждавшим, что «если целое прекрасно,
то и части должны быть прекрасны, ибо прекрасное не может состоять из безобразных
частей, но все части должны получить красоту» (Эн. I, 6, 1), Августин заявляет,
что «в том истинно интеллигибельном мире всякая часть, как и целое, прекрасна
и совершенна» (De ord. Π, 19, 51). Но это - идеальное состояние, цель, к
которой следует стремиться. В материальном же мире все обстоит, как мы уже отчасти
видели в главе о порядке, значительно сложнее.
Грехопадение первого человека привело к появлению дурных, злых и
безобразных вещей и явлений в мире, к порче изначально прекрасных частей универсума.
Тем не менее это не повлияло на красоту целого. Универсум остался неизменным,
но его красота составляется теперь на основе гармонии прекрасных, нейтральных
или незначительных в отношении красоты и даже безобразных предметов и явлений.
Августин с удивлением констатирует, что после грехопадения, утратив свою изначальную
красоту, «род человеческий сделался великой красотой и украшением земли и управляется
божественным промыслом так прекрасно, что неизреченное искусство врачевания обращает
само безобразие пороков в неведомо какую своего рода красоту» (De vera relig.
28, 51), «так что, если что-либо в отдельности и становится безобразным (deformia),
универсум по-прежнему и с ним остается прекрасным» De Gen. ad lit. III, 24). В
этом плане и побежденный в петушином бою петух представляется Августину в определенном
смысле прекрасным: «знаком же побежденного служили выщипанные с шеи перья, в голосе
и движениях все безобразное, но тем самым, не знаю как, с законами природы согласное
и [потому] красивое» (De ord. Ι, 8, 25).
Внимательно всматриваясь в отрицательные и безобразные стороны мира,
Августин начинает замечать особую закономерность организации прекрасного целого,
которая состоит как бы в соединении и чередовании совершенных и несовершенных
(безобразных) элементов (De Gen. ad lit. I, 17. 34), т. е. приходит к закону контраста,
или оппозиции, о котором уже шла речь в гл. IV, как к одной из закономерностей
организации красоты целого (см.: De ord. I, 7, 18; De civ. Dei XI, 18).
Безобразные или некрасивые элементы прекрасного целого могут быть,
по мнению Августина, таковыми объективно, вследствие порчи или недостатка красоты,
и субъективно, т. е. только в восприятии человека. Как христианин, свято веривший
в творение мира Богом, Августин стремился во всех частях и незначительных элементах
творения усмотреть присущую им особую красоту, ибо Бог не мог, конечно, сотворить
ничего безобразного (в гл. IV мы видели уже. как он восхищается красотой червя).
Однако люди, не умея осмыслить красоту многих неприятных растений, насекомых или
животных в структуре целого универсума, незаслуженно считают их безобразными.
«Красота (decus) этого порядка, - пишет Августин,- потому не радует нас, что мы,
составляя, вследствие нашего смертного состояния, ее часть, не можем воспринять
всей совокупности его, которой вполне подходят и соответствуют частицы, которые
нам не нравятся» (De civ. Dei XII, 4). Тем не менее, всем, даже насекомым, питающимся
трупами, или паразитам, присуща «некоторая своего рода естественная красота»,
возбуждающая большое удивление в созерцающем их человеке (De Gen. ad lit. III,
14).
Красота целого, возникающего на основе соединения прекрасных, нейтральных
и безобразных частей, значительно превосходит не только красоту «незначительных»
членов и элементов, но и красоту любых, входящих в его состав, даже самых прекрасных
частей. В отдельности все прекрасно, как сотворенное Богом, а в целом - прекрасно
как упорядоченное им (см.: De Gen. ad lit. imp. 5, 25)593.
Упорядочение же - особый закон, приводящий все как бы в новое качество - более
прекрасное. Так что целостность и единство, как результат действия закона упорядочения,
приводят элементы к качественно новой красоте целого. Так, например, прекрасны
все члены человеческого тела: и глаза, и нос, и голова, и руки, и ноги. Однако
тело, целиком состоящее из этих прекрасных членов, значительно прекраснее каждого
из них в отдельности. Из прекрасных частей складывается красота целого. «Такова
сила и могущество (potentia) совокупности (integritatis) и единства, что даже
очень хорошие элементы тогда нравятся, когда сходятся и соединяются в некий универсум.
Универсум же и получил наименование от единства (ad unitate)» (De Gen. contr.
Man. I, 21, 32). Вывод этот касается, естественно, не только человеческого тела,
но всех элементов материального мира вообще, о чем Августин писал в своей «Исповеди»:
«Тело, состоящее из красивых членов, гораздо красивее, чем каждый из этих членов
в отдельности, потому что хотя каждый из них сам по себе и красив, но только их
стройное сочетание создает прекрасное целое» (Conf. XIII, 28, 43).
Августин не ограничивается этой констатацией, он стремится глубже
всмотреться как в красоту целого, так и во взаимосвязи общей красоты и красоты
отдельных ее элементов. В одном из трактатов он прямо пишет об этом: «И члены
тела, хотя они и в отдельности прекрасны, однако в целом составе тела гораздо
прекраснее. Если бы. к примеру, мы увидели прекрасный и достойный похвалы глаз
отделенным от тела, то, конечно, не нашли бы его уже таким красивым, каким находим
его в совокупности с другими членами на своем месте в универсуме тела» (De Gen.
ad lit. III, 24, 37). Целостность, таким образом, определяет не только совокупную
красоту целого, но и каждого отдельного его члена, ибо их красота существенно
меняется (возрастает), когда они занимают свое место в целостной структуре. Темный
цвет, сам по себе некрасивый, в структуре целой картины приобретает особую красоту
(De vera relig. 40, 76). Августин подмечает здесь важную взаимозависимость красоты
сложных объектов и красоты составляющих их членов.
Интерес к подобным вопросам сохранился у Августина с юности, когда
он в первом своем трактате пытался различить и даже противопоставить два вида
прекрасного - pulchrum и aptum594.
Pulchrum - это собственно прекрасное, «нечто прекрасное само по себе», прекрасное
в себе, красота целого. Aptum же - нечто, соответствующее чему-то, пригодное для
чего-то иного, т. е. красота части целого, «относительно», или «условно», прекрасное
в терминологии А. Викмана;595
типа соответствия членов тела целому организму или предмета его назначению, как,
например, башмака ноге (Conf. IV, 13, 20). В одном из писем Августин дает такую
дефиницию этих видов красоты: «Прекрасное (pulchrum) рассматривается и восхваляется
ради него самого, его противоположностью является уродливое и безобразное. Соответствующее
(aptum) же, чьей противоположностью будет непригодное (ineptum), означает, напротив,
как бы некую привязанность и оценивается не из него самого, но из того, с чем
оно соединяется» (Ер. 138, 6). Aptum всегда содержит моменты пользы и целесообразности,
которые отсутствуют в собственно прекрасном. Поэтому, как отмечает В. Татаркевич,
aptum отличается у Августина от прекрасного и «тем, что оно относительно, ибо
один и тот же предмет может соответствовать одной цели и не соответствовать другой»596.
Отсюда относительность красоты многих элементов мира, что приводит нередко к их
негативной оценке как безобразных. Для объективной оценки таких вещей необходимо
знать, с чем они согласуются и в состав какого целого входят (ср.: De civ. Dei
XVI, 8). Ведь и языки адского пламени покажутся прекрасными, если знать, какую
функцию выполняет оно в универсуме (XII, 4; De nat. bon. 38). Однако человек не
в состоянии почувствовать и воспринять красоту мироздания в целом. Он охватывает
только отдельные части этой красоты (Ер. 166, 5, 13; Contr. ер. Man. 41, 47),
но и они важны и значимы для него, так как в них запечатлены отблески абсолютной
красоты. К доступным человеческому восприятию элементам красоты универсума Августин
относит все обозримые части природного мира, красоту человека и красоту произведений
искусства, т. е. чувственно воспринимаемую красоту во всех видах.
Августин отмечает три типа отношения человека к материальному миру.
Первый - когда весь сотворенный мир принимают, как манихеи, за зло и порицают
его, второй - когда людей привлекает красота мира сама по себе и он является предметом
любви сам по себе, и третий, самый высший,- когда в красоте мира видят его Творца
и свою любовь направляют к нему (Conf. XIII, 31, 46). Христианская идея творения
мира Богом из ничего определила специфику отношения самого Августина к материальному
миру и его красоте. Он уже далек от неоплатонического пренебрежения или, тем более,
манихейского отрицания красоты мира, но ему отнюдь не импонирует и идея абсолютизации
этой красоты. Она обладает своим совершенно определенным местом в универсуме и
своей определенной ценностью. По сравнению с абсолютной красотой она «ничтожна»
(nulla), ибо и создана-то из ничего, «рассматриваемая же сама по себе, она удивительна
и прекрасна» (De quant. anim. 33, 76), ибо является творением божественного разума
и отражением божественной красоты. Красота мира, как уже указывалось, служила
в глазах христиан важным аргументом в доказательстве бытия Бога, и поэтому Августин
постоянно опирается на нее, чтобы указать на ее вечный и неизменный архетип.
Августин умел глубоко чувствовать красоту окружающего мира. Его
от природы обостренное эстетическое чувство не уставало восхищаться и радоваться
красоте и блеску неба, свету солнца, луны и звезд, удивительной голубизне моря,
красоте и разнообразию пейзажа, бесчисленному многообразию форм растительного
и животного мира, включая самых мелких насекомых, червей и еле приметных в траве
невзрачных цветов; он с радостным восхищением писал о красоте утренних и вечерних
зорь и ночных зарниц, о красоте движения небесных тел и мелодичном журчании ручья.
Какими словами, восклицает он, может быть передана многообразная «красота неба,
земли и моря, такого обилия столь удивительной красоты света, красоты солнца,
луны и звезд, тенистых лесов, окраски и благоухания цветов, разнообразия и множества
щебечущих, блистающих роскошью оперения птиц!» (De civ. Dei XXII, 24; ср.: Enar.
in Ps. 148, 15). «За что любят их (вещи этого мира. - В. Б.), если не за
то, что они прекрасны?» (Enar. in Ps. 79, 14).
Оправдание красоты природы и материального мира, к которому пришло
христианство еще до Августина (он в данном случае только развивал уже наметившуюся
тенденцию), отнюдь не было повторением одного из мотивов античной классической
эстетики, который Августин отметил в качестве второго типа отношения к миру. Теперь
все усложнилось. Если Плотин просто бежал от материальной красоты к интеллигибельной,
то Августин стремится оправдать ее указанием на ее божественную Первопричину.
В период господства утонченной позднеантичной духовности стало просто дурным тоном
хвалить красоту материального мира, но христианство пришло к тому, что ее нельзя
и игнорировать. Ее надо было оправдать введением в этот мир духовности. На это
и была ориентирована, в частности, эстетика Августина. Земная красота как творение
верховного Художника осмысливается теперь как образ божественной красоты и как
знак, указывающий на нее. Конечно, здесь очевидны и мотивы эстетики платонизма,
но акцент в них существенно переместился. Если платоники презирали земную красоту
на том основании, что она лишь слабое отражение и бледная тень духовной красоты,
то христиане именно потому возлюбили материальную красоту, что она - образ (отражение
и тень) и знак красоты божественной, отображает ее хотя бы частично и постоянно
указывает на нее. Чувственная красота у Августина, отмечает современный историк
эстетики, «в значительной мере утратила свою непосредственную ценность, но нашла
опосредованную, религиозную. Она стала скорее средством, чем целью»597.
Красота и стройность мира свидетельствуют о том, что он сотворен
неописуемо прекрасным Богом (De civ. Dei XI, 4). «Прекрасно все созданное Тобой,
и несказанно прекрасен Ты, создатель всего» (Conf. XIII, 20, 28).
Обосновав, таким образом, прежде всего для себя самого, значимость
материальной красоты, Августин со спокойной совестью приступает к ее рассмотрению.
Он различает два основных вида красоты - статическую (красота цвета и форм, видимых
глазом) и динамическую (красота движений, воспринимаемых слухом или зрением)598.
Известно, что первый вид красоты восходит к древнегреческой эстетике, а второй
был больше присущ эстетическому сознанию ближневосточных народов599.
Раннехристианская эстетика знала оба вида красоты, но динамическую красоту, как
более духовную, ценила выше. Этой же точки зрения придерживался и Августин. Живое
ощущение потока времени и истории, в котором странствует град Божий, побуждало
Августина быть очень чутким именно к красоте движения, временного ритма600.
Красота мира проявляется в постоянном движении, развитии и смене его компонентов:
«в результате ухода и появления вещей сплетается красота веков» (De Gen. ad lit.
I, 8, 14). Статическая красота вещей числится в эстетической иерархии Августина
«последней красотой» (extrema pulchritudo), ибо она не может вместить в себя красоту
универсума. Только процесс появления и смены прекрасных форм дает картину
единой красоты универсума (De vera relig. 31, 41). Ритмически, т. е. по законам
чисел, организованные движения лежат в основе музыки, поэзии, танца, образуя основу
их красоты. Динамическая красота присуща и самой человеческой жизни, ибо удовольствие,
счастье, радость - все это процессы, протекающие во времени. Само эстетическое
суждение, которым поверяется наслаждение, как мы увидим ниже (см. гл. X), также
ритмически организованный процесс, протекающий в нашей душе. Не случайно Августин
главное внимание в своей эстетике уделял числу и ритму. Именно в них |он видел
структурно-динамическую основу красоты. Однако и статическая красота визуально
воспринимаемых предметов не была оставлена им без внимания. Осуждая стремление
людей к телесной красоте, увлеченность ею, он тем не менее сам постоянно восхищался
ею и потратил немало душевных сил на ее исследование. Телесная красота занимает
свое, хотя и достаточно низкое, место в общем порядке мироздания и получает у
Августина соответствующую оценку, которая в целом оказывается, может быть, даже
более высокой, чем того желал сам Августин.
Красота материальных тел определяется их видом, или образом (species),
и формой (forma). При этом Августин различает даже «прекраснейшее по виду» (speciosissimum)
и «прекраснейшее по форме» (formosissimum) (De vera relig. 18, 35). Вид
и форма определяют бытие вещи. То же, «из чего Бог создал все, не имеет
никакого вида и никакой формы,- есть не что иное, как ничто (nihil)». Обладание
хотя бы малейшей долей формы или вида уже наделяет вещь бытием (18, 35). Следовательно,
акт творения сводится к наделению вещей видом и формой. Перефразируя плотиновскую
мысль о связи бытийственности вещи с ее красотой, Августин писал: «...тело же
тем больше есть (magis est), чем оно благовиднее (speciosius) и прекраснее; и
тем не менее есть (minus est), чем оно безобразнее и бесформеннее (deformius)»
(De inmort anim. 8, 13). Вид и форма наделяют вещь не только бытием, но бытием
в качестве прекрасной в своем роде вещи. Всякая сотворенная вещь, пишет Августин,
«прекраснее в своем роде, ибо она облечена формой и видом (forma et speie continetur)»
(De vera relig. 20, 40). Даже элементарные геометрические формы типа окружности,
треугольника, квадрата обладают своей красотой, не говоря уже о формах растительного
и животного мира.
Особое внимание Августина привлекает красота человека, которая по
общей для всей поздней античности традиции делится им на красоту души и красоту
тела. Ясно, что красота души ценится им выше, ибо она состоит в родстве с интеллигибельной
красотой601.
Не случайно, что и совершенствуется она, как мы видели, поднимаясь по семи ступеням
прекрасного (De quant. anim. 35, 79). Душа прекраснее тела в идеале, т. е. абсолютно
прекрасная душа на высшей ступени своего совершенства обладает более высокой красотой,
чем абсолютно прекрасное тело. Однако в действительности душа человека далеко
не всегда находится в этом состоянии. Человеку необходимо много работать по упорядочению,
очищению и формированию своей души, прежде чем она засияет своей первозданной
красотой, свидетельствующей о способности души к узрению и восприятию абсолютной
красоты (ср.: De ord. II, 19, 5). Душа при этом оказывается более податливой в
части исправления своих недостатков, чем тело.
Постоянно помня, однако, о том, что человек был создан в единстве
души и тела, Августин пытается преодолеть преграду, возведенную между душой и
телом позднеантичными философами платоновской ориентации и восточными дуалистами
и спиритуалистами. Плохо, по его мнению, не то, что в человеке душа соединена
с телом (это как раз благо), но дурна сама устремленность души к телесным благам
и вожделениям плоти, т. е. направленность (intentio) души на телесное, а не на
духовное. «Душа человека,- писал он,- не оскверняется телом. Не всегда душа оскверняется
телом, когда оживляет тело и управляет им, но лишь тогда, когда вожделеет к смертным
благам, относящимся к телу» (De fid. et symb. 4). Душа нередко бывает безобразнее
тела, когда поощряет ложь и пороки, и, напротив, тело своей красотой может способствовать
возвышению души из ее падшего состояния. Тело, писал Августин, «имеет красоту
своего рода и тем самым значительно возвышает достоинство души, где и скорбь и
болезнь заслуживают чести какой-то красы. Стало быть, неудивительно, если душа,
действующая в смертном теле, испытывает воздействия от тел. И не следует думать,
что, так как она лучше тела, все, что в ней происходит, лучше, чем то, что происходит
в теле» (De mus. VI, 4, 7)*.
Эта диалектика красоты души и тела существенно отличает августиновскую
концепцию от плотиновской. Автор «Эннеад», как мы помним, фактически не признавал
красоты человеческого тела, а если и признавал, то считал ее столь незначительной,
что не выделял особо из красоты материальных предметов, т. е. красоты, занимавшей
в его иерархии низшую ступень. Он был глубоко убежден в том, что «для человеческой
души тело - оковы и гробница, а сам космос для нее - мрачная пещера» (En. IV,
8, 3). В противовес этой широко распространенной в поздней античности (в частности,
и у стоиков) тенденции принижения красоты человеческого тела, многие теоретики
раннего христианства (на латинской почве можно указать хотя бы на Лактанция) занялись
ее апологией. Однако уже у каппадокийцев на Востоке проявилась ставшая характерной
для патристики в целом двойственность в отношении телесной красоты человека. Августин
поддерживает именно эту тенденцию, отдавая нередко дань и Лактанциевой увлеченности
телесной красотой. Последнее вполне понятно: пылкий и страстный африканец, долгие
годы не находивший в себе сил отказаться от плотской красоты и любви женщины ради
красоты духовной, уже давно осознавая последнюю как красоту более высокую, несовместимую
с плотской.
Августин считал в порядке вещей, что прекрасная женщина (как и красота
мудрости) отдает себя лишь тому, кто бескорыстно и безраздельно любит только ее
одну (Solil. I, 13, 22). Однако увлеченность красотой женского тела разжигает
вожделение и ведет к греху, поэтому женская красота опасна. Формы женского тела
прекрасны, но они приобретут более прекрасный вид по воскресении из мертвых, и
тогда уже будут служить не плотскому наслаждению или продолжению рода, но исключительно
новой, неутилитарной красоте. Тела всех людей вообще по воскресении будут выполнять
исключительно эстетическую функцию, так как все телесные и утилитарные функции
утратят свою актуальность в вечной жизни (De civ. Dei XXII, 17; 19). Отсюда особое
внимание христиан к красоте тела. Августин постоянно напоминает читателям, что
красота человеческого тела от Бога, высшей и абсолютной красоты (De vera relig.
11, 21), и что видимые ее формы преходящи (см.: De lib. arb. I, 15, 31). Красота
тела «уничтожается или телесными болезнями, или, что более желательно, старостью;
несовместимы два желания - оставаться красивым и дожить до старости; с наступлением
преклонного возраста красота улетает; не могут жить вместе блеск красоты и стоны
старости» (In Ioan. ev. 32, 9). Болезни до неузнаваемости искажают человеческое
тело, лишая его всякой красоты (De civ. Dei XIX 4). Все это, конечно, обесценивает
в глазах Августина, устремленного к вечным и неизменным идеалам, красоту человеческого
тела. И тем не менее он убежден, что человеческий род, не в последнюю очередь
именно благодаря телесной красоте, является «величайшим украшением земли» (XIX,
13). Не случайно, замечает он, и в Писании «прекрасных телом (speciosos corpore)
обычно называют добрыми (bonus)» (XV 23).
Совершенная и разумная организация, конечно, необходима телу человека
и отдельным его членам и органам для выполнения определенных утилитарных функций.
И тем не менее Августин вслед за Лактанцием (см.: De opif. Dei 8-10) подчеркивает,
что многое в человеке создано исключительно для красоты. «Но даже если,- пишет
он,- не брать в расчет утилитарной необходимости, соответствие всех частей [тела]
так размеренно и пропорциональность (parilitas) их так прекрасна, что не знаешь,
что больше имело место при сотворении его (тела. - В. Б.): идея пользы
или идея красоты (ratio decoris). По крайней мере, мы не видим в теле ничего сотворенного
ради пользы, что в то же время не имело бы и красоты». Все это для нас было бы
еще более ясным, если бы мы знали точные законы (числовую меру - numeros mensuramm),
по которым члены и органы тела (не только внешние, но и внутренние) соединены
между собой и функционируют в структуре целого тела; тогда мы постигли бы самую
«красоту смысла» тела во всей ее полноте и глубине. Однако ни анатомы, ни медики
не берутся за выявление этой внутренней гармонии тела, оставляя нам пока лишь
восхищаться внешней красотой. Во внешнем же облике человека есть такие части и
органы, которые созданы исключительно для красоты (decus), а не для пользы. Так,
сосцы на груди мужчины или его борода имеют сугубо декоративное назначение602.
На основании всего этого Августин приходит (в который уже раз!) к чисто эстетскому
выводу, отдавая приоритет незаинтересованной красоте по сравнению с преходящей
пользой (utilitas). Если нет ни одного члена в человеческом теле, резюмирует он,
который помимо своей утилитарной функции не обладал бы еще и красотой, но есть
члены, «служащие лишь красоте, но не пользе; отсюда, думаю, легко понять, что
при сотворении тела его достоинство (dignitas) ставилось выше практической потребности.
Ибо утилитарная потребность (necessitas) минует и настанет время, когда мы будем
взаимно наслаждаться одной только красотой без всякого вожделения» (De civ. Dei
XXII. 24).
Здесь, как отмечал один из первых исследователей эстетики Августина,
и содержится ответ на вопрос, почему при творении человеческого тела красоте было
уделено больше внимания, чем пользе, - «именно потому, что по воскресении большинство
членов тела будет служить не практическим, но исключительно эстетическим целям»603.
Красота человеческого тела, таким образом, отнюдь не презренна и ничтожна, но
играет и будет играть в будущем важную роль в структуре вселенского бытия. В этом
плане раннехристианская эстетика сделала шаг вперед по сравнению с античностью.
Особое значение в патриотической эстетике имела полемика о красоте
Христа. С одной стороны, высказывалось мнение, что он блистал не только внутренней
- духовной и душевной красотой, но и красотой тела, одухотворенного его божественностью.
С другой - и это было особенно распространено в раннехристианский период,- считалось,
что Христос специально принял тело невзрачное, и даже безобразное, чтобы таким
образом возвысить самую презренную плоть до божественного величия, воссоединить
все низменное с возвышенным; также и для того, чтобы испытать и претерпеть сполна
все, что приходится на долю самого униженного и забитого человека, чтобы быть
внешне «достойным» оплевания, поругания, позорной смерти, для претерпения которых
он прибыл в мир; также, наконец, и для того, чтобы красотой своего внешнего вида
не отвлекать людей от тех истин, которые он им принес,- от красоты духовной.
Августин придерживался второй точки зрения, которая опиралась на
прямые евангельские указания: «Он не имел ни вида, ни красоты, когда били его
кулаками, когда увенчивали терновым венцом, когда осмеивали висящего на кресте»
(De cons. evang. I, 31, 48). Уродство Иисуса, однако, подобно уродству корня,
из которого вырастает прекрасное дерево (Serm. 138, 6). Знал Августин и о красоте
Христа, «который возлюбил [всех] оскверненных, чтобы сделать их прекрасными»,
и поэтому пришел на землю и стал видимым (In Ioan. ev. 10, 13). Он должен был
объединить в себе прекрасное и безобразное мира сего, чтобы снять их противоборство
и привести к внешней и единой красоте. Сложную внутреннюю взаимосвязь прекрасного
и безобразного в образе Христа Августин стремится поэтому осознать как отражение
присущей тварному миру диалектики добра и зла, вечного и временного. Он приходит
здесь к ощущению закономерности антиномического (уже негармонического)
единства прекрасного и безобразного, когда безобразное должно не выражать,
но обозначать по контрасту (и благодаря этому контрасту) свою противоположность.
Более осознанно к решению этого важного для эстетики вопроса подойдет несколько
позднее на Востоке Псевдо-Дионисий Ареопагит. Августин, опираясь на новозаветный
и раннехристианский (вспомним Тертуллиана) антиномизм, только нащупывал его решение.
Поводом для размышлений о внешнем виде Богочеловека послужили слова
44-го псалма: «Ты прекраснее сынов человеческих», которые христианская традиция
относила к Христу. Но Августин хорошо знает и другое ветхозаветное высказывание,
также отнесенное к воплотившемуся Логосу: «Видели мы его, и не было в нем ни вида,
ни красоты (non habebat speciem neque decorem)» (Is. 53, 2). Как совместить эти
суждения и как понимать каждое из них? Августин уверен, что второе высказывание
относится к внешнему облику Христа, и принимает его как должное. Мы любим Христа,
но значит ли это, что мы должны любить и безобразное в нем? К тому же предметом
любви, как вслед за Плотином учил сам Августин, может быть только красота. Как
же разрешить это противоречие? «Безобразное любят для того,- отвечает себе во
всем сомневающийся Августин,- чтобы оно перестало быть безобразным604.
Собственно, любят не безобразное, ибо безобразное не может быть предметом любви;
он (Христос. - В. Б.) полюбил его, ибо должен сберечь его: он опрокинет
безобразное и сформирует [из него] красоту». Как же после этого не любить нам
его даже в его неприглядном виде? «Вот он нашел [в нас] много безобразного и полюбил
нас; [неужели же] мы, найдя в нем нечто безобразное, не полюбим его?» Чтобы увидеть
под этим внешним безобразием красоту, необходимо понять все безграничное милосердие
божественного акта воплощения и всех последующих событий.
Иудеи не увидели этого по своему неразумию. «Для понимающих же великая
красота заключена в словах: И Слово стало плотью (Ин 1, 14). А я не желаю хвалиться,-
говорит один из друзей жениха605,
- разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа (Гал 6, 14). Этого мало, только
не стыдиться его, если ты еще не будешь прославлять его. Почему он не имел ни
вида, ни красоты? Потому что распятый Христос для евреев - скандал, а для язычников
- глупость606.
Почему же он и на кресте был прекрасен? Потому что глупое Божие мудрее человеков;
и немощное Божие сильнее человеков (1 Кор 1, 25). Нам же, верующим, жених везде
предстает прекрасным. Прекрасен Бог, Слово у Бога; прекрасен он во чреве Девы,
где он не утратил божественности и обрел человечность; прекрасно Слово в облике
новорожденного младенца; ибо, когда он был еще младенцем и сосал грудь [матери],
сидя [у нее] на руках, заговорили небеса, воспели хвалебную песнь ангелы, звезда
направила [стопы] волхвов и они поклонились [лежащему] в яслях, [пришедшему стать]
пищей для кротких. Итак, прекрасен он на небе, прекрасен на земле; прекрасен во
чреве [матери], прекрасен на руках родителей, прекрасен в чудесах, прекрасен бичуемый;
прекрасен как призвавший живущих к жизни, прекрасен не сетующий на смерть; прекрасен
как отдающий душу и прекрасен как опять [ее] воспринимающий; прекрасен на древе
[креста], прекрасен во гробе, прекрасен на небе. С пониманием слушайте песнь (стих
псалма. - В. Б.), и пусть немощь тела не отвратит глаз ваших от
блеска красоты его. Высшей и истинной красотой является праведность: прекрасен
тот, кто праведен» (Enar. in Ps. 44, 3).
Невзрачный внешний облик Христа, таким образом, вполне соответствует,
по Августину, его высокой духовно-душевной красоте. Эти представления легли в
Средние века на Западе в основу живописного образа Христа. На многих средневековых
изображениях, особенно у немецких мастеров, тело и лицо Христа доведены часто
до весьма неприглядного вида, прежде всего в изображениях страстей (особенно образы
Schmerzensmann) и Распятия607.
Подчеркнутая экспрессивность формы и цвета в целом сочетаются здесь с предельно
натуралистическим изображением деталей (раны и язвы на теле, капли крови, уродливо
вывернутые посиневшие и позеленевшие пальцы рук и ног и т. п.). что, с одной стороны,
может оттолкнуть зрителя, а с другой - должно чисто живописными средствами выразить
весь ужас и трагизм ситуации, в которой по собственной воле оказался Сын Божий,
взвалив на себя весь груз человеческих грехов и пороков, все безобразие непутевой
жизни человечества.
Элементы невзрачного, неприглядного и даже безобразного с раннехристианских
времен стали активно внедряться в западном изобразительном искусстве и прочно
утвердились в нем до конца Средневековья. Ряд причин привел к возникновению этого
феномена. И не последнюю роль здесь сыграло определенное оправдание безобразного
в эстетике Отцов Церкви, и прежде всего Блаженным Августином.
Конечно, как мы уже убедились, неверно было бы говорить об эстетике
безобразного и у гиппонского епископа, и в патристике вообще. Для христианства
непреложной оставалась аксиома: Бог не создал ничего безобразного. Возникшее в
результате отпадения человечества и части ангелов от Бога безобразное понимается
в христианстве как недостаток красоты, частичное отсутствие ее, как следствие
порчи в материальном мире изначально данного ему (в дни творения) вида и формы.
Безобразное - это мера недостаточности прекрасного608.
Оно не может быть абсолютным, ибо полное отсутствие красоты, т. е. виды и формы,
тождественно отсутствию бытия, т. е. абсолютно безобразное есть ничто (nihil).
Поэтому любая, даже самая отвратительная, вещь или безобразное явление имеют хотя
и незначительную, но своего рода долю красоты609.
Эти представления, совершенно новые по сравнению с античными, прочно
укоренились в художественном сознании Средневековья и нашли отражение в средневековой
живописи, особенно у итальянских мастеров. Стремясь, с одной стороны, под влиянием
христианской идеологии забыть о материальной красоте и сосредоточиться на духовной,
помня о невзрачном виде Христа и достоинстве любого самого неприглядного создания
природы, они изображают некрасивые предметы и невзрачных людей, часто нарочито
деформируя их тела и черты лица, сознательно нарушая вроде бы все «законы красоты»
(об их понимании Августином см. ниже). С другой стороны, реминисценции античного
пластического и живописного понимания красоты, жившие всегда в глубинах художественного
сознания итальянцев, несмотря на то, что материальные памятники этой красоты в
большинстве своем были в буквальном смысле погребены под грудами пепла, под руинами
античных храмов и под новым культурным пластом христианской эпохи, - именно эти
реминисценции, а также христианское представление о том, что ничто безобразное
не лишено своей доли красоты, что безобразное любят для того, чтобы оно перестало
быть таковым, и что под невзрачным видом часто скрывается высокая духовная красота,
- все это привело лучших живописцев итальянского Средневековья (хотя подобные
примеры можно найти и в живописи северной готики) к интересному художественному
решению. Виртуозно владея изобразительными средствами - цветом, линией, формой,
системой цветовых отношений и моделировки форм, они умели наделять свои изображения
внешне невзрачных, деформированных, вроде бы совершенно некрасивых фигур удивительно
тонкой и глубокой красотой, которая как бы излучается изнутри этих далеких от
античных канонов красоты, часто достаточно условно изображенных фигур и лиц610.
Чисто живописными средствами они научились выражать красоту безобразного,
чем существенно расширили горизонты изобразительного искусства.
Но вернемся к теории. Одной из немаловажных эстетических причин
внедрения неприглядного в искусство явилось глубокое осознание Августином закона
контраста в двух его аспектах. Во-первых, безобразное по контрасту служит более
глубокому ощущению красоты. Незнание безобразного, его отсутствие не позволит
во всей полноте ощутить прелесть настоящей красоты. Красота дневного света выступает
отчетливее при сравнении с ночной тьмою, белое выглядит прекраснее рядом с черным
(Ер. 29, 11). Во-вторых, Августин показал, опираясь на античную, в основном риторскую,
традицию, что в основе красоты целого лежит закон оппозиции, т. е. единства противоположных
элементов, и прежде всего, прекрасных и безобразных в структуре целого. Контраст
прекрасного и безобразного образует гармонию целого.
И наконец, безобразная форма начинает наделяться (у Августина -
только начало этого процесса) некоторым знаково-символическим значением в качестве
носителя высокой духовной красоты.
Пожалуй, никто в истории эстетической мысли до Августина не уделял
столько внимания проблеме безобразного, может быть, потому, что никто до него
так остро не ощущал прелесть и очарование чувственной красоты и, одновременно,
не видел столь ясно глубин сатанинских, в которые влечет она человека.
Еще к одному виду красоты постоянно обращается внимание Августина
- к красоте искусства. Подробнее об этом мы будем говорить в гл. VIII.
Здесь только следует подчеркнуть, что Августин усмотрел вслед за Плотином в основе
всех искусств красоту и их главной задачей считал выражение красоты. Основные
структурные закономерности искусства, как мы увидим ниже, у него совпадают с законами
красоты. Целью музыки является красивая организация звуковой материи (De mus.
I, 13, 28). Красоте служит и поэзия, хотя философии доступна более высокая и истинная
красота (Contr. acad. II 3, 7). Скульптор и живописец трудятся над созданием прекрасных
форм, и даже зрелища обладают своей достаточно привлекательной красотой. Августин,
однако, осторожен в отношении этой красоты. Он не слишком отличает ее от красоты
природных форм и считает, что красота в искусстве лишь тень и отблеск абсолютной
красоты, поэтому не стоит увлекаться ею и, тем более, останавливаться только на
ней (ср.: De vera relig. 22, 43). В быту же людей, сетует Августин, красота искусства
занимает чрезмерно большое место. «Создание разных искусств и ремесел - одежда,
обувь, посуда и всяческая утварь, картины и другие изображения - все это ушло
далеко за пределы умеренных потребностей и в домашнем быту, и в церковном обиходе.
(...) Искусные руки узнают у души о красивом, а его источник та Красота, которая
превыше души и о которой душа моя воздыхает днем и ночью. Мастера и любители красивых
вещей от нее взяли мерило для оценки вещей, но не взяли мерила для пользования
ими» (Conf. X, 34, 53). К соблюдению «меры пользования» искусством и к ясному
осознанию места его красоты в универсуме Августин призывает постоянно, может быть
в силу того, что сам увлекается этой красотой, причем в большей мере, чем это
пристало, по его мнению, христианскому пастырю.
Рассмотрев основные аспекты красоты у Августина, подведем некоторые
предварительные итоги его пониманию этой важнейшей эстетической категории.
1. Красота предстает в системе Августина объективным свойством мира
как в его духовной, так и в материальной частях.
2. Бог является высшей и абсолютной красотой, источником, причиной
и творцом всего прекрасного в мире.
3. Красота выступает показателем бытийственности вещи. Обладание
абсолютной красотой тождественно обладанию вечным и абсолютным бытием, полное
отсутствие красоты соответствует переходу вещи в небытие.
4. Красота бывает статичной и динамичной.
5. Августин различает прекрасное в себе и для себя, т. е. собственно
прекрасное (pulchrum) и прекрасное как соответствующее чему-то (aptum, decorum).
6. Красота иерархична. Иерархия Августина хотя и опирается на плотиновскую,
но во многом отличается от нее. Схематически она может быть представлена в следующем
виде:
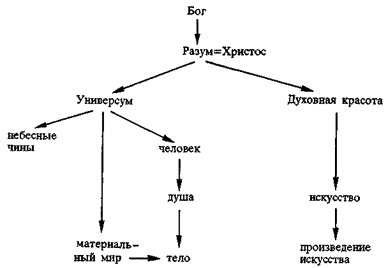
Источником красоты и здесь является Бог, а высшим носителем ее -
Разум (=Логос=Христос). От него происходит красота универсума и духовная красота.
Универсум, в свою очередь, состоит из небесных чинов, человека, его души и тела
и всего многообразия материального мира, красота которого так сильно волновала
душу Августина. Духовная красота лежит в основе красоты нравственной, красоты
искусства, науки и конкретных произведений искусства.
7. Красота материального мира, и в частности красота человеческого
тела, занимает здесь также низшую ступень, но оценивается Августином значительно
выше, чем в неоплатонической системе.
8. Красота доставляет удовольствие, которое может привести к блаженству.
9. Красота является предметом любви.
10. Красота выше пользы и всего утилитарного; утилитарное - путь
к красоте.
11. Красота целого возникает на основе гармонического единства противоположных
частей, в частности прекрасных и безобразных элементов.
12 Красота человека состоит в единстве его душевной и телесной красоты.
Тело человека прекрасно во всех своих частях и в целом. Однако отсутствие телесной
красоты не мешает человеку быть причастным ко всем другим, более высоким ступеням
красоты, включая и высшую.
13. Идеальной чувственно воспринимаемой красотой тело будет обла
дать по воскресении из мертвых.
14. Безобразное есть показатель недостатка красоты; составная часть
красоты; знак красоты.
15. Августин, по существу, не различает красоту и прекрасное, хотя
в одном месте специально отмечает, что красота выше прекрасного. Так же как истина
является причиной истинного, благочестие - благочестивого, целомудрие - целомудренного,
так и красота (pulchritudo) является причиной прекрасного (pulchrum). Без красоты
нет и прекрасного, хотя красота может существовать и без прекрасного, и поэтому
она выше его (In Ioan. ev. 39, 7).
16. Главной целью всех искусств является создание красоты.
Уделяя много внимания вопросам прекрасного, Августин стремился определить
основные признаки и структурные закономерности красоты. Почему красота доставляет
удовольствие? что нам нравится в ней? за что любим мы прекрасные вещи? что привлекает
к ним нашу душу? - эти и подобные вопросы постоянно интересовали гиппонского мыслителя.
Стремясь найти ответы на них, Августин подводил итог многим изысканиям античной
эстетической мысли.
Общими универсальными признаками чувственно воспринимаемой красоты
у него выступают форма и число. Без них красота просто не может
существовать. В трактате «О порядке», как мы помним, Августин показал, что в красоте
нравятся формы, а в формах - размеренность, а в размеренности - числа (De ord.
II, 15, 42). Но форма и число - это самые общие признаки. Наряду с ними Августин,
опираясь на античность, выделяет и ряд более конкретных признаков и закономерностей,
такие, как равенство, симметрия, соразмерность, пропорция, согласие, соответствие,
подобие, равновесие, гармония, оппозиция, или контраст, и как главенствующая
над всеми ними закономерность - единство611.
Важнейшим законом прекрасного выступает у Августина lex aequalitas
- закон равенства, или соразмерности. Он господствует и в природе,
и в искусствах. Из геометрических фигур совершеннее и прекраснее те, в которых
выше степень равенства. Так, равносторонний треугольник красивее (pulchrior) любого
другого (De quant. anim. 8, 13), а квадрат прекраснее этого треугольника, так
как у треугольника против сторон - углы (9, 15). Но и квадрат имеет несовершенства:
углы у него не равны сторонам и линии от центра до вершин углов не равны отрезкам
прямых, проведенным из центра к сторонам. Более совершенной фигурой, с точки зрения
равенства, будет круг, а предел совершенства заключен в точке (10, 16;
11. 18).
В музыке и поэзии lex aequalitatis играет первостепенную роль612.
При соединении стоп друг с другом необходимо помнить, что «равенство и подобие
имеют преимущество перед неравенством и неподобием» (De mus. II, 9, 16), поэтому
лучше всего, когда стопы одного вида следуют одна за другой. Далее можно соединять
разные по названию, но равные по длительности стопы и т. д. (II, 11, 21; 13, 24).
«Что доставляет нам удовольствие в чувственных, организованных по законам чисел
образованиях? - спрашивает Августин. - Не иное ли что, как некое равенство и пропорциональность
соразмерных интервалов? Чем другим радует нас тот пиррихий, спондей, анапест,
дактиль, процелевматик и диспондей, как не тем, что каждый из них соотносит одни
части с другими в соразмерном членении? Отчего же обладают красотой ямб, трохей,
трибрахий, если не от того, что в них равномерно распределены меньшие и большие
части?» Рассматривая далее, чем же стопы доставляют нам удовольствие, он приходит
к выводу, что «во всех стопах нет ни одной самой малой, отличной от других части,
которая не воспринималась бы в определенном возможном соответствии (aequalitas)
с другими» (VI, 10, 26).
В различных соединениях стоп и в таких образованиях с неограниченной
длительностью, как ритмы, и в таких, с определенным концом, как метры, и, наконец,
в таких, разделенных на две части, которые, в свою очередь, определенным образом
друг другу соответствуют, как стихи - везде не что иное как равенство (соразмерность
- aequalitas) организует стопы в некое целостное единство. Соответствующее чередование
звуков и пауз, соединение ритмов и метров - все без исключения основано на «законе
равенства» (lex aequalitatis). Закон этот может осуществляться только при наличии
в произведении как минимум двух членов, т. е. он пригоден только для сложных объектов.
Он универсален, но по-разному проявляется в различных случаях, например, по-одному
при организации ритма и по-другому - при организации стиха (VI, 10, 27). В предметах
пространственных равенство осмысливается как сходство (similitudo), которое бывает
полным в вещах равнозначных, «когда мы говорим, что это так же похоже на то, как
и то на это, как, например, если речь идет о близнецах», и тогда мы имеем фактически
равенство (или тождество), - и неполным, когда вещи худшие бывают похожи на лучшие,
например при отражении предмета в зеркале. Сходство визуально воспринимаемых предметов
создается или природой, или руками человека в произведениях искусства (Solil.
II, 6, 11). Подробнее на проблеме подобия мы остановимся в следующей главе, рассматривая
понятие образа у Августина.
Относительно элементов прекрасного целого подобие, или сходство
(similitudo), понимается в смысле соответствия частей друг другу. Отдельные
предметы, пишет Августин, могут существовать не только совместно с другими [предметами]
такого же рода, но и в своей собственной единичности, если только они имеют сходные
между собой части. И тело тем красивее, чем более сходные между собой части входят
в его состав». Вся Вселенная состоит из «соответствующих друг другу вещей», ибо
она создана «чрез высшее, неизменное и нетленное подобие того, кто все создал
так, чтобы было прекрасным вследствие соответствия частей друг другу» (De Gen.
ad lit. imp. 16, 59).
Подобие, или соответствие, членов друг другу образует их согласие
(convenientia) в едином целом, что и возбуждает чувство удовольствия у всякого,
созерцающего красивую вещь (De vera relig. 39, 72).
Примером прекрасной вещи, состоящей из сходных и соответствующих
друг другу членов, выступает человеческое тело, красота которого постоянно приводит
в восторг Августина. «Кажется, почти ничего не отнимается у тела, если остричь
одну бровь, а между тем как много отнимается у красоты, которая состоит не в массе,
но в равенстве (parilitas) и в соразмерности (dimensio) членов!» (De civ. Dei
XI, 22).
Относительно визуально воспринимаемой красоты Августин, как уже
отмечалось, широко опирается на достижения античной эстетики, видевшей красоту
в соразмерности (или соответствии) частей и приятности цвета. «Что есть красота
тела?» - спрашивает он и отвечает: «Соответствие частей вместе с некоторой приятностью
цвета» (Ер. III, 4). Интересно, что именно эту античную формулу красоты Августин
соединяет с христианской идеей воскресения тел. При всеобщем воскресении люди
восстанут в своих телах, однако без тех дефектов и ущербностей, которые они имели
при жизни, т. е. в своих прекрасных телах, какими они были в замысле Творца. Поэтому
Бог исправит все тела по воскресении их примерно так же, как исправляет неудачную
статую скульптор.
«Красота всякого тела, - пишет в связи с этим Августин, - состоит
в соразмерности (или согласии - congruentia) частей вместе с некоторой приятностью
цвета. Где нет такого согласия частей, [нас] оскорбляет что-либо или потому, что
оно криво, или потому, что мало, или потому, что слишком велико» (De civ. Dei
XXII, 19). Поэтому по воскресении каждый член нашего реального тела и все оно
в целом будут исправлены в соответствии с «мерой полноты» тела, с мерой человеческой
природы (ad humanae naturae figuram) или с его идеальной прекрасной моделью, находящейся
в разуме Творца. Процедуру эту Августин мыслит себе в следующем виде: «В воскресении
плоти для вечной жизни величина тел будет иметь ту меру, которая принадлежала
ей в соответствии с идеей юношеского возраста каждого тела, не достигнутого еще
или уже пройденного с сохранением соответствующей красоты в размерах всех членов.
Для того, чтобы сохранить красоту, если [у тела] что-либо будет отнято вроде неприличной
величины каких-либо его членов, все это будет размещено по всему [телу] так, что
и само [излишнее] не исчезнет и сохранится соответствие (congruentia) частей;
нет ничего невероятного в том, что в результате может даже прибавиться и сам рост
тела, когда для сохранения красоты по всем членам распределится то, что было чрезмерным
и неприличным в [какой-либо] одной части» (De civ. Dei XXII, 20). Тела получат
и соответствующую «приятность цвета» (coloris suavitas), которой не имели в настоящей
жизни и которая состоит в большой светоносности, ясности (claritas). Именно так
сияло тело воскресшего Христа. Только вот на телах мучеников, во славу их, Августин
хотел бы и в раю видеть следы нанесенных им ран (XXII, 19).
Здесь фактически дано руководство художнику по изображению идеализированного
человеческого тела. В чистом и буквальном виде оно будет реализовано лишь живописцами
итальянского Возрождения. Однако отзвуки его можно найти и в средневековом, прежде
всего восточнохристианском искусстве. Помноженное на христианскую духовность и
несколько переосмысленное, это руководство легло в основу художественной практики
византийских мозаичистов и иконописцев, особенно при изображении человеческих
лиц, точнее - идеальных, одухотворенных ликов.
Интересные суждения об общих законах искусства и прекрасного Августин
высказал в своем сочинении «Об истинной религии», где он стремился подняться от
конкретных закономерностей видимой красоты к их идеальным основаниям. «Но так
как во всех искусствах,- пишет он,- нам нравится гармония (convenientia), благодаря
только которой все бывает целостным (salva) и прекрасным, сама же гармония требует
равенства и единства, состоящего или в сходстве равных частей, или в пропорциональности
(gradatio) неравных; то кто же найдет в [действительных] телах высшее равенство
или подобие и решится сказать, при внимательном рассмотрении, что какое-нибудь
тело действительно и безусловно едино; тогда как все изменяется, переходя или
из вида в вид, или с места на место, и состоит из частей, занимающих определенные
места, по которым все оно распределяется по различным пространствам? Далее, самое
истинное равенство и подобие, а также самое истинное и первое единство созерцаются
не телесными глазами и не каким-либо из телесных чувств, а только мыслящим умом»
(De vera relig. 30, 55). Высказывание это показательно для эстетики Августина
в целом. Здесь особо наглядно видно, как органично и незаметно из комплекса античных
представлений у него возникает собственная концепция, вполне приемлемая для новой
культуры. Мы видим, как под сформулированные стоиками определения материальной
красоты подводятся платоновские основания, т. е. за феноменами соразмерности,
равенства, подобия, гармонии усматриваются их идеальные архетипы - идеи соразмерности,
равенства, подобия и т. п. И далее эти традиционные основания красоты как нечто
само собой разумеющееся переносятся на искусство. Здесь, конечно, не забыты и
эстетические взгляды Плотина, но они несколько деинтеллектуализированы и конкретизированы.
У Августина речь идет не об эйдосах вообще, но о конкретных закономерностях типа
соразмерности, сходства, гармонии и т. п. В этом особенность не только августиновской,
но и всей патристической эстетики. Многие «заумные» и утонченные витийства неоплатоников
она опустила на землю - изложила более простым языком, соотнеся с конкретными
вещами, доступными пониманию более широких, чем братство любомудров, читательских
кругов.
Выяснив, что в основе чувственно воспринимаемых прекрасных вещей
и произведений искусства лежат идеи равенства, соразмерности, подобия, единства,
Августин переходит к вопросу о критерии и пределах суждения об этих закономерностях.
Ясно, что этот критерий принадлежит интеллигибельной сфере, находящейся за пределами
пространственно-временного континиума. «И в то время, как все чувственно прекрасное,
произведенное природой ли или созданное искусствами, прекрасно в пространстве
и во времени, как, например, тело и движение тела; то это, одним только умом познаваемое
равенство и единство, в соответствии с которым при посредстве чувства складывается
суждение о телесной красоте, ни в пространстве не расширяется, ни во времени не
изменяется». Законы равенства, подобия и единства объективны и находятся не в
уме человека, но выше него. Человеческий же ум в своих суждениях о красоте и искусстве
руководствуется этими законами. Ум человека подвержен различным изменениям и заблуждениям,
«закон же всех искусств» (lex omnium artium) совершенно неизменен (De vera relig.
30, 56). Он абсолютно истинен и возводится Августином к божественной мудрости.
«Эта-то мудрость и есть та неизменная истина, которая справедливо называется законом
всех искусств и искусством всемогущего художника».
Здесь Августин и усматривает предел суждений об эстетических закономерностях.
Закон «высшего равенства» находится в сферах, значительно превышающих ум человека.
Поэтому ему дано познать лишь факт существования этого закона, но не его сущность.
Нам ясно, замечает Августин, что именно благодаря подобию, соразмерности, равенству
элементов и членов тела и произведения искусства нравятся нам, но мы не можем
сказать, почему собственно равенство, подобие, соразмерность доставляют
нам удовольствие (31, 57-58; ср.: 43, 80). Августин поставил здесь, пожалуй, самый
главный и до сих пор актуальный вопрос эстетической теории, мужественно признавшись,
что человеческий разум его времени не в состоянии дать ответ на него. Спустя пятнадцать
столетий после смерти гиппонского мыслителя возникшая для решения этого вопроса
специальная наука должна с сожалением констатировать, что ответ на его вопрос
до сих пор не найден; тем не менее, в отличие от своего именитого праотца, она
с оптимизмом продолжает поиск.
Ощущение реальных границ интеллектуального познания позволяло Августину
трезво судить о вещах доступных, по его мнению, познанию. В сфере эстетики дело
сводилось, как правило, к постановке проблем, что, как известно, имеет немаловажное
значение для любой науки.
В трактате «О музыке» (см. гл. V) Августин уделил много внимания
пропорции, как одной из числовых закономерностей красоты, суть которой состоит
в определенном соотношении среднего и крайних членов. В соответствии с этим пропорциональность
(или симметрия), в архитектуре например, заключается в том, что по обе стороны
двери должно находиться равное количество равных по величине окон. Размеры же
окон, расположенных одно над другим, должны быть выдержаны в отношении «золотого
сечения»: верхнее относится к среднему так, как среднее - к нижнему (54-55). В
этом и заключалась, по Августину, гармония и соразмерность архитектурных элементов
внутри целого.
Именно к гармонии как к одной из главных структурных закономерностей
красоты было привлечено его особое внимание. Гармония наряду с другими закономерностями,
подчеркивает Августин, объективна, она целиком и полностью связана с соответствующей
вещью: «Затем, если в теле существует какая-либо гармония (harmonia), она необходимо
существует в данном теле и неотделима от него; и ничего в этой гармонии не предполагается
такого, что с одинаковой необходимостью не существовало бы в данном теле, с которым
не менее нераздельна и сама гармония» (De immort. anim. 2, 2). На гармоничном
согласии частей и элементов основывается и красота природных тел, и музыкальная
мелодия, и стихотворная строка. Именно гармония (congruentia = согласие) частей
радует нас в любом предмете больше всего (Conf. II, 5, 10). Стихотворная стопа
услаждает наш слух потому, что обе ее части, повышающаяся и понижающаяся, «гармоничны
в числовом отношении» (numerosa sibi concinnitate). Ведь среди «всех предметов,
которые воспринимаются состоящими из частей, не те ли являются более прекрасными,
чьи части равно согласованы, чем имеющие несогласованные и диссонирующие части?»
Так, и в стопе, разделенной на две части, именно их гармония радует слух. На этом
же принципе основаны и сами стихи (De mus. V, 2, 2).
Сущность гармонии Августин, опираясь на традиции античной эстетики,
усматривал в единстве и согласии противоположностей. «Во всех вещах, - писал он,
- познаем мы господство закона соответствия, связи, созвучия и согласия противоположных
элементов: греки называют это гармонией. Чувство этого согласия, этой природной
связи является у нас врожденным613.
Именно это понятие гармонии позволило Августину поставить проблему контраста,
или оппозиции, в широком эстетическом плане, увидеть в единстве противоположных
начал основу всякой красоты - и в природе, и в искусстве. Мы уже отмечали (см.
гл. IV), что красота мира, по глубокому убеждению Августина, складывается из противоположностей:
«Так как бы в некотором роде из антитез, что бывает приятно нам в речи, т. е.
из противопоставлений образуется красота всех вместе взятых вещей» (De ord. I,
7, 18; ср.: De civ. Dei XI, 18; De ord. I, 8, 5). Закон этот, как неоднократно
указывал и сам Августин, он нашел в риторике и поэтике (De ord. Π, 4, 12)
и оттуда распространил практически на всю сферу эстетического, т. е. на все искусства
и на прекрасное.
Именно наличие оппозиций, как в различных искусствах, так и в прекрасных
предметах, позволило Августину теснее объединить эти, бытовавшие обособленно друг
от друга в античной эстетике, сферы. Более того, наблюдения за «музыкальной гармонией»
(harmoia musica), состоявшей в «разумном и соразмерном сочетании различных (противоположных
- diversorum) звуков путем согласия разнородностей (concordi varietate)», дало
ему возможность усмотреть фактически этот же закон и в хорошо организованном государстве
(De civ. Dei XVII, 14; см. также гл. IV). В августиновской идее контраста, оппозиции
Вл. Татаркевич справедливо усматривает возрождение «гераклитовского мотива» в
понимании прекрасного614.
К этому следует только добавить, что «гераклитовский мотив» был существенно развит
гиппонским мыслителем и лег в основу художественной практики Средневековья.
Оппозиции, как основа прекрасного, доставляют удовольствие лишь
в том случае, если они объединены в некое органическое целое. Это относится и
ко всем другим формальным закономерностям красоты и искусства. Поэтому понятие
единства (unitas) является у Августина, пожалуй, главным в ряду формальных
эстетических признаков. Он постоянно напоминает, что и равенство, и подобие, и
соразмерность, и симметрия, и пропорция, и опозиция, и гармония доставляют удовольствие,
т. е. ведут к возникновению красоты только при условии единства объекта,
в формировании которого они участвуют. В качестве примера приведем одно из рассуждений
Августина на эту тему, подытоживающее в какой-то мере его формальную эстетику
и намечающее дальнейшие ее перспективы.
Многие люди, сетует Августин, ограничиваются только удовольствием,
получаемым от красоты и искусства, и не желают, да и не в состоянии, пожалуй,
понять: что же доставляет им это удовольствие. Если, к примеру, спросить
у архитектора, зачем он строит две симметричные арки у здания, он, надо думать,
ответит, «что это требуется для того, чтобы равным частям здания соответствовали
равные. Если, далее, я спрошу, почему же он предпочитает именно такое [устройство],
он ответит, что это прилично, это красиво и что это доставляет удовольствие зрителям,
больше он ничего не скажет». Если же обратиться с этими вопросами к человеку,
обладающему внутренним зрением, то он согласится с тем, что подобные предметы
доставляют удовольствие потому, что они прекрасны, а прекрасны они благодаря тому,
что «части их взаимно соотнесены (similes sibi -подобны друг другу) и посредством
некоего сочетания приведены в стройное единство» (De vera relig. 32, 59).
Далее, можно спросить этого человека, вполне ли это конкретное предметное
единство выражает то единство, к которому оно стремится, или, напротив, оно лишь
отчасти представляет его. «Если же это так (потому что кто же из спрашиваемых
не знает, что нет ни одной формы, нет ни одного тела, которые не имели бы тех
или иных следов единства; и что, [с другой стороны,] как бы тело ни было прекрасно,
оно не может достигнуть того единства, к которому стремится, потому что в других
местах пространства оно неизбежно бывает и не таким), - поэтому если это так,
то я потребую, чтобы он ответил, где же или в чем он сам видит это единство; если
же он его не видит, то откуда знает, [во-первых,] то, чему должен подражать внешний
вид тел, [и во-вторых,] то, чего он выразить (implere) не может?» Действительно,
если он уверен, что тела не существовали бы, если бы не были подчинены закону
единства, но также знает, что если бы они были самим единством, то уже не были
бы телами, то его резонно спросить, откуда он знает это единство. Ясно, что он
его видел, ибо справедливо судит, что материальные предметы не вполне выражают
его. Ясно и то, что видел он его не телесными глазами, потому что тогда бы он
не мог заметить отступлений в телесных предметах от него. Следовательно, он видел
его «глазами ума» и оно, (единство. - В. Б.), «будучи везде, присуще тому,
кто судит, никогда не существует пространственно, но всегда силою» (32, 60).
Таким образом, более высокое единство, на основе которого выносится
эстетическое суждение по поводу конкретного материального объекта, находится внутри
нас, в нашей душе, т. е. Августин утверждает, что в основе эстетического восприятия
лежит закон подобия объекта восприятия некоторым глубинным сущностям души субъекта
восприятия. Это важный в истории эстетики вывод. И он не случаен у Августина.
В трактате «О свободном выборе» он писал: «Тогда ты увидишь, что все, что тебе
нравится в теле и что в телах привлекает чувство,- все подчинено закону числа
(esse numerosum); и ты спросишь, откуда это, и вернешься в себя самого, и постигнешь,
что все то, с чем соприкасаются телесные чувства, ты не мог бы ни одобрять, ни
порицать, если бы не имел в себе определенных законов красоты, на основе которых
ты судишь, что воспринимаешь извне прекрасное» (De lib. arb. II, 16, 41). В данном
случае под «законами красоты» Августин имеет в виду особые числа души, о которых
подробнее речь будет идти в гл. X.
В трактате «О Троице» Августин также говорит о внутренней
норме красоты (De Trin. Χ, 1, 1).
Итак, законы красоты, среди которых главное место занимают числа
и единство, находятся внутри души и с их помощью производится эстетическое суждение.
Сами же они являются произведением высшего Художника, в котором и мыслится идеал
истинного единства. Именно выражением этого высшего единства считает Августин
в приведенном рассуждении (из «De vera religione») единство и другие формальные
закономерности тварной красоты. Абсолютное же единство есть в христианстве одновременно
и абсолютная истина, и высшее благо. Таким образом, все формальные закономерности
чувственно воспринимаемой красоты у Августина оказываются содержательными615,
ибо они в конечном счете значимы для него не сами по себе (и он регулярно подчеркивает
это), но лишь как средство выражения высшей и абсолютной истины, высшего
блага616.
В этом существенное отличие августиновской эстетики от античной (стоической прежде
всего). Поэтому если с формальной точки зрения Августин не может дать ответ, почему
нам доставляют удовольствие соразмерность, подобие, гармония, единство, то с содержательной
- у него этот ответ есть. Формальные закономерности красоты нравятся нам не сами
по себе, но как выражение высших законов бытия, высшей истины, приобщающее
нас к ней. Причастность же к абсолютной истине связана с радостью, наслаждением,
блаженством. Таким образом, эстетика Августина в самом сложном своем вопросе опирается
на гносеологию, а гносеология, как мы уже видели (гл. III), в этом же пункте стремится
найти опору в эстетике. Круг замыкается, лишая ищущий разум выхода как в гносеологии,
так и в эстетике. Сам Августин, как и все христианство, видел его лишь в чисто
религиозной сфере, в помощи божественной благодати.
Красота, как мы помним, определяет у Августина (как и у Плотина)
степень бытийственности вещи, следовательно, формальные признаки красоты становятся
здесь показателем онтологического статуса вещи, ее ценности в иерархии бытия.
Чем прекраснее вещь, чем гармоничнее, чем выше степень ее единства, тем более
высокое место занимает она в бытии, тем сильнее истина просвечивает в ее форме,
тем истиннее она.
Высоко ценя неутилитарность эстетического наслаждения, Августин
имел в виду независимость его от потребностей обыденной жизни. Однако он не признавал
бесполезной красоты. Такой для него просто не существовало. Любая красота и в
мире, и в искусстве представлялась ему выражением высших истин, возводящим
к ним душу и сердце человека, зовущим его в мир истинного бытия. В этом и видел
Августин высокую пользу красоты и искусства.
Таким образом, стремясь выявить сущность красоты, Августин использовал
многие достижения античной эстетики, но усмотрел во всех формальных закономерностях
прекрасного содержательную сторону, сделав в этом плане существенный шаг вперед
в развитии эстетической теории.
|



