Геннадий Жаворонков
О ЧЕМ МОЛЧАЛ КАТЫНСКИЙ ЛЕС, КОГДА ГОВОРИЛ АКАДЕМИК САХАРОВ
См. Катынь.
Москва, изд. "Дипак". 2006 г.
Номер страницы после текста.
Автор род. 29.7.1941.
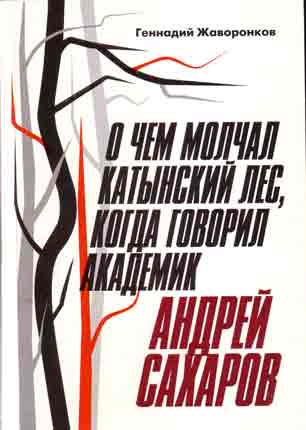 Жаворонков Г.Н. О чем молчал Катынский лес, когда говорил академик Андрей Сахаров. М.: Дипак, 2006. 112 с. ISBN 5-98580-017-2 Жаворонков Г.Н. О чем молчал Катынский лес, когда говорил академик Андрей Сахаров. М.: Дипак, 2006. 112 с. ISBN 5-98580-017-2
Издание осуществлено при финансовой поддержке Фонда Сахарова (США)
Жаворонков Геннадий Николаевич
О ЧЕМ МОЛЧАЛ КАТЫНСКИЙ ЛЕС, КОГДА ГОВОРИЛ АКАДЕМИК АНДРЕЙ САХАРОВ
Художник Брапделис ИЛ.
Компьютерная верстка Гранильщикова U.C.
Корректор Лейбович A.M.
Подписано в печать 11.04.2006. Формат 60x90'/,,.. Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл.печ.л. 7,0. Тирах i 000 экл.
Отпечатано ООО «Информполиграф». Зак. 152
© Г.Н. Жаворонков, 2006
© Фонд Андрея Сахарова, 2006
ISBN 5-98580-017-2
Г л а в а 1 РИСК
Звонок главного редактора «Московских новостей» по телефону внутри редакционной связи ничего хорошего мне не сулил. Впрочем, как и его предложение зайти к нему на минутку.
Я брел по коридору, ломая голову над тем, за какой очередной промах в работе отдела получу по гамбургскому счету. Скорей всего не за сектор культуры, где мы старались быть «впереди планеты всей», а за неработу сектора науки, в котором еще оставались журналисты прежней редакции, устроившие в обновленной газете итальянскую забастовку.
Но Егор Яковлев потому и Яковлев, что не поддавался даже компьютерному вычислению.
— Ты вчера видел телефильм «Риск — 1»? <,--Нет.
— А все сегодняшние газеты уже вышли с рецензиями.
— Мы же еженедельная газета и не нам соревноваться с ежедневными.
Лучше бы я сказал: «Егор, ты дурак!». Лицо главного редактора приобрело, мягко говоря, не совсем отеческое выражение. Он не желал мириться с тем, что нас кто-то способен обогнать. Спасая положение, я забормотал о том, что еще не все утеряно, и что фильм следует прокомментировать так, что все позавидуют, что поспешили с рецензиями.
— Кто же это сделает? — лицо Яковлева изменилось к лучшему, на нем появилось любопытствующее ожидание.
— Ну, кто, кто... — я явно тянул время. Потом неожиданно для самого себя нагло брякнул: «Например, академик Сахаров!»
Это был хороший ход. Не отходя от главного, я переложил всю ответственность на него самого.
Сахарову, только что вернувшемуся из ссылки в Горький, как бы выступать в печати не полагалось. О нем и говорить вслух было не принято.
— Ну, что ж, — задумчиво сказал главный. — Это идея. В понедельник принеси текст.
Было утро четверга. А я еще не видел фильма, его создателей, а тем более академика Сахарова.
— У вас есть его телефон? " с-« -Чей? ...-„,. м ;
— Сахарова...
— Может, мне за тебя и интервью у него взять? — ехидно предложил Яковлев.
3
В свой кабинет я вернулся ошарашенным. Все было, как в том анекдоте, когда Рабинович уговорил местечкового еврея выдать свою дочь за князя Голицына. Оставалось только получить согласие ничего не подозревавшего о сделке князя.
Звонки по знакомым телефонам из записной книжки от А до Я ничего не дали. Я даже имел наглость — дозвонился до пресс-атташе одного из посольств/Телефон Сахарова им явно был известен, но на мою просьбу там ответили предложением позвонить в ЧК. Я сказал, что это как-то неудобно. Меня заверили, что это вполне удобно, так как у нас перестройка. Потом я жестоко отомщу им за это, когда им понадобится Сахаров. Но это будет гораздо позже.
Наконец, я дозвонился на квартиру академика Гинзбурга, который считался непосредственным начальником Сахарова. «Московские новости» уже завоевали известность, правда, еще не такую, как впоследствии, Гинзбург, поколебавшись, согласился позвонить Сахарову и узнать о его согласии или несогласии говорить с журналистом «МН».
А уже через минуту я разговаривал с самим Сахаровым.
— Вы видели «Риск»?
— Нет. В это время нас, к сожалению, не было дома.
— А вы не согласились бы прокомментировать его для нас?
— Возможно, если он будет правдив и интересен.
— Мы достанем его и привезем к вам домой. У вас же есть видеомагнитофон?
— Нет, у меня нет видеомагнитофона.
Я явно мало знал о жизни академика, хотя и читал все его выступления в самиздате. Возможно, что помимо моей воли пропаганда о баснословном богатстве академика отравила и меня...
— Когда мы найдем фильм и зал для показа, можно будет позвонить Вам?
— Да, конечно, мы сегодня никуда не уходим.
С меня сошло уже не сто, а тысяча потов, Я откинулся в кресле, перекуривая перед новым раундом поисков неизвестного мне режиссера Дмитрия Барщевского. В отличие от меня он был стремительно деловит и в какие-то считанные минуты был определен зал (Дом кино) и время показа, согласованное с Сахаровым. Однако, как мне показалось, и сам видавший виды Барщевский был несколько ошарашен моим встречным предложением. Конечно же, он рассчитывал на появление у нас рецензии на его фильм, но чтоб на такую!
На следующее утро я купил букет роз на длиннющих стеблях (больше я таких никогда не видел), выбил в редакции машину и поехал на улицу Чкалова (теперь — Земляной вал). Лифт поднял меня
4
на седьмой этаж, и я оторопело замер перед весьма обшарпанной дверью с фанерным ящиком для писем и старомодной пуговкой звонка. Оглянувшись, нет ли за мной слежки (впрочем, оглядываться я начал еще с предыдущего дня), я позвонил, хотя дверь была открыта и лишь прищемлена несколько раз сложенной газетой.
Раздались неспешные, шаркающие шаги, и дверь распахнулась. Передо мной стояла очень пожилая женщина с длинными седыми прядями волос и с лицом, явно выточенным ветрами ГУЛАГа.
«Боже! — подумал я. — Это Елена, а каким же будет Андрей? Что же сотворили с ними в Горьком?!»
Я не очень галантно расшаркался, вручил розы, а взамен получил приглашение пройти в комнату и подождать:
— Сейчас они придут.
Меня несколько смутило то, что Елена говорит о муже ОНИ, а не он, но заданный стереотип представлений продолжал работать даже тогда, когда моя новая знакомая куда-то позвонила и сухо сказала:
— К вам уже пришли!
Через некоторое время хлопнула входная дверь, и в комнату, весело перебраниваясь, вошли двое. Академика я знал по портретам из редких книг, тайно привозимых с Запада. С ним была женщина, очень похожая на ту, что впустила меня в квартиру, но значительно моложе — быстрая, решительная, с красивой улыбкой, которую мгновенно мог сменить гнев.
— Здравствуйте, Елена Григорьевна, — торжественно начал я свою задуманную речь.
Она необиженно поправила меня: «Георгиевна».
— Простите, но мы по «голосам» знаем вас без отчества...
— А-а, ерунда... У вас интересная газета, гораздо интересней, чем нынешний самиздат. Кофе хотите?
Я захотел (какой же дурак откажется выпить кофе в квартире академика Сахарова?) несмотря на то, что внизу нас ждала машина, а в Доме кино, конечно же, нервничал Барщевский.
Мы остались вдвоем с Сахаровым. Он сел на кушетку и вдруг стал объяснять, почему они пропустили трансляцию «Риска».
— В Горьком мы смотрели все в подряд. Это был единственный способ общаться с миром. У меня отняли даже транзисторный приемник. А теперь все так интересно: и встречи, и передачи, и то, что пишут в газетах. Чаще всего я узнаю о многом в пересказе. За всем невозможно уследить.
Вернулась Елена. Мы выпили с ней кофе и спустились в машину. Я торопливо вытаскивал из них все новые и новые подробности их возращения. В основном рассказывала Елена, Сахаров лишь что-то до-
5
бавлял или уточнял подробности. Потом Андрей Дмитриевич опишет этот эпизод в своей книге «Горький, Москва, далее везде»:
«...В три часа позвонили. Я взял трубку. Женский голос: «Я слушаю». (Люсе: «Это Горбачев». Она открыла дверь в коридор, где происходил обычный «клуб» около милиционера, и крикнула: «Тише, звонит Горбачев». — «Здравствуйте, я вас слушаю». — «Я получил ваше письмо, мы его рассмотрели, посоветовались». Я не помню точных слов Горбачева, с кем посоветовались, но не поименно, и без указаний, в какой инстанции. «Вы получите возможность вернуться в Москву, Указ Президиума Верховного Совета будет отменен. (Или он сказал — действие Верховного Совета будет прекращено.) А. С). Принято также решение относительно Елены Боннэр». Я — резко: «Это моя жена!» Эта моя реплика была эмоциональной реакцией не столько на неправильное произношение фамилии Боннэр (с ударением на последнем слоге), а главным образом, на почувствованный мною оттенок предвзятого отношения к моей жене. Я доволен своей репликой! Горбачев: «Вы сможете вместе вернуться в Москву. Квартира в Москве у вас есть. В ближайшее время к вам приедет Марчук. Возвращайтесь к патриотическим делам!». Я сказал: «Я благодарен вам! Но несколько дней назад в тюрьме убит мой друг Марченко. Он был первым в письме, которое я вам послал. Это было письмо об освобождении узников совести — людей, репрессированных за убеждения. Горбачев: «Да, я получил ваше письмо в начале года. Многих мы освободили, положение других облегчено. Но там очень разные люди». Я: «Все осужденные по этим статьям осуждены незаконно, несправедливо, они должны быть освобождены!» Горбачев: «Я не могу с вами согласиться».
Я: «Я умоляю вас еще раз вернуться к рассмотрению вопроса об освобождении людей, осужденных за убеждения. Это — осуществление справедливости. Это — необычайно важно для всей нашей страны, для международного доверия к ней, для мира, для вас, для успеха всех ваших начинаний». Горбачев сказал что-то неопределенное, что именно
— не помню. Я: «Я еще раз вас благодарю! До свидания!».
— А теперь мы в Москве, — как-то легко подвела итог Елена, — и едем, Гена, вместе с вами смотреть кино. Кстати, напомните мне, у меня есть для вас одно интересное предложение. Пятницкий ведь для них?
— спросила она мужа. Тот кивнул.
— Пятницкий? — удивился я. — Это тот, кто создал детский хор?
— Это тот, кто создавал Коминтерн, — без упрека в невежестве пояснила Боннэр. — С ним дружил мой отец Алиханов, самый первый секретарь РКП Армении, и работала моя мама, Руфь, вы ее видели. Отца расстреляли, а мама много лет провела в лагерях.
6
— А почему вы не напишете об этом? Это была бы очень интересная книга.
— Я пробовала. Но дошла до эпизода, когда армянские большевики, опасаясь прихода дашнаков, арестовали всех бывших царских офицеров и отправили в Россию, а расстреляли где-то в степях Предкавказья. Сделал это глава армянского ЧК Атарбеков без согласия с ЦК Армении, но с одобрения Москвы. Потом он хозяйничал в Белоруссии.
Всё..! Дальше писать расхотелось. С крови начали, кровью и кончили. Собственной.
Барщевский вместе со своей женой Виолиной ждал нас у самого входа. В отличие от меня, он сразу же определил, кто есть кто, и провел нас в зал.
Фильм был действительно сенсационным для того времени. В нем излагались события военного противостояния Востока и Запада. Многое впервые звучало с экрана, многое было подлинным открытием. Мало кто из нас подозревал, сколько раз человечество было на волоске от гибели. И чаще всего по нашей вине, вернее, по вине наших правителей.
Сахаров не отрывал взгляда от экрана и лишь изредка кратко комментировал некоторые эпизоды. Как правило, это было откровением и для меня, и для Барщевского.
Когда в зале зажегся свет, я искренне сказал авторам, что теперь я понимаю, почему они вдруг проснулись знаменитыми. Сахаров тоже сказал, что фильм сделан в основном достоверно, но у него все же есть кое-какие замечания.
Мы прошли в кабинет директора Дома кино, и я включил диктофон.
Андрей Сахаров:
— Я до сих пор нахожусь под сильным эмоциональным впечатлением от фильма. От его заключительных кадров — Карибского кризиса. Вся эта драма, произошедшая 25 лет назад, возникает передо мной как сиюминутная. Все это может повториться...
Тогда наверху (в правительствах) оказались два выдающихся человека, и они смогли остановиться. Как возник Караибский кризис, — это особый вопрос. В фильме это не совсем ясно. Непосредственным поводом послужили советские ракеты, установленные на Кубе. И хотя еще не было известно, есть ли на них ядерные боеголовки, но возникла страшная напряженность, которая могла кончиться катастрофой.
Конечно, сегодня ни один разумный человек не хочет войны, но повторение эпизодов, похожих на Карибский кризис, угрожающе возможно...
Если говорить об идее фильма, то, по-моему, она такая: говорить правду — это риск, но говорить правду — это и абсолютная необходимость, без которой жизнь оказывается под угрозой. Без этого мы, все человечество не может существовать, не может жить. И заслуга созда-
7
телей фильма в том, что они сказали иногда трудную, иногда радостную правду. Пошли на риск ради нужного для нас дела.
Мне уже приходилось слышать от людей, что они были потрясены тем, что говорится на черно-белом экране о судьбе Королева. Но мы, люди более близкие к тому времени, остро ощущаем и некоторую недоговоренность в фильме. Большое волнение вызывают кадры, посвященные супругам Розенберг. Тут сказано много того, чего раньше у нас не говорилось. Но сказано не все. Дело Розенбергов — это реванш американской контрразведки за дело Клауса Фукса. Говорить о деле Розенбергов и не говорить о деле Фукса в таком фильме, призванном восстановить истину, нельзя. Мы не должны ничего скрывать. Фукс действовал по идейным соображениям. Он не был предателем того мира, в котором жил. Передать чертежи атомной бомбы Советскому Союзу он считал своим долгом. Иначе это будет выглядеть попыткой реабилитировать СССР, придать ему больший авторитет. Мы не нуждаемся в ложном авторитете, как и в сокрытии правды.
Нужно было сказать, что Карибский кризис был остановлен не звонком по «красному» проводу» (прямому телефону Белый дом — Кремль), а по дипломатическим каналам. Хрущев согласился вывести ракеты с Кубы, Кеннеди — из Турции и Италии. То, как действовали эти руководители, показало, что это были большие руководители. Можно надеяться, что и в будущем на самом верху будут люди такого же ранга. Но нельзя же вечно конфликты решать именно так. Их нужно просто не допускать. Для этого всем странам нужно больше открытости, того, что мы сейчас называем гласностью.
Я думаю, что этот фильм является одним из основополагающих камней гласности и потому имеет большое значение.
Речь Тухачевского... Мы не услышали ее сегодня. А может, она где-то есть. Мы слышали прямую речь Сталина на параде 1941 года. А где же его прямая речь на пленумах и съездах? Без этого полной правды быть не может, без этого мы не поймем всей трагедии, которая произошла с нами.
Хорошо, что в этом фильме намного больше, чем в других, показана историческая роль Хрущева. Оценка Хрущева в нашей стране до сих пор несправедлива. Если говорить о широких слоях населения, то у них сложилась неверная оценка своего главы государства. Это была фигура мирового значения. Но кому много дано, с того много и спрашивается. И все же спрашивать нужно справедливо.
Рейкьявик был разведкой боем. Сам бой еще впереди. За мир должны отвечать все — и политики, и не политики, но все они должны изначально исходить из правды. Вот полет Пауэрса, показанный в фильме... Здесь он изображен, как новый наметившийся курс Эйзенхауэра. Но это не так.
8
Эйзенхауэр выступал с проектом открытого неба. Теперь, с появлением спутников, это стало реальностью. Это фактор стабильности. То, что тогда предложил президент было тоже реальностью на том уровне техники. И Советский Союз не принял это предложение только потому, что он был слабее, чем он себя изображал. Он шел сознательно на военный блеф. Его территория была покрыта лагерями, и он не желал демонстрировать этого всему миру. И тогда ответом на эту позицию стала программа У-2. Пауэре летел в направлении на центр Советской военной промышленности. На центр атомной промышленности, на Урале. Он был сбит недалеко от Свердловска, немного не долетев до своей цели. Это была не провокация, а попытка осуществить свое предложение явочным порядком. Тем более что чуть более недели назад их самолеты благополучно пролетели над всей территорией Советского Союза. Полет Пауэрса не был неожиданностью. Потом было совещание в верхах, но в этот момент вмешалась новая политическая сила — Китай. Ультиматум Мао-цзе-дуна звучал так: или не будет договора четырех держав, или я расколю мировое коммунистическое движение. Не полет У-2 стал причиной крутого поворота в политике, а ультиматум Китая. Это, конечно же, не единственная причина. Как всегда их несколько. Хрущев хотел победы на выборах Кеннеди, что, как известно, и произошло. Хотя потом Хрущев и говорил: какого черта нам нужен этот Кеннеди, если все равно он ничего не может. Потом историки назовут этот момент моментом потерянных возможностей.
Сейчас возникает тупиковая ситуация с СОИ, которая может быть разрешена, как я считаю, просто игнорированием СОИ.
Я желаю авторам этого фильма пережить обрушившуюся на них славу. Это трудно, это может быть самое тяжелое в жизни. Но нужно идти вперед, говорить, очищаться, восстанавливать свою историю.
Самая страшная болезнь нации — это мифологизированное сознание. Почему у нас всех было раздвоенное мышление? Разве мы не знали о масштабах репрессий? Знали. Но думали, что всего этого не знал ОН!
Нужен фильм о двадцатом съезде партии, о голоде в деревне в двадцатые годы...
Умолчание — есть ложь!
Сейчас кинодокументалистика идет впереди историков, медленно осмысляющих все произошедшее с нами. В чем-то впереди и журналистика...
Только не следует забывать, что гласность — это еще не свобода печати и не свобода совести».
Собственно, для одного пятистраничного интервью материала было уже сверхдостаточно. Но никто не хотел прерывать разговора. Было ощущение эйфории, но был и страх: а вдруг все это в последний раз.
9
Меняя пленку в диктофоне, я включил его в какую-то не ту розетку. Раздался жутковатый рык.
— Ну, начинается! — весело сказала Елена Боннэр. — И здесь от них покоя нет.
Все, конечно, поняли, что эта реплика в адрес КГБ, и нервно хихикнули. Сахаров только улыбнулся.
Наконец, все распрощались и пошли провожать нас до редакционной машины. Боннэр предложила мне зайти к ним за телефоном Игоря Пятницкого. Я вновь поднялся на седьмой этаж. Телефон в суматохе опять не нашли, зато Руфь Боннэр дала мне книжечку, изданную за бугром, — «Дневник жены большевика».
На следующий день я с утра ушел в Битцевский лес и там расшифровывал пленки. Однако прогуливающиеся по тропинкам люди, услышав «Непривычные суждения, стали подходить ко мне все ближе и ближе, а потом и вовсе устроили стихийный митинг. Пришлось ретироваться домой.
Рано утром текст интервью под заголовком «Прямая речь» уже лежал на столе у главного редактора. Часа три я пребывал в весьма несчастливом неведенье.
Новый звонок по внутреннему телефону и предложение зайти опять ничего хорошего не предвещали. .
Главный был угрюм и страшно раздражен:
— Ты же понимаешь, что напечатать материал в таком виде мы не сможем.
— Почему? — я действительно не понимал. Каждое слово Сахарова несло нам откровение, открывало на что-то глаза и не касалось каких-то военных секретов.
— Зайди к Ю. Б.(заместитель главного), я отдал ему текст, поработайте вместе.
Далее начался сущий ад. Ю. Б. пытался все переписать по-своему, уверял меня, что Сахаров все напутал, что на самом деле все было по-другому. Мы орали друг на друга, я выбегал из кабинета, возвращался, убегал снова. Грозился на все наплевать и вообще уйти из редакции. На душе было отвратительно.
Наконец, мы пришли, как тогда модно было говорить, к какому-то консенсусу. То ли мне действительно этот компромисс показался приемлемым, то ли Ю. Б. удалось меня загипнотизировать (хотя в жизни я не поддавался ничьему внушению), но, так или иначе, новый вариант появился на свет.
Я позвонил Сахарову и сказал, что зачитаю текст по телефону. Он согласился, но позвал к телефону Елену, попросив ее прослушать интервью по параллельному аппарату.
10
Я начал читать. Сахаров прерывал меня чуть ли не на каждом абзаце. «Это не так», «Я этого не говорил» или «Говорил не так».
Все летело к чертовой матери. С отчаяния я предложил привести ему текст, чтобы он сам внес в него поправки, но не позднее, чем к завтрашнему утру. Неожиданно он легко согласился, и я помчался на улицу Чкалова.
Помчался — слово весьма относительное. Редакционных машин не было, а такси я еле-еле поймал.
Дома я застал одну Руфь, Елена и Андрей уехали в какое-то посольство на прием. Видя мое отчаяние, Руфь пригласила меня на кухню покурить и заверила, что к утру все будет готово, Андрей выправит текст.
— Когда! — уныло засомневался я.
Руфь предложила мне чаю и стала расспрашивать, успел ли я прочитать книгу Юлии Пятницкой.
— Только начал, но уже страшно. Она что, постепенно сходила с ума?
Руфь кивнула.
— Вы ее знали? -Да
— Многословной назвать ее было трудно. Я много курил, она — еще больше. Выкуренная папироса тут же сменялась новой. Она не только не торопила меня уйти, а наоборот, задерживала. До сих пор не могу понять, почему она вдруг приняла меня, доверилась..
Расстались мы уже как сообщники в общем «заговоре» против Сахарова, который просто обязан выступить в нашей газете.
С утра я уже был у Сахарова. Он уже ждал меня на кухне.
Он молча кивнул и протянул статью, шепотом же попросив больше ничего не править.
Я кубарем скатился вниз и уже в машине начал перечитывать интервью. Шофер подозрительно покосился на меня, когда, дочитав текст до конца, я разразился истерическим хохотом. Со скрупулезной точностью академик восстановил по памяти текст, который я расшифровывал с пленок. .».;¦
В редакции я гордо отдал текст Ю. Б. и сказал, что более изменять его академик отказывается. Либо печатайте так, либо не публикуйте вовсе. Сахаров в славе не нуждается.
О чем уж совещалась главная редакция, для меня полная тайна. Но скоро меня вызвали, предложили сменить заголовок и в двух местах сократить текст. Ну, эти-то мелочи я устранил мгновенно, согласовав, конечно, сокращения с Сахаровым.
11
Признаюсь, я расслабился. Мне уже казалось, что можно произнести вечно живую фразу: «финита ля комедия» — и торжествовать победу.
Но не тут-то было. Очень скоро ко мне в кабинет явилось редакционное чудище в лице нашего цензора Миши и, ткнув пальцев в один абзац, спросило: откуда это Сахаров взял, что чертежи атомной бомбы выкрал для нас некто Фукс. Что никакого Фукса он не знает, а кража чертежей для наших ученых — злобная выдумка западной желтой прессы.
Я опять позвонил на Чкалова и растерянно спросил академика: что же делать?
— Покажите им книжечку, к сожалению, сейчас у меня ее нет, она пять лет назад вышла в Воениздате и там есть кое-что про Фукса. Они сами выдают свои секреты, а потом пытаются обвинить в этом других...
При помощи главного редактора книга нашлась в библиотеке «Известий». Я торжественно процитировал нужный абзац Мише. Тот что-то пробормотал про необходимость показать книгу начальству и ушел. Я ему ехидно прокричал вдогонку, что в случае утери библиотечной книги он будет обязан уплатить за нее в десятикратном размере.
В типографию уехала дежурная бригада, материал уже можно было снять только на день, задержав выпуск газеты, а атака на Сахарова все продолжалась. Звонил по вертушке какой-то не очень главный начальник, потом самый главный...
Оказалось, что в книге действительно сказано, что Фукс передал кому-то чертежи атомной бомбы и отсидел за это солидный срок, но не сказано — кому. Поэтому этот кусок надо выбросить из материала.
— Наверное, Новой Зеландии, — ехидничал мой Главный.
— А я вот не подпишу в печать в таком виде, — не ехидничал Главлито-вец. Главный рычал и ругался по-черному. Правда, самое страшное было, когда он не рычал, а говорил очень тихим, почти елейным голосом:
— Нельзя? А почему? А вы запретите мне все это письменно, и с этой бумажкой я завтра же поеду в ЦК. Этот эпизод есть в фильме, а он зали-тован. Вот номер лита. Фильм уже видел Горбачев, и он ему понравился. Я имею право брать ответственность на себя. Если вы выпустили фильм и что-то там прозевали, то это ваши «семейные» трудности.
Из редакции я уехал почти ночью, увозя с собой первые экземпляры тиража, все еще не уверенный в том, что газета увидит своего читателя, а читатель увидит газету.
У единственного газетного стенда «Московских новостей» стояла Огромная толпа. Кто-то зачитывал статью вслух, ему подсвечивали десятком карманных фонариков...
Утро было почти триумфальным. Редколлегия ахала и называла этот номер лучшим за все последние месяцы. Главный соглашался,
12
но, как я подметил, тревожно косился на вертушку. И она зазвонила. Разговор с незнамо кем был резким, почти грубым. Главный, наконец, швырнул трубку и продолжил вести редколлегию.
В эту минуту я осознал весь идиотизм своего торжества. Ничуть не потеряла своей актуальности старая журналистская поговорка: «материал может написать каждый дурак, а напечатать его может только Главный, если он настоящая ЛИЧНОСТЬ».
Дальнейшие объяснения, связанные с Фуксом, предстояло вести Ю. Б. Он куда-то звонил, писал какие-то объяснительные записки и, кстати, не винил меня ни в чем. Знал ли он тогда, что впредь ему будет суждено нести на себе всю сахаровскую эпопею, получать пинки, выслушивать унизительные нотации? Потерять место и. о. первого зама Главного? Быть переведенным в простые обозреватели, и только дружный бунт Главного и всей редакции остановит его скольжение вниз по служебной лестнице.
Забрав несколько экземпляров газет и бланк дефицитной подписки на «МН», я рванул на улицу Чкалова..
Засиделись допоздна. Я стал прощаться.
— Я вас провожу, — вдруг предложил Сахаров. Я удивился и отказался.
Выйдя на улицу, побрел по краешку тротуара к Курскому вокзалу с надеждой поймать такси. Через несколько шагов почувствовал, что взлетаю в воздух, что земля ушла из-под моих ног. Конечно, я краешком глаза видел идущего мне навстречу человека, слышал шаги идущего сзади, но как-то не совместил это со своим вертикальным взлетом.
И вдруг со стороны раздался уже очень хорошо мне знакомый голос:
— Ребята, вы что это?
И что-то вроде: «не шалите, я тут».
Земля была возвращена моим ногам. Впереди меня оказались двое быстро уходящих людей, а от бровки тротуара быстро отъехала черная «Волга».
Я растерянно оглянулся. В дверях своего дома стоял Сахаров, грустно склонив голову набок. Я махнул ему рукой, что все в порядке, и тут же поймал такси.
Всю дорогу я промолчал. Разговорчивый водитель не услышал от меня ничего, кроме: угу, ну-ну, надо же... Мне не было страшно, я, действительно, не успел испугаться, но ощущал какое-то опустошающее унижение. Рано мы решили, что прошлое уже в прошлом. Нас, если пожелают, в любой момент вернут из вертикального положения в позу «чего изволите?». Этим балом по-прежнему правили не мы.
Через несколько минут после моего возращения домой раздался телефонный звонок. Звонил Сахаров. Он извинился за позднее беспо-
13
койство и стал уточнять детали какого-то незначительного события. Я отвечал, понимая, что не они интересуют академика, ему важно было убедиться, что фарс КГБ не закончился трагедией.
С этого дня мы созванивались почти ежедневно. Появление статей Сахарова в периодической печати для кого-то стало чуть ли не сигналом к окончательной реабилитации. Его стали обременять просьбами похлопотать за кого-то, восстановить справедливость. Он перезванивал мне, спрашивал, что можно сделать для этих людей, к кому сейчас следует обратиться, чтобы не нарваться на равнодушный отказ.
Были, однако, и другие звонки: с угрозами, проклятиями за то, что печатаем в своей газетенке предателя, ратующего за войну, продавшегося Западу за доллары. И все-таки добрых звонков и писем было больше.
Меня часто спрашивали, что больше всего привлекает в Сахарове: ум, простота, несгибаемость? А я и сам бы себе не мог ответить на эти вопросы. Нет, нет, видит бог, я не преклонялся перед академиком, да он бы и сам не потерпел никакого преклонения. Не заискивал, не пытался вписаться в стиль этого дома, стать другом семьи. Все события происходили как-то сами собой, естественно, без какого-то вдруг написанного сценария. Вот так запросто звонил я, вот так запросто звонил он мне. И не вздрагивало сердце, когда жена или теща передавали мне: «Позвони Сахарову, он тебя ищет». И все же я сам до конца не понимал, почему Сахаров и Боннэр вдруг так плотно вошли в мою жизнь, почему уже не мыслю себе существования без них, как без чего-то одновременно бесконечно ценного и уже как бы само по себе разумеющегося.
Что-то понять помог вдруг вспомнившийся эпизод из моей былой службы в армии...
Самым тяжелым и ответственным днем для нашего командира роты был не день учений, не день проверки состояния нашей боевой готовности, а день выборов в какие-нибудь Советы.
В этот день он являлся в казарму за час до подъема, приторно-улыбчатый и предельно настороженный. Ну, во-первых, ему нужно было успеть заткнуть дневальному рот, чтобы тот (ой, не приведи господи!) не заорал: «Рота, подъем!», ибо следовало в меру громко и вежливо попросить: «Товарищи военнослужащие, вы приглашаетесь выполнить свой гражданский долг — проголосовать за блок коммунистов и беспартийных». Во-вторых, зорко проследить, чтобы ретивые сержанты не пинали сапогами еще не проснувшихся салаг, а будили их легким, чуть ли не отеческим потряхиванием за плечо.
Все вместе мы высыпали на улицу, чтобы не вполне охочей компанией идти на избирательный участок. И этот момент был самым ответственным для ротного. Злые, невыспавшиеся, все знающие про бесцель-
14
ность предстоящей церемонии, мы первые минуты валили туда гурьбой, а уже через минуты, сами того не желая, подсознательно оформлялись в строевую колону. А вот это и было самым непозволительным в день торжества блока коммунистов и беспартийных. Не дай бог враги за бугром узнают, что в армии голосовать ходят строем — клеветы не оберешься! (Чего они этого так боялись, не боясь другого, много худшего?).
Ротный налетал на строй пастушеской собакой, только не сбивал нас, овец, в кучу, а наоборот, рассеивал в бесформенную толпу. Мы расходились, но через некоторое время все повторялось сначала. Никто, конечно, из нас строя не любил. Но вбитый ежедневной муштрой инстинкт срабатывал бессознательно.
Сахарова невозможно было заставить ходить строем даже под угрозой смерти. Этот инстинкт был ему отвратителен генетически. Он был негнущимся интеллигентом в высшем понимании этого слова.
Интеллигент на Руси — давно уже понятие социальное, а не биологическое. Этим званием наделяют человека по принадлежности к профессии.
Для Сахарова интеллигентом был рабочий Анатолий Марченко и не были таковыми многие собратья по профессии.
Я сам был внутренним сопротивлянтом с самого детства. Не таясь, читал всю запрещенную литературу, отказывался делать то, что считал для себя позорным. Для сильных мира сего я был откровенно не своим, опасным, способным вдруг выкинуть какое-либо коленце. На служебной лестнице я застрял безнадежно и охотно. Поднимаясь по ней, необходимо было безудержно врать, топить других, пресмыкаться. Меня выше и не двигали, но и сам я не стремился туда. В кухонных диспутах участвовал сначала охотно, проклиная все и вся. Но в какой-то момент мне это обрыдло до отвращения. Теоретически все «камни были разбросаны», все уже знали, что и как разрушать. Я сам для себя осознал, что пора (хотя бы тоже теоретически) учиться собирать камни, чтобы из них построить настоящий дом, а не солдатскую казарму.
Мои призывы не находили откликов, да и сам я, к собственному стыду, уже отвык от созидания.
Сахаров же и был Сахаровым, уже только потому, что, разрушая, параллельно созидал. Даже тогда, безнадежно и бессрочно помещенный в клетку полусвободной тюрьмы в Горьком, он думал не о том, как подальше и поточнее отбросить тот или иной камень, а как его применить в новом строительстве, ибо другого материала для этого нового дома не будет.
Поэтому он и был, в отличие от всех нас, пророком. При жизни никто не осмеливался назвать его именно так. Так назовут только после смерти.
15
Глава 2 МЕССИЯ И МЫ
Давно уже (через какие-то недели) я подружился с Игорем Пятницким, чья мать, сходя с ума от происходящего вокруг беззакония, написала книгу «Дневник жены большевика». Давно уже написал и сверстал газетную полосу о горькой судьбе его отца, погибшего в сталинских лагерях. Но даже при острой нехватке хороших очерков материал упорно не печатали. Он переползал из одного недельного плана в другой и загадочно вылетал из текущего номера.
Бывая в доме Сахарова, я постоянно слышал вопрос: что с Пятницким? Даже всегда молчаливая Руфь время от времени интересовалась судьбой публикации.
Сам Игорь Пятницкий, отсидевший свою «кровную» десятку, почти ежедневно бывал в редакции, рассказывал все новые и новые подробности о гибели своего отца, о его следователе генерале Ланфанге, который (сукин сын) не отсидел и года после суда над ним в 1957 году за зверские пытки политзаключенных. Живет себе припеваючи на улице Горького и получает персональную пенсию. Не только по делу отца Игоря, но и по делам других видных репрессированных Ланфанг фигурировал как дикий садист, снискавший недобрую славу даже среди своих сослуживцекв-чекистов.
Он старой редакции «МН» к этому времени остались лишь считанные единицы сотрудников, но среди них был зам. главного редактора Евгений Лангфанг, невзлюбивший меня с самого первого момента моего появления на этаже. Человек в преклонном возрасте, по стати своей он производил впечатление палача, способного прикончить человека одним ударом кулака. Но, несмотря на это, мне и в голову не приходило связывать воедино его и Ланфанга из НКВД.
Но однажды, когда Игорь Пятницкий сидел в моем кабинете, кто-то заглянул и сказал, что меня вызывает к себе Ланфанг.
И вдруг всегда бодрый Игорь Пятницкий, закатил глаза и медленно стал сползать со стула. Я еле-еле привел его в чувство.
Придя в себя, Игорь тут же спросил:
— Это какой Ланфанг?
Я бездумно отмахнулся — мол, просто однофамилец.
Быстро распрощавшись, Игорь ушел.
Да, недооценил я старую гвардию.
Уже на следующий день, когда я заехална Чкалова, Сахаров спросил меня, знаю ли я, что у нас в редакции работает племянник генерала Ланфанга, кстати, сам бывший НКВДист?
16
Я изумился. За один какой-то день следствие было проведено с такой дотошностью, что дело вполне можно было бы передать в суд, будь мы действительно правовым государством.
Боннэр поинтересовалась, не из-за этого ли материал о Пятницком до сих пор не увидел свет. Я усомнился, но все-таки пошел к главному редактору и напрямую спросил: не потому ли не публикуется материал о Пятницком, что в редакции работает племянник его палача?
Яковлев искренне изумился и спросил: не ошибаюсь ли я?
Я высокомерно усмехнулся — разведка старой гвардии не ошибается никогда — и пересказал подробности.
По реакции главного я понял, что это сообщение почему-то для него важно.
Он задумался, а потом спросил, не может ли Сахаров дать какое-нибудь напутствие Горбачеву перед его встречей с Рейганом. Он планирует посвятить этому целую полосу, предоставив ее ряду именитых лиц.
Я осторожно предупредил, что Сахаров напишет такое, что он, главный, в жизни не решится на публикацию, а мы окажемся перед академиком в дурацком положении.
— Напечатаем! — самоуверенно пообещал Яковлев. — Все напечатаем, что бы он ни написал. Ты только уговори его. Это же не наше мнение. Все равно он выложит его «голосам». Ты, главное, уговори его, чтобы именно нам, а не еще кому-то.
Академика мне уговаривать не пришлось. Он согласился мгновенно, только спросил, когда нужно сдать текст.
— Вчера, — весело сказал я, как это было принято у нас в редакции. Он кивнул и ушел к себе в кабинет этажом ниже.
Наутро я уже держал в руках текст, не только написанный, но и напечатанный на портативной машинке с мелким шрифтом.
Прочитав напутствие Горбачеву, я похолодел от ужаса. Мои самые страшные предположения были ничем по сравнению с тем смыслом текста, который всего за одну ночь написал академик. В четыре страницы текста он умудрился вместить столько, сколько Горбачев не слышал за всю свою жизнь:
Прорыв должен быть продолжен и расширен.
Андрей Сахаров, академик.
Соглашение по ракетам средней и меньшей дальности — событие огромного политического значения, реальное уменьшение ядерной угрозы, нависшей над человечеством. Стороны согласились на действительно эффективный взаимный контроль. Все это — проявление нового мышления. Крайне важно, чтобы достигнутый прорыв был продолжен и расширен.
Я считаю, что следующим шагом должно быть соглашение о 50-про-
17
центном сокращении стратегических ядерных сил — ракет и других межконтинентальных средств доставки. Это соглашение, по моему убеждению, может быть достигнуто, независимо от проблем противоракетной обороны и каких-либо политических и военных проблем. Моя убежденность тут основана на общепризнанной всеми экспертами малой эффективности и уязвимости СОИ в обозримом будущем. 50-процентное сокращение межконтинентальных ядерных сил при всех условиях не нарушит стратегического равновесия в мире, но в то же время вместе с соглашением о ракетах средней и меньшей дальности создаст совершенно новую психологическую и политическую обстановку для дальнейшего продвижения к более безопасному и справедливому миру, для разрешения региональных конфликтов в обстановке большего доверия для дальнейшего ядерного разоружения. Предпосылкой более глубокого (более чем на 50%) ядерного разоружения является взаимоприемлемое решение проблемы ограничения противоракетной обороны и исследований новой военной техники в условиях взаимного контроля, равновесия и сокращения обычных вооружений, политические и военные меры, способствующие взаимной безопасности и доверию (такие, например, как создание в Европе и других регионах полностью демилитаризованных коридоров), большая открытость общества.
В применении к СССР неотложными, по моему убеждению, являются: 1) ликвидация очага недоверия в обширном регионе, прекращение страданий афганского народа и гибели советских солдат, быстрый вывод советских войск из Афганистана, 2) безусловная реабилитация всех осужденных за убеждения и связанные с убеждениями ненасильственные действия (в начале года были освобождены, насколько мне известно, но не реабилитированы 200 человек. Это способствовало бы международному доверию).
Я считаю возможным и необходимым в обозримом будущем осуществление СССР смелого шага — сокращения в одностороннем порядке срока службы в армии, флоте и авиации с одновременным сокращением всех видов вооружений.
Освободившиеся в мире, и в частности в СССР, БЛАГОДАРЯ РАЗОРУЖЕНИЮ СРЕДСТВА И ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШЕНИЯ НЕОТЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ МАСШТАБЕ.
ДЛЯ СССР РАЗОРУЖЕНИЕ - НАРЯДУ С ДЕМОКРАТИЕЙ, ГЛАСНОСТЬЮ, ПРЕОДОЛЕНИЕМ ДОГМАТИЗМА И ЗАСТОЯ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, КАДРОВОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ - ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕСТРОЙКИ, ИСТОЧНИК ЕЕ СИЛЫ.
18
В ОБЩЕИСТОРИЧЕСКОМ ПЛАНЕ СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ОТ ТЕРМОЯДЕРНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО САМОУНИЧТОЖЕНИЯ ВОЗМОЖНО, ПО МОЕМУ УБЕЖДЕНИЮ, ЛИШЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГЛУБОКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В НАПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОСТИ ОБЩЕСТВА, СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, СБЛИЖЕНИЯ (КОНВЕРГЕНЦИИ) КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ С ОТКАЗОМ ОТ ПРЕДВЗЯТОСТИ, ДОГМАТИЗМА, МЕССИАНСТВА, ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛЬНОГО РАВНОПРАВИЯ ВСЕХ . НАРОДОВ И РАС НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ (МП 49, 6 ДЕКАБРЯ 1987 г.).
Видимо, моя физиономия все же что-то выражала, потому что академик спросил:
— Что-нибудь не так? Может, это вам не подходит?
— Нам-то подходит, но подойдет ли это Горбачеву, — горько пошутил я.
Мы в «МН» были, конечно, к этому времени отчаянными храбрецами, все время лезущими на рожон. Но одновременно оставались и не менее отчаянными трусами. Ничто не мешало властям прихлопнуть нас в удобное для них одночасье. Яковлев уже получил свой выговор за публикацию некролога эмигранта Виктора Некрасова и жуткую взбучку на коллегии АПН за публикацию и отклики на письмо десяти писателей-эмигрантов «Пусть Горбачев представит нам доказательства».
— А если не напечатаем?
— Не получится, я буду не в обиде.
Вернувшись в редакцию, я пошел к главному и протянул ему сахаровский меморандум с соответствующими пояснениями.
Думаю, что, читая текст, главный испытывал все те же чувства, что и я. Прочитав, он отложил странички на край стола, чуть подумав, снял трубку вертушки.
Не знаю почему, но я сразу пенял, что он звонит нашему непосредственному начальнику — директору АПН, известному нам под кличкой Иезуит.
Говорил Яковлев тихо, очень спокойно, но чуть вкрадчиво.
— У меня текст Сахарова в виде обращения к Горбачеву. Он приготовил его для западных корреспондентов. Мой сотрудник Жаворонков, вы его знаете, буквально вырвал это письмо у академика и отговорил его пока выступать по «голосам». Но вы же знаете упрямство Сахарова, а потом у него есть второй экземпляр... Я хотел бы подъехать и посоветоваться с вами, может, сделаем опережающий шаг?
От такого вранья, да еще по вертушке, которая у нас всегда ассоциировалась с символом власти, да еще члену ЦК, я буквально остолбенел. Даже в самом страшном сне я не мог себе представить, кто бы, кроме КГБ, смог вырвать у А. Д. что-то из рук.
19
Яковлев спокойно положил трубку и сказал:
— Поехали. Он ждет нас.
— А я-то зачем, — посопротивлялся я. Посещение начальников любого ранга не было моим самым любимым занятием.
— Ты — моя козырная карта! Он вообще считает, что ты главное исчадие ада.
— После Елены Боннэр?
— Перед...
В общем-то, не очень поняв свою надобность, я сел в машину главного, и мы поехали в АПН.
По дороге говорили о чем угодно, но не о Сахарове. О редакции, о дефиците хороших журналистов, о неумении работать по-западному. Особенно доверительной была беседа о его сыне, Володе. Мы работали с ним вместе в двух редакциях и, будучи намного его старше, я был откровенным поклонником его таланта. А Вовка вдруг плюнул на журналистику и ушел в кооператоры. Тогда и мне казалось, что он в чем-то запутался, может, в своих финансовых делах. А отец этот шаг расценил чуть ли не как предательство. Конечно, наши коллеги «справа» не упустили случая поиздеваться над Яковлевым-старшим: «мол, отправил сына «в люди».
Вдруг Яковлев резко сменил тему и спросил:
— А можно ли уговорить академика кое-что смягчить, подправить, не меняя всего смысла обращения к Горбачеву?
Я, не раздумывая, сказал: «Нет».
Пройдя в АПН, я остался в приемной Иезуита, а Яковлев без доклада вошел к нему.
Секретарша с любопытством изредка косилась в мою сторону.
Наверное, так по-разгильдяйски одетых людей в приемной Иезуита еще не бывало. Все сотрудники этого ведомства были безукоризненно элегантны, но все равно почему-то были похожи на официантов. Наверное, потому, что всегда готовы претерпеть что угодно и от кого угодно.
Через некоторое время я вышел в коридор покурить, и меня тут же позвали в кабинет, причем с таким волнением, словно там случился пожар, а потушить его могу только я.
Кличка Иезуит вполне соответствовала виду нашего высокого начальника. Он был худ и несгибаемо прям и в отличие от большинства моих сограждан, лицо его не выражало ни радости, ни огорчения, оно было узким и длинным. На груди его не было большого церковного креста на тяжелой цепи, но я его явственно представлял. Он и только он мог быть человеком-портретом, который за короткое время претерпел и взлеты и падения и некоторыми недальновидными чиновниками слишком рано был списан в архив.
20
Иезуит привстал со своего трона-кресла, протянул через стол руку и пригласил сесть.
Я сел, довольно-таки нахально развалясь, а он углубился в текст, словно бы до моего прихода не успел прочитать его вдоль и поперек.
Молчание было неприятным. Меня опять тянули в какую-то отвратительную игру, которую мои начальники называли между собой высокой политикой. Для меня же все это было игрой в кошки-мышки с незавязанными глазами.
Неожиданно в кабинет Иезуита вошел его первый заместитель, герой повести Владимира Войновича «Иванькиада». Он плюхнулся в кресло, бесцеремонно взял первые страницы послания Сахарова и стал читать.
Герой Войновича был намного попроще Иезуита. Этакий удачливый крестьянин-дурачок, которому почему-то крупно повезло.
— Эге, — вдруг радостно воскликнул он. — А вот здесь бы надо поправить!
Его рука хищно взвилась над столом в поисках стила, которым он не написал ни единой собственной строчки, зато вымарал их на доброе собрание сочинений.
Иезуит вдруг вырвал из рук Героя сахаровский текст и глухо сказал:
— Годами ссылки в Горький он заслужил хотя бы то, чтобы вы его не правили.
Моему изумлению не было конца. Иезуит на то и был Иезуитом, что никогда не срывался, не выходил из себя, не терял самообладания. Вероятно, в этот момент еще больше бы изумились те, кто его знал давно и близко.
О нем говорили как о меценате, о тонком ценителе всего изящного, как о страстном коллекционере картин, знатоке музыки. Недавно он приютил в зале АПН бездомный оркестр Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы». И вот такой человек в присутствии посторонних позволяет себе буквально оскорбить подчиненного.
Герой, которому было не занимать ни у кого наглости и нахальства, так как всего этого у него было предостаточно с самого рождения, вдруг растерялся. Его крестьянская физиономия пробрела угодническое и трусливое выражение. Он пробормотал что-то вроде «ну я пойду» и удалился, чуть ли не на цыпочках.
Ну и ну, с изумлением подумал я, кое-кто не очень хорошо будет спать сегодня ночью. Коротенькое послание Сахарова показалось им пострашнее романа Оруэлла «Скотный двор», который они уже разрешили публиковать. Сегодня же эти листочки лягут в папки для неотложных дел, кто-то будет долго созваниваться по вертушке, перекладывая ответственность на своих коллег или приглашая разделить ее.
21
Только все они в тупике. Текст Сахарова все равно будет услышан и на Западе, и у нас. «Есть обычай старый на Руси — к вечеру послушай Би-би-си». Как же они его боятся, как вынуждены считаться с ним, если всего четыре машинописных странички повергли их в такую панику.
А между тем Иезуит все всматривался в сахаровский текст, словно ожидая, что какие-то абзацы, строки или слова исчезнут вдруг сами собой. Но они не исчезали.
Иезуит поднял глаза и сказал с досадой:
— Ну откуда А. Д. взял такое количество политзаключенных. По нашим данным, их вдвое меньше!
— Проверь, — коротко попросил главный, глазами показав, что проверять нужно из приемной.
Это он сделал правильно и вовремя, потому что я уже внутренне потянулся к телефону Иезуита.
Я вышел в приемную и позвонил А. Д.
Он подошел сразу, словно был в курсе того, что происходит.
Я громко сказал, что ИХ данные о политзаключенных и ЕГО данные расходятся, не мог ли он еще раз уточнить.
— Сейчас проверю, — сказал А. Д. — вы не вешайте трубку, я только возьму свою амбарную книгу.
Я явственно представил себе, как А. Д. сначала пошел в одну, а потом в другую сторону, замер, чуть подумал и сказал: «Люсенька, ты не знаешь, где наша книга со списком политзаключенных?»
Ровно через минуту я глухо услышал именно эту фразу. Потом трубка опять ожила, и Сахаров сказал: «Нет, нет, все точно, я могу назвать их всех поименно».
— А. Д., а может, уже кого-то выпустили, а вы не знаете?
— Нет, нет, я бы узнал сразу же.
— Ладно, — сказал я, — пошел убеждать.
А. Д. даже не поинтересовался, кто эти ОНИ, сомневающиеся в точности данных, я думаю, что ему это было даже неинтересно.
Я вернулся в кабинет и с порога процитировал академика: «Все точно, он может назвать всех поименно!» « >
— Не надо, — сказал Иезуит и переглянулся с главным. Тот встал, и мы вышли из кабинета.
Главный спросил:
— Ты можешь договориться с Сахаровым о встрече со мной? Я пожал плечами: «Конечно, могу!»
— Звони!
Секретарша поглядывала на нас уже не с любопытством, а с повышенным вниманием, понимая, что происходит что-то очень и очень важное.
22
Я опять набрал номер академика и радостно заорал: -А. Д.!
— Нет, это не А. Д.
До самого последнего дня А. Д. я все время путал их голоса. Видимо, после долгого общения они стали очень похожи.
— Елена Георгиевна, это Жаворонков, а можно к телефону А. Д.
— А. Д. моет машину.
— Он моет на улице машину, — передал я главному.
— Спроси, не нужна ли ему помощь.
— Е. Г., а не нужна ли ему помощь? — как попугай вторил я Главному.
— Не нужна, он любит это делать сам.
— А можно, сейчас мы приедем к вам с моим Главным?
— С Яковлевым? Приезжайте, мы никуда не уйдем. Я положил трубку и сказал:
— Они нас ждут. г Дорогой Главный молчал.
Так, думал я, сошлись на том, что решили уговорить академика отступиться от кое-каких радикальных требований. НУ, ну... Сто кукишей вам в карман. Не знаете вы Сахарова. Это мы бобики, хоть и огрызаемся, но умолкаем по команде или лаем наедине с собой.
У меня не было никакой обиды на Главного, хоть он и не поверил в невозможность уговорить академика. Злость была ко всем и к никому. Объявляя себя демократическим обществом, мы все еще юлили, продолжали жульничать, торговаться, как рыночные перекупщики, спекулянты с маленькой буквы.
— Ах, так, — подумал я, — ну я тогда тоже поторгуюсь.
— Егор Владимирович, я знаю, как смягчить академика. Главный аж вздрогнул. Видимо, он внутренне готовился к встрече с
А. Д., моделировал ситуации, разрабатывал какие-то варианты отступления и атаки. -Как?
— Пообещайте напечатать материал о Пятницком.
— Им это так важно?
Ох, уж это «им». Молва, даже на таком информативном уровне, как мой Главный, по-прежнему видела в Боннэр мотор, злой гений, движущий податливым академиком.
— Да, важно.
— Почему?
— С ним дружила Руфь, мать Елены. Они дружат с сыном Пятницкого, Игорем.
Главный неопределенно хмыкнул. .,.
23
В квартиру он вошел шумно, весело, как на чей-то день рождения. Шутил, раздавал комплименты, работал в темпе, создавая эффект лидерства. Надо сознаться, что делал он это классно. Мало кто мог отказать ему в чем-то. Он гипнотизировал своим обаянием, широтой интеллекта, силой воли, какими-то прямо-таки восточными чарами. Он сыпал именами — Леша, Петя, Вова (все из высшего эшелона власти). Давал точные убийственные характеристики, выдавал уникальную информацию. Все это в считанные минуты обрушилось на Сахарова, и у меня появилось горькое, гаденькое и трусливое чувство, что академик не устоит. Елена индифферентно курсировала между кухней и комнатой, готовя кофе.
Выбрав удобный момент, главный пошел в решительную атаку, предлагая Сахарову смягчение формулировок, сокращения, замены.
Академик слушал все это внимательно, чуть подавшись к собеседнику. Он ни разу не прервал Яковлева, не возразил ему, не изменился в лице в протестующем запале.
Это обмануло Главного. Закончив, он откинулся в кресле, и на его лице преждевременно мелькнуло торжество победителя.
Сахаров чуть помолчал, потом ровным голосом начал терпеливо разъяснять Яковлеву, что все написанное им для «МН» не случайные заметки, а его позиция, которую он не собирается менять. Что ему важно сказать это, а не что-то, на это похожее. Что он вовсе не настаивает на публикации, понимая и отдавая себе отчет, в каких цензурных тисках находится наша печать. Что именно поэтому власть по-прежнему может лгать, обманывать общественное мнение, заставлять видеть в Западе врага, который спит и видит, чтобы отнять у нас всех то, чего у нас уже и нет. Что козыряние опасностью СОИ не приведет ни к чему другому, как к новому витку гонки вооружений, а проще — к нашей катастрофе. Подтверждение этого — печальный опыт хрущевских переговоров (полумерных) о частичном разоружении.
Таким растерянным я не видел главного больше никогда. Ему (ему!) прочитали популярную лекцию в ответ на предложение прийти к консенсусу. <«
Надо было уходить. Было яснее ясного, что «уговоры» не состоялись, но быстрый уход был бы похож на бегство.
Разговор перешел в полусветское-полуделовое русло. Сахаров поинтересовался судьбой материала о Пятницком. Главный пообещал напечатать, оговорившись, что наверху подобных изысканий не любят и что вообще, все, что касается Коминтерна, почти запретная тема. И вполне искренне сознался, что материал его чем-то пугает.
Елена согласилась с суждением о Коминтерне и сказала, что до сих пор ей ничего толком не говорят о судьбе отца.
24
Главный посетовал на трудность получения архивных документов. Даже он, работающий над Ленинианой, не имеет доступа кое к чему, чтобы знать реальную обстановку. Даже вокруг Крупской много туману, хотя бы потому, что с высокой степенью достоверности можно предполагать о реальном устранении Ленина от дел Сталиным еще при жизни вождя.
Сахаров заговорил о Катыне, о судьбе Валенберга, что не следует ждать, когда разрешат заниматься этим. Нужно заниматься, пока не будут окончательно уничтожены следы.
Я почти не вмешивался в разговор, только тогда, когда вдруг о чем-то спрашивали. Два человека, два политика, две крупные личности вели что-то вроде разведки боем.
В свои далеко за пятьдесят Яковлев был по-спортивному подтянут, ярок, стремителен в разрешении самых непростых ситуаций, насторожен и ловок в борьбе. Он никогда не бился о стену тоталитаризма головой, искал в ней щели, бреши, лазейки, известные только ему трещинки. Он, конечно же, знал цену каждого из этих церберов, но ему ничего не стоило позаигрывать с ними для каких-то будущих целей. Блестяще владея языком догматизма, он никому не позволял побеждать в этих турнирах. Вроде бы соглашаясь и отступив, он заманивал противника в догматическую ловушку и наносил ошарашивающий удар только тогда, когда собеседник уже праздновал победу.
Сахаров был совершенно иным. Вроде бы нескладный, чуть рассеянный, он концентрировался только в нужные моменты, становясь вдруг несгибаемым, несокрушимо могучим. Внешняя податливость не раз обманывала многих. Видимое добродушие старого милого дядюшки не раз путало все расчеты и тактические ходы воевавших с ним.
Был он немножко и лукав, но открыто, по-детски. Например, если он не был готов к ответу, то простодушно, словно только что очнувшись, переспрашивал: «Что?». На повторный вопрос отвечал уже обстоятельно, досконально.
Его несговорчивость и упрямство приписывались влиянию жены. И напрасно. Упрямство, в хорошем смысле этого слова, было его второй натурой. Ему претили обходные пути и маневры, он всегда шел прямо, словно бы раз и навсегда усвоив: любая гипотенуза всегда короче своих двух катетов.
Догматического языка всесильных аппаратчиков не признавал и не желал учиться ему. Его язык был прост, емок и не терпел двусмысленностей, половинчатости понимания.
Глядя на его рукописи, можно было предположить, что этот почерк принадлежит старательному, но не очень способному и очень неуверенному в себе человеку.
25
Все маленькие стычки между Боннэр и Сахаровым неизбежно заканчивались хохотом, еще большей притяженностью друг к другу.
Да, Елена часто вмешивалась даже в сугубо научные разговоры. Но это были не пустые суждения, в них всегда было рациональное зерно. Она держала в своей памяти тысячи мелочей, помнила массу, казалось бы, ненужных событий. Но именно это, а порой только это спасало их обоих от многих ловушек, капканов и капканчиков КГБ, да и западных авантюристов.
Они оба ходили по минному полю, не имея в руках ни схем минирования, ни чертежей. Только великолепная интуиция Елены спасала их от внезапной катастрофы. Поэтому-то КГБ в отсутствие Боннэр прямо-таки удваивало свои усилия. Но об этом позже...
Разговор затухал, мы распрощались и вышли на улицу. Главный не скрывал своей озабоченности, — впереди маячил скандал. Аргумент, что письмо Сахарова все равно появится на Западе, был слабоват. Мало ли его заявлений до этого появлялось на Западе? Печатать было нельзя, но и не печатать было нельзя. Можно было бы опубликовать это рядом с чьим-то противоположным мнением. Но с чьим? Чье мнение могло бы перевесить позицию Сахарова?
Много позже я понял, что этот момент был часом рождения параллельных структур власти. Да, мы, как Сахаров, считали, что Горбачев нуждается в поддержке, что его власть еще зыбка и атакуется в Политбюро всеми теми силами, которые хотели бы отштукатурить дом, а не построить новый.
Но и разница в наших позициях была огромной. Сахаров считал, что помогать нужно не поддакиванием, а подсказками неординарных путей выхода из кризиса. Он желал не иллюзорно, а реально участвовать в спасении страны. Побеждать в схватках не числом, а умением.
К Горбачеву у него было уважительное, но не подобострастное отношение. Он разговаривал с ним на равных, без пиетета. А мы, в редакции, еще не были готовы к такой позиции. Если чего-то мы уже не боялись умом, то боялись, по выражению Алексея Толстого, поротой задницей.
Главный подбросил меня до метро, и мы сухо распрощались.
Последующие дни были для меня сущим адом.
Весь понедельник прошел в молчании. Мне не звонили, меня никто не вызывал. Своими хитрыми путями я узнал, что Горбачев о письме уже знал, но еще не видел его, а значит, не принял никакого решения.
С молчания начался и вторник. Попахивало катастрофой. Появление номера «МН» без письма Сахарова означало бы одно: мне предназначена роль провокатора, вовремя подставленного академику, чтобы «давить и не пущать». Что я ему скажу завтра, как посмотрю в глаза?
26
Много позже я расскажу о пережитом в эти дни Елене. Она отмахнется, как от пустяка: «Вы что за дурачков нас, Гена, считаете? Что нам было не ясно, что вы не Горбачев, а Горбачев не вы...»
Не знаю, но случись это, я бы не смог войти в дом Сахарова, как входил прежде. Вольно или невольно, я стал соучастником политических игрищ, жизни академика не облегчающих.
Вдруг, наконец, зазвонил телефон внутренней связи, и секретарь Яковлева попросила зайти к нему в кабинет.
Он разговаривал с кем-то по вертушке, спокойно с длинными паузами. Подняв глаза, он протянул мне текст и показал два пальца в виде буквы V — победа.
Но, видимо, и на том конце провода облегченно хохотнули...
Главный жестом показал мне, чтобы письмо срочно засылали в номер, забив дыру, зияющую до полудня вторника.
Это был еще один прорыв в бетонной стене нашей «свободной печати».
На следующий день о письме и позиции Сахарова «заговорили» все «Голоса», письмо перепечатали в армянских и других газетах.
Звонили с поздравлениями и с проклятиями, с сомнениями и поддержкой.
Все понимали, что появление такого письма в газете — событие далеко не ординарное. Сахаров вышел из «подполья» и, несмотря на предупреждение Горбачева не заниматься политической деятельностью, занялся именно ею, да с такой интенсивностью и активностью, что волей или неволей превратился в самого заметного демократического лидера с надежной печатной «трибуной».
Сахаров становился постоянным автором «МН». Все осмелели и начали предлагать выступить на страницах своих газет. Он соглашался редко и очень неохотно, может, внутренне считая это изменой изданию, которое первым предложило ему выступить публично, вызвав на себя бешеный огонь.
Реакция Главного на эту эпопею была сдержанной, но и неожиданной. Как-то походя он спросил: не задумываюсь ли я над тем, чтобы написать портрет Сахарова. Я неопределенно пожал плечами. Это было и лестно, и страшно. Мало ли было тех, кто знал его лучше. Очерк Юрия Роста уже несколько месяцев не выходил на полосы «Литературной газеты», и он оставался автором нашумевших гранок.
Главный поправился: «Ну, не сию секунду и не завтра, но, в общем-то, скоро пора».
С понятием политического времени (когда пора, а когда рановато) у меня было всегда плохо. Поди, разгадай, почему завтра, а не вчера, сегодня или не через неделю?
27
Предложение Главного я расценил как мистическую награду, компенсацию за все то, что пришлось претерпеть от разных власть держащих инстанций.
Сахаровы собирались в отпуск.
А. Д. и Е. Г. даже слишком часто возвращались в разговорах к горь-ковской эпопее. Она стала каким-то водоразделом в их жизни. Хотя бы уже тем, что она явственно обозначила, кто есть кто. Кто подписал письмо, осуждающее деятельность Сахарова, а кто нет. Она не оставила около них людей нейтральных, резко размежевав друзей и знакомых на тех, кто сохранился в таковых после Горького, а кто нет.
В какой-то день я опять засиделся на Чкалова допоздна и, выходя из подъезда, вздрогнул. Мне показалось, что за толстой колонной мелькнула чья-то тень.
Я упрекнул себя за излишнюю подозрительность и пошел к Садовому кольцу ловить такси.
Вдруг сзади послышались торопливые шаги, кто-то почти бежал за мной. Я стал судорожно оглядываться в поисках хоть примитивного орудия обороны.
Вдруг запыхавшийся голос сказал:
— Вы не думайте, мы не следим за Сахаровым, мы его охраняем.
Я повернулся лицом к говорящему. Не гигант, но и не слабак. Голос не агрессивный, а почти заискивающий.
— А чего его охранять? — автоматически спросил я, все еще настороженно вглядываясь в лицо собеседника.
— Вы понимаете, в городе появились азербайджанцы (словно они Когда куда исчезали!). Они, по нашим сведениям, грозятся отомстить Сахарову за Карабах. Так вот, случись что, так ведь подумают...
— На вас, — подсказал я. Он кивнул.
— Ну, что ж, счастливой вам охранительной ночи!
— Вас не подвезти?
— Не надо, я знаю ваши маршруты. Собеседник обиделся:
— Я же по-доброму, вы же такси не поймаете в такое время.
Я неопределенно махнул рукой и вышел на проезжую часть, останавливая частные машины. Я уехал, а он еще стоял. Я так и не понял, по какому ведомству опекали в эту ночь академика Сахарова. Но лед тронулся. Они уже не желали его смерти. Они ее боялись.
28
Глава 3
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО
После моего возращения из короткого отпуска в дождливом и мрачноватом сентябрьско-октябрьском Крыму стало ясно, что мои отношения с главным редактором испорчены окончательно.
В мое отсутствие Яковлев в очередной раз швырнул Иезуиту заявление об уходе. Иезуит, приехав в редакцию, назвал этот поступок шантажом. Незнамо чем кончился бы этот конфликт, если бы Иезуит — Валентин Фалин внезапно не пошел на повышение в ЦК, став там Секретарем по международным вопросам.
Обстановку в редакции трудно было назвать веселой. Многие посматривали на сторону. Дела в моем отделе были и того хуже. Когда-то искусственно скрещенные отделы науки и культуры плохо уживались друг с другом. Статей по науке не было вообще, т. к. двое журналистов, оставшиеся от старой редакции, явно не «допрыгивали» до поднятой планки качества материалов. Их явно нужно было увольнять, чего я никогда не умел и не умею делать. Главный тоже не хотел делать этого своими руками. Короче, я по инерции тянул лямку, в любой момент ожидая взрыва.
Сахаров больше чем с любопытством выспрашивал о конфликтах в редакции, о слухах про скорый уход Яковлева. Я предпочитал отмалчиваться. Все было как-то так и не так. Главный выдвигался кандидатом в депутаты от Союза кинематографистов, но и уход из редакции ему тоже совершенно был ни к чему. Обретая депутатский мандат, он обретал и немыслимую до того защиту постоянно атакующей его конъюнктуры.
А. Д. тоже выдвигался по многим округам и его шансы быть избранным были бесспорны при любых коварных ходах администрации.
Главный затеял компанию по возвращению Сахарову всех отнятых у него наград, постановлением Верховного Совета СССР. Восстанавливая для себя уже подзабытую историю лишения Сахарова наград, я изумился перечню имен, поддержавших эту позорную акцию. Под воззванием подписались не расхожие конъюнктурщики, а цвет интеллигенции, ее киты, а ныне громогласные перестройщики.
Письмо рядовых сотрудников было суховато. До предела смелое и искреннее, оно не несло все-таки в себе той яркой взрывной силы, которая должна была открыть глаза всему обществу на собственный позор умолчания.
Из каких уж соображений, не знаю, но сделать это взялся академик Ро-альд Сагдеев, уже прославившийся в широких массах тем, что был единственным, голосовавшим против какого-то решения на последней сессии
29
Верховного Совета. Его фотография с высоко поднятой рукой в окружении скептически улыбающихся депутатов, обошла все газеты мира.
Предстоял запуск космического аппарата «Фобос», и, давая мне интервью по этому поводу, Сагдеев хитро вплел в него требование о возращении отнятых у Сахарова наград:
«...Возращение Сахарова из семилетней ссылки в Москву было воспринято не только у нас, но и во всем мире как победа нового мышления. Он вместе с нами: делает доклады на научных семинарах, пишет о перестройке на страницах газет и журналов, активно учувствует в работе Международного фонда за выживание и развитие человечества. Недавно он возглавил научный совет при Академии по проблемам космологии.
Академик возращен академии, но до сих пор ему не возращены награды. За достижения в решении прикладных проблем Сахаров был трижды удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1980 г. Постановлением Президиума Верховного Совета его лишили всех наград: «В связи с систематическим совершением Сахаровым А. Д. действий, порочащих его как награжденного...» Тогда же были отобраны звания лауреата Государственной и Ленинской премий. Президиум Верховного Совета СССР в это время возглавлял тот, чей мундир украсили пятью звездами.
Вернемся к перестройке. Ради ее необратимости, ради нашего нравственного самоочищения эти звезды должны снова засиять на груди академика Андрея Сахарова» (МН № 29,17 июля 1988 г.).
Страна, наконец, ахнула. В суете несуетного застоя многие как-то и позабыли об этой позорной акции. В редакцию и в Президиум Верховного Совета пачками полетели письма о пересмотре кощунственного решения.
Мой конфликт с главным разрешился в одночасье, сразу же после того как было объявлено новое штатное расписание редакции. Я оставался членом редколлегии, но... по отделу науки, перед которой не испытывал божественного трепета, в чем мы были абсолютно взаимны.
На следующий день я подал заявление об уходе из редакции сразу же после Нового года. Новой работы я не искал, имея на руках два договора на издание книг.
На мой демарш Главный ответил загадочным молчанием. Меня никто не вызывал, не трепал нервы, но на душе все равно было неспокойно.
Мою внутреннюю напряженность заметил Сахаров, спросил, не случилось ли чего и не надо ли помочь. Я решил не посвящать его в наши дурацкие игрища и сказал, что у меня все в порядке.
Академик работал над своей программой. В отличие от (не побоюсь сказать) большинства, он относился к этому труду с предельным вниманием и добросовестностью, выверяя каждый абзац, каждую строку.
30
Когда программа была готова, я принес ее в редакцию в виде интервью с А. Д. Насколько я помню, это был единственный материал Сахарова, который, несмотря на свою предельную остроту, прошел все инстанции без сучка и задоринки (МН № 6, февраль 1989г.).
Такого количества расксеренного номера «МН» с программой Сахарова я никогда не видел. Копию этой странички «МН» продавали по рублю (в тогдашней номинации), а то и по три.
Между тем приближалась дата моего ухода из «МН». Главный молчал. Я тоже. Внезапно, после обсуждения очередного номера, он попросил уйти всех и остаться только членам редколлегии.
Тихим и ровным голосом он сообщил присутствующим о моем заявлении. Наступило молчание. Потом кто-то попросил мотивировать такое неожиданное решение. Я объяснил, что готов и дальше заниматься культурой, где мне интересно и где у меня хорошие связи с авторами, к науке же интереса нет и считаю, что эта тематика вообще не вписывается в политический еженедельник, и заниматься я этим не хочу. Работать начал с шестнадцати лет и никогда бездельником себя не считал, и становиться им не желаю.
Меня пытались отговорить, и было неожиданно слышать какие-то теплые слова в свой адрес от людей, с которыми у меня были не лучшие отношения.
Так ничего и не решив, вопрос отложили на неопределенный срок.
Надо сказать, что еще в декабре, словно почувствовав что-то, меня неожиданно пригласили в редакцию журнала «Коммунист» и предложили занять должность обозревателя. Я рассмеялся.
— На меня же в органах полные штаны компромата. Начальство вежливо поинтересовалось, что означает выражение
«полные штаны». Я сказал, что это, мягко говоря, претензии к образу мыслей и образу жизни.
Мне возразили, что журнал перестраивается и ему нужны неординарные перья, способные создавать очерки, которые можно читать не только под дулом пистолета.
Разошлись в неопределенной заинтересованности. Во мне проснулась авантюрная жилка (где наша не пропадала?), начальство же «Коммуниста», видимо, было в сложнейшем положении. Коль вдруг рухнет однопартийная система, коль подписка перестанет быть святой обязанностью партийных организаций, кому станет, интересен такой журнал?
Почти сразу после ничего не решивший редколлегии «МН» меня опять попросили зайти в редакцию журнала «Коммунист», и резолюция о моих взаимоотношениях с органами была лаконична:
— Да, «полные штаны», но ничего конкретного. Вы нас устраиваете, устраиваем ли мы вас?
31
Я сдуру брякнул, что «да» и заполнил необходимые документы. Один из начальников спросил, кто возьмет на себя тяжелую обязанность звонить Яковлеву о моем переходе в «Коммунист» и получить от него все, что причитается и не причитается.
Ну, это уже были их трудности.
Подошел день выдвижения Сахарова кандидатом в Народные депутаты на расширенном заседании Президиума Академии наук.
Обстановка на этом собрании была не из лучших. Сахаров выходил выступать тринадцать раз. Престарелая профессура была утомлена и недовольна. Многие толпились в буфете Дома ученых, где давали дефицитные маслины. Кто-то поехал домой и не вернулся.
Мне было неспокойно, хотя все убеждали меня, что я сошел с ума, что уж кого-кого, а Академика, безусловно, выберут. Это ведь редкий случай покаяться за все то, что произошло с Сахаровым.
Поздно вечером я позвонил Елене. Академика еще не было. Я поделился с ней своими сомнениями. Боннэр беспечно отмахнулась: Черт с ними, со старыми дураками. Что будет, то и будет. Мы уезжаем к детям — и это самое главное.
Утром я узнал, что Сахаров и Сагдеев при голосовании не избраны. Многие академики на голосование просто не явились, а собрание решило считать голоса только присутствующих.
Последовал взрыв негодования в тишайшей до этого академии. Взбунтовались младшие научные сотрудники и среднее звено храма науки. Президиум трусливо помалкивал.
К Сахарову валом валил народ с предложениями баллотироваться по их округам.
Ко мне в редакцию заехала жена, мы собирались куда-то идти. Вдруг раздался телефонный звонок. Звонила Боннэр.
— Геночка, спасайте. У меня разбился телефонный аппарат, а у меня перед отъездом тысяча звонков. Достаньте хоть что-то, чтобы работало.
Я выпросил у телефониста старенький, но исправный аппарат и вместе с женой поехал к Елене. В квартире был бедлам. Елена ругалась с кем-то из прокуратуры:
— Да, знаю, что он в бегах. Даже знаю, где он, но не скажу. А вы вот ответьте мне: считаете ли вы его обвиняемым по политической статье? Если да, то у вас к нему не должно быть претензий. Если да, мы с Сахаровым занесем его в соответствующий список. Если нет, то у вас к нему не должно быть претензий. Что — громче? Я и так ору, у меня избиратели аппарат разбили. Дать вам телефон, и вы перезвоните? Ой, да ладно, вы прекрасно знаете наш телефон. Я жду.
Шлеп, трубка швыряется на рычажки.
32
— Ишь, продолжают строить из себя дурачков, не могут, видите ли, пересчитать своих политзаключенных.
Я начал подключать новый старый аппарат. Что-то не ладилось. Вмешалась Елена, и телефон заработал.
Я опять заговорил о позорном собрании в академии. Но Боннэр была категорически против избрания Сахарова в депутаты:
— Был Сахаров просто Сахаровым, пусть и остается им.
Однако начавшиеся политические игры продолжались. Неожиданно для всех в номере газеты «Известия» за 1 февраля 1989 года появилась на последней полосе (сроду такого не бывало) как бы неподписанная передовая о неэтичном поведении академика и его жены. «Перестройка и ответственность. Размышления по поводу одного интервью». Статья пересказывала интервью, данное итальянским журналистам, в котором Елена, критикуя непрямые выборы Председателя Верховного Совета, сказала, что теперь она за судьбу Горбачева и трешки не даст. Имелось в виду принятое решение выбирать Председателя не общенародно, а келейно, в новом составе Совета. Вокруг этого высказывания в статье был такой наворот лжефактов, из которых Сахаров представал этаким простачком-путанником.
На следующий день возмущенно загудела страна и сам коллектив «Известий». Кто писал, чья это статья, почему появилась в номере без обсуждения на редколлегии?
Мне позвонил мой старый знакомый по работе в «Комсомольской правде», теперь трудившийся в «Известиях», и, чего-то недоговаривая, спросил: не могу ли я попросить академика ответить на эту статью.
— С какого это рожна? — возмутился я. — Кто это написал?
— Спустили сверху...
— А где гарантия, что ответ академика не переврут или опять «сверху» не запретят печатать?
— Хочешь, тебе перезвонит зам. главного? — он назвал фамилию человека, с которым я тоже работал в «Комсомолке».
И действительно, тут же перезвонил этот начальник и клятвенно (от имени уже главного редактора) заверил меня, что в ответе не будет изменена ни одна запятая.
— Ладно, попробую уговорить.
Связался с улицей Чкалова. Академика не было, но должен подъехать вместе с Еленой на организуемый у здания Президиума АН митинг-протест против решения академического собрания.
Я спросил Елену: видела ли она статью в «Известиях»?
— Видела. Все жулики. Это не было интервью, это был давнишний разговор у нас на кухне с Жан-Полем Бару и опубликованное в Монд
33
26 января во Франции. Ответить «Известиям»? Когда? Послезавтра мы уезжаем в Америку. Да и на черта это нужно — ввязываться в спор с этими обалдуями. Я категорически против.
— Но ведь кто-то подумает, что так и было?
— Кому надо — пусть думают, а кому не надо, все и так поймет. Вообще, Гена, сами говорите с Андреем, как он решит. Вы идете на митинг?
— Естественно
— Вот там и встретимся!
Я перезвонил в «Известия» зам. главного, сказал, чтобы он послал моего знакомого на митинг, а там мы все решим с А. Д.
Мне сверхлюбезно предложили машину. Я не отказался, видимо, им до зарезу нужен был этот ответ академика.
Мне тоже казалось, что отвечать надо. Ведь эта анонимная статья была первой попыткой вылить на Сахарова новый, уже несколько отфильтрованный поток дезинформации. Но в то же время настойчивое желание заставить академика ответить тоже вызывало подозрение.
В машине мой знакомый по прежней работе пояснил мне, что они «влетели» с этим делом под нажимом каких-то правых сил в ЦК и теперь надо срочно исправляться, потому что страшно возмущены другие силы в ЦК и даже вечно покорная редакция.
В скверике у Президиума были уже тысячи людей с огромными лозунгами: «Позор!», «Президиум в отставку!», «Марчук — в отставку!», «Сахаров — да! Президиум — нет!» Были и другие, еще пожестче. Толпа была возбуждена до предела, и я уже опасался ненужных эксцессов — типа штурма уже заблокированного милицией здания.
Начался митинг. Выступающие требовали отмены решения, новых перевыборов, реформирования академии, ставшей отстойником науки и прибежищем сталинско-брежневского меньшинства. Перед толпой пытался выступить новый, только что избранный член Президиума, юрист, академик Кудрявцев. Его прерывали, не слушали, освистывали.
Наконец, он сдался и сказал: «Ладно, если вы этого хотите, я пошел писать заявление о выходе из Президиума».
Сахарова нигде не было. Мы шныряли в толпе, все время, встречая знакомые и радостные лица вдруг ощутивших свою силу людей. Подобного в академии никогда не было. Мы были настолько нахальны, что даже ухитрились пробраться в само здание Президиума, где тихо, как перепуганные котом мыши, притаились проштрафившиеся академики. На меня (угадав по затрапезному виду) налетел какой-то чиновник: «Вы кто?», «А вы кто?». «Я — помощник Президента Пронкин!». «А я Жаворонков — доверенное лицо академика Сахарова!».
Что называется, интеллектуально поговорили. Нам предложили
34
покинуть режимное здание. Я им предложил найти для нас А. Д. Нас клятвенно заверили, что в здании его нет, что он на улице.
Мы гордо вышли, считая себя непобежденными. Ко мне подошел наш редакционный фотокор и показал, где «прячется» академик. Сахаров стоял сбоку от толпы, почти у самого крыльца здания. Мы попытались пройти к нему, но на нас набросилась милиция.
Я крикнул: «Андрей Дмитриевич, а они меня прогоняют!». Он повернулся и пригласительно махнул рукой. Милиция мигом отступилась. Видимо, ей дали установку избегать всяческих эксцессов.
Мы с моим знакомым и фотокором пробрались к академику. Я спросил:
— Ну, как?
Он сказал весело: «Хорошо! Академия проснулась». Показав газету, я спросил, видел ли он статью? Он кивнул.
— Может, стоит ответить им. Кажется, они сами хотят этого. Кстати, вот и полномочный представитель «Известий» Павел Гутионтов.
— Я подумаю, — сказал А. Д. — Мало времени, но я вам позвоню Сам. Вы будете в субботу дома?
— Если надо, буду.
В последующие дни я не тревожил академика, тревожили меня •«Что, как, есть ли надежда?!»
Наступила суббота, день отъезда семьи Сахарова в Штаты. Где-то около одиннадцати утра позвонил академик.
— Г. Н., приезжайте, я написал.
Я тут же позвонил в «Известия» и нахально потребовал машину к подъезду. Это было воспринято как само собой разумеющееся.
Машина пришла нескоро, они заплутали и еле нашли мой проклятый район, в адресе которого не была указана улица.
В машине я нервничал. Во-первых, потому что опаздываю, и, во-вторых, что мне точно влетит от Елены за перегрузку академика перед отъездом.
Дверь в квартиру была распахнута. Мы вошли в коридор, прокричав: «Есть кто?».
Из комнаты появилась Елена. Я представил ей своего знакомого:
корр. «Известий», Павлик.
Надеюсь, не Морозов? — весело поинтересовалась Боннэр, и я понял, что заслуженной взбучки не будет. — Ох, и хотелось мне наподдавать вам за все эти штучки, да ладно. И чего я, Гена, с вами церемонюсь?
— Потому, что, по версии КГБ, я — ваш внебрачный сын!
Из квартиры этажом ниже поднялся Сахаров, отдал статью и позвал меня на минутку на кухню. Там он вручил мне несколько листочков, написанных от руки, и доверительно сказал: V;
35
Д — Это только вам.
— А что это?
— Отречение
— Отчего? а
— Я не буду баллотироваться нигде, кроме академии.
Я оторопел. На первом листочке Сахаров попросил меня написать: «Печатать только после 13 февраля», академик обрубал все концы, связывающие его с избирателями вне Академии.
Я попытался возражать. Он прервал меня и сказал твердо:
— Это мое окончательное решение. Прошу вас до опубликования хранить его в секрете. Об этом знают только вы и Сагдеев. Он принял такое же решение. И еще одна просьба. Я не успеваю отправить кое-кому деньги, а мы уезжаем надолго, вы не могли бы перевести их почтой в ближайшие дни? Только не пишите, от кого.
Я понял, что деньги, вероятно, предназначаются детям и еще кому-то, кто не должен знать, от кого исходит помощь. И, конечно, согласился.
А где печатать отречение? Я уже уходил в «Коммунист» — не там же? Но объяснять свои проблемы я не стал. Не хватало еще взваливать на него мои проблемы.
Мы хорошо простились, и я взял их телефоны в Штатах, а Елена познакомила меня со своей двоюродной сестрой Зорей, с которой мы тоже обменялись координатами для срочной связи.
Ответ Сахарова анонимному автору очень скоро появился в «Известиях» (6 февраля 1989г.) и произвел какое-то странное впечатление, тем более, как я узнал от сына Александра Николаевича Яковлева, Анатолия, с которым подружился, аноним вовсе «не проживал» в ЦК, а находился в самой редакции. Из ЦК пришло только пожелание и кто-то в газете выполнил его с таким старанием, что перехвативший его Яковлев ахнул и без позволения Горбачева значительно смягчил его.
Елена была права. Не нужно было отвечать. Она всегда была права, лучше всех нас просчитывая ситуации, обнаруживала расставленные властью ловушки, хотя частенько мы ее не слушались.
И в этом случае нас втянули в ненужную и скользкую тяжбу, в которой не выиграл никто.
Между тем, звонок из «Коммуниста» с просьбой оформить меня переводом в эту редакцию. Главный был в бешенстве. Между нами опять произошел нервный и неприятный разговор. Позже он вызвал меня снова, и мы попытались поговорить спокойно. Он предложил мне остаться в редакции политобозревателем на прежнюю зарплату и заниматься чем хочу. Предложение было великолепное и разумное, но я уже закусил удила и сказал: «Поздно». Заявление об уходе было под-
36
писано. С Пушкинской площади я переселился в мрачноватый особняк на улице Маркса-Энгельса.
Потянулись тоскливые и вымучиваемые мною дни. Сразу же стало ясно, что я совершил из-за своего упрямства непростительную ошибку. Что мне было делать среди чопорных, благополучных людей, постоянно возмущающихся урезанием рациона кремлевской кухни? Нет, пет, там было немало достойных людей: Бикенин — главный редактор, его замы Лацис и Колесников, Игорь Дедков, Егор Гайдар, Кара-Мурза и другие. Но были люди и иного склада...
Томясь от безделья (это называлось периодом адаптации), я читал подшивки журналов за предыдущие годы.
Но почти каждое утро начиналось со звонка домой Егора Яковлева, который мягким голосом мне что-то заказывал для «МН». Я пытался напомнить ему, что уже не работаю в его редакции. В ответ слышалось:
— Перестань жлобиться, что тебе стоит черкнуть пару страничек...
Я написал рецензию, ее напечатали, написал большой материал и еще реплику, их тоже немедленно напечатали. На меня начали коситься в редакции. Непосредственный начальник спросил, с трудом сдерживая раздражение: «Ты что, еще не надиссидентствовался?». Я вспылил и нагрубил ему в ответ.
Создавалась какая-то глупая ситуация: работал я в «Коммунисте», а печатался в «МН». Правда, у меня прошел большой кусок в передовой, написанной прямо в номер, о которой хорошо отозвались на редколлегии: «Вот, мол, как надо включаться в работу — с места в галоп».
Но какой там был, к черту, галоп, если четыре страницы, написанные за день, считались подвигом.
Окончательно убила меня жена, внезапно появившаяся в редакции. Я удивился: «Как ты меня нашла в этих немысленных анфиладах, не зная ни этажа, ни номера комнаты?».
— Ты единственный в этом здании, кто громко разговаривает по телефону.
В редакции стояла убийственная скука. Газету (конечно, «Правду») получал только заведующий отделом. Пишущие машинки, конечно же, старого образца, гремели как паровые машины. На просьбу выдать мне диктофон, мне ответили, что я веду себя неприлично.
Вообще, скромность здесь понималась как-то своеобразно — как ничегонеделание и приобретательство: дачи, поликлиники, дома отдыха, пайки и прочие милые сердцу блага, доступные только избранным. Мои попытки не ходить в кремлевскую столовую были восприняты как конфронтация, дешевый нигилизм, о чем мне сообщили на самом высоком уровне, обязав посещать ее в порядке редакционного задания. Ярчайшие личности тащи-
37
ли журнал из болота, но их усилия виделись как бессмысленный героизм.
.Подошло заветное число, названное Сахаровым (13 февраля»), когда надо было обнародовать заявление академика.
В обед я не пошел в цековскую столовую, а приехал в «МН», прошел к Главному и положил перед ним текст отречения:
— Это письмо Сахарова, которое он просил меня опубликовать. Если вы не будете его печатать, то я сегодня же передам его зарубежным радиостанциям.
Главный тут же начал читать листочки, написанные почерком не очень прилежного ученика. Первая его реакция была адекватна моей:
— Зачем он это сделал? Я пожал плечами:
— Он так решил, значит, так и будет. Либо его изберет академия, либо никто. Будете печатать или...?
— Да будем, будем, — отмахнулся главный, на всякий случай, убирая письмо от меня в стол. — Но он же сейчас в Канаде. Когда же он написал его?
— Еще до отъезда.
— И мы молчали. ''
— Он так просил.
Я ушел перекусить в родную скудную столовку «МН», а начальство принялось совещаться. Отречение, конечно же, было бомбой и не только для академии, но и доя самого «верха». Это был новый ультиматум Сахарова, который не желал разговаривать с властью на языке прошлого.
В столовой кто-то пошутил: что, в ЦК плохо кормят?
— Ага, — сказал я, — у меня от их продуктов язва разыгралась. Все захохотали, хотя дело обстояло именно так.
Отречение пошло в тираж. О нем громко заговорили в редакции, почти никто не мог понять позиции А.Д. Я отбрехивался и говорил, что если кто-то думает, что умеет считать лучше академика, то пусть баллотируется на его место.
В среду, в день выхода «МН», я сидел в библиотеке и листал подшивки газет. И вдруг услышал непривычную суету в коридорах. Ко мне подошла библиотекарша и вежливо поинтересовалась, не тот ли я Жаворонков, которого так настойчиво везде ищет начальство?
Я удивился, что это вдруг я кому-то так срочно понадобился, и неторопливо пошел к руководству.
— У вас рукописный текст отречения Сахарова?
— Да, у меня.
На их лицах отобразились одновременно и изумление, и ужас. Видимо, они до последней минуты надеялись, что это какое-то недоразумение.
38
— Откуда оно у вас?
— Он дал мне его сам перед отъездом в Америку.
— А зачем вы его взяли?
Вопрос был настолько бессмысленным, что впервые в этом здании я развеселился и сбросил с себя всю напряженность и настороженность.
— Потому что я его доверенное лицо, и он всегда поручает мне все, что касается публикаций здесь, в Союзе.
Лучше бы я сообщил им, что представляю собой агента трех иностранных держав.
Немая сцена длилась долго. Потом Бекенин позвонил кому-то по вертушке и со словами: «Сейчас я вас соединю» передал мне трубку.
— Добрый день! — соврала трубка.
— Здравствуйте, — отозвался я взаимной вежливостью.
— Понимаете, сегодня в «МН» опубликован текст отречения академика Сахарова баллотироваться по всем избирательным округам, кроме академии. Печатный текст — для нас не документ. А решение это очень важное. Говорят, что рукописный текст Сахарова у вас?
— Да, у меня, но только, по-моему, если не ошибаюсь, я оставил его
дома.
— Мы пришлем за вами машину, нам совершенно необходимо снять
с него ксерокопию.
— А меня отпустит мое начальство? — глуповато сказал я. — Все-таки рабочий день только начался.
— Отпустит. Мы уже договорились. Дело государственной важности! Мое начальство утвердительно закивало.
А текст у меня оказался в кейсе.
— Вы что, собираетесь так просто передать его им? — заволновалось начальство.
— А что?
— А то, что нужно, на всякий случай, снять с него ксерокопии. Иначе они могут обмануть вас, и это бросит тень на журнал. Вы не знаете
эту публику!
Да, одна государственная публика не верила другой государственной публике. Я засмеялся — в этот момент я для них стал сверхгосударственным человеком. Все смотрели на меня, как на безумного. Мне же было уже все равно, я понимал, что здесь работать я не буду.
Скоро пришла машина, и мы поехали с сопровождавшим меня щеголеватым клерком в Моссовет. Меня провели в главный дом Москвы без предъявления документов. Еще в машине я предупредил, что не выпущу текста из рук и сам сниму с него ксерокопию.
39
После почти шпионской процедуры меня попросили зайти к какому-то начальнику. Вполне возможно, именно к тому, который звонил мне и представился заместителем Центроизбиркома... Он встретил меня, выйдя из-за своего огромного стола, и предложил присесть:
— Мы, когда узнали об отречении академика, сначала обрадовались, а вот, подумав, решили, что радоваться рано. А как вы считаете?
— Считаю, что рано, — важно и со значением подтвердил я.
Он понимающе кивнул:
— Вас подвезти?
— Нет, спасибо, у меня тут рядом дела.
Мы распрощались.
Я пришел в «МН» и заглянул в кабинет Главного. Увидев меня, он приглашающе махнул рукой и громко захохотал. Я давно не видел, чтобы он так радостно смеялся, открыто, при всех. В кабинете было много народа.
Он стал рассказывать с упоением школьника, хитро надувшего своего учителя.
— Представляешь, Геныч, звонят они мне с утра: вы что, с ума сошли, откуда у вас отречение Сахарова? Кто вам передал его в редакцию? Я говорю: Жаворонков передал... Немедленно позовите его к телефону для выяснения, подлинный это текст или вы нарвались на фальсификацию, которая грозит серьезным скандалом. А я им: не могу подозвать Жаворонкова, он работает в журнале «Коммунист». Их, по-моему, кондрашка хватила. Начали считать в уме, что это за хитрый ход и какого крыла аппарата.
Потом он оставил меня одного и стал расспрашивать, что было дальше. Я рассказал. Он посмеивался и пристально поглядывал на меня. И вдруг сказал:
— СлуШай, Геныч, плюнь ты на все и возвращайся назад. Ну, что тебе делать в этом «Коммунисте»? Ты же от рождения хулиган, а там они не нужны.
С этого дня он звонил мне почти ежедневно, прося что-то сделать для «МН», с кем-то его связать.
Жена называла наш новый роман: «Жду любви невероломной!».
Однажды, когда ко мне домой пришла моя сестра и стала строить планы на отдых летом на одной из дачек ЦК, жена ехидно сказала: «Таня, какие там дачи, посмотри на него, он же опять работает в «МН».
Действительно, все шло к тому. В какой-то из дней мой давний друг Виталий Кеонджян, привел ко мне в «Коммунист» своего бывшего сотрудника одного из научных институтов АН, ныне простого советского миллионера Артема Тарасова, и попросил чем-нибудь помочь ему защититься от властей, решивших его разорить.
40
После публикации в «Московской правде» заметочки о том, что некто из кооператоров заплатил членские партийные взносы с миллиона рублей, столица перестала работать и стала подсчитывать, сколько же они, сволочи кооператоры, зарабатывают? Так и так получалось много, и власти поспешили к удачливым предпринимателям с проверками. В заметке не указывались ни кооператив, ни его владельцы.
Так я впервые познакомился с новым русским:
— Это вы заплатили в партийную кассу такую огромную сумму? — поинтересовался я.
Тарасов обиделся:
— Я не член партии, а если бы пришлось платить мне, то им бы пришлось вызывать инкассаторскую машину.
Взносы заплатил его заместитель. Вокруг этой истории тут же возникло много невероятных слухов и жуткого вранья. Сильными мира сего было приказано ОБХСС прихлопнуть миллионеров втихую.
В моем кабинете я записал на диктофон исповедь первого советского миллионера.
Разрушающееся здание «Коммуниста» век не слышало таких характеристик административно-командной системы, какие оно услышало в этот вечер.
За субботу и воскресенье я сделал материал. Соседи приходили послушать пленку, ахали и изумлялись. Тарасовское миллионерство зиждилось на идиотизме нашей плановой экономики. Он ничего ни у кого не крал, а покупал и продавал все то, что мы предпочитаем гноить и выбрасывать.
Поздно вечером я позвонил домой Егору Яковлеву. Но его в Москве не оказалось. Я перезвонил его первому заму (так уж получалось, что все мои «шалости» приходились на его дежурства) и предложил сенсационный материал, но только в номер, иначе я отдам его в другую газету.
Он согласился, и утром я положил исповедь Тарасова ему на стол. Он сразу же понял, что это скандал, но понял и то, какой скандал устроит ему Главный, если материал появится не в «МН». Поправив его весьма деликатно, убрав из текста только фразу «Представляете, каким может быть кооператив, если мы создадим его при Политбюро?» (Политбюро он заменил на Совмин) и «Исповедь» ушла в набор, а я пошел отсиживаться в «Коммунист».
Во вторник, когда я вернулся домой, а номер «МН» уже тиражировался, я включил телевизор. Шла программа «Время». Встречаясь с тружениками Запорожья, Горбачев сказал: «Вот тут появились среди кооператоров умники. Один из них заплатил партвзносы с миллиона рублей. Вот я вернусь в Москву и разберусь во всей этой сомнительной истории!»
41
Я ахнул: ну все, сейчас остановят печатные станки и к черту порубят весь тираж.
Действительно, через некоторое время позвонила заместитель ответственного секретаря:
— Ты слышал, что сказал Горбачев?
— Ну, и что?
— Как это что, ты представляешь, какой будет скандал? Надо срочно звонить первому заму и останавливать тираж!
— А ты сама-то где, в цеху?
— Нет, уже дома.
— А тираж идет?
— Конечно, идет.
— Ну, и сиди тихо, не рыпайся, без тебя найдутся люди, пожелавшие отправить уже напечатанные газеты под нож!
— Э-э-э, нет. Я звоню домой зам. главного, мне неприятностей не надо.
Я повесил трубку и загрустил.
— Какие же мы все идиоты, — тихо сказала жена. — На Западе за такую сенсацию миллионов долларов не пожалели бы, а наши сидят и трясутся: попадет или не попадет. И ты хорош. Радоваться надо, что раздобыл такой материал, а не дрожать за тираж.
Утром из своего командировочного зарубежья позвонил Главный, его зам. добросовестно пересказал ему возникшую ситуацию.
— Я за тебя боюсь, — сказал Главный.
Он был прав. Получилась сенсация, но и хорошенький скандальчик. Слухи о реакции на «Исповедь» на самом верху ходили самые разнообразные.
Кооператив Тарасова «Исток» все равно прихлопнули, но сделать это втихую не получилось, материал перепечатала зарубежная пресса, и Артем обрел всемирную известность, и к нему потянулись западные инвесторы.
На мой бедный и ни в чем не повинный «Коммунист» набросились корреспонденты из многих стран. Не имея возможности найти Тарасова, они ежедневно терзали меня своими интервью и беспрерывными телесъемками.
Мой непосредственный начальник мрачно спросил меня: где я работаю, в «МН» или в журнале, который является органом ЦК КПСС?
Я сказал: там, где меня печатают.
В «Коммунисте» уже мертвым грузом лежали три моих статьи, а до номеров их очередь не приближалась.
Повторные выборы депутатов на общем собрании академии были мало похожи на обычные депутатские выборы. Это был праздник,
42
бунт, демонстрация власти низов, а не верхов. Инициативная группа устроила из перевыборов политический капустник.
По моему удостоверению с золотым тиснением ЦК КПСС меня пропустили беспрепятственно. Везде висели плакаты с надписями «Без Сахарова нам горько!». Но не только это определяло особую подготовленность выборов. Были выставлены огромные стенды, по которым любой школьник мог понять, как правильно голосовать, чтобы твой бюллетень не был признан недействительным.
Вежливые и доброжелательные консультанты разъясняли, что и как нужно делать в строгих рамках запрещения агитации за кандидатов в день выборов.
Увидев такую картину, я успокоился. В этот раз Сахарову провал не грозил.
И действительно, результаты голосования оказались блестящими. Я позвонил сестре Боннэр Зоре, и мы поздравили друг друга с успехом.
— Наши-то знают? — спросил я.
— Еще бы, уже все радиостанции сообщили.
После очередного звонка Яковлева мне опять пришлось удирать из «Коммуниста».
В «МН» Главный показал мне тасовку, в которой говорилось о сенсационном заявлении Сахарова в Канаде. В интервью какому-то еженедельнику он сказал, что располагает сведениями о том, что в Советской Армии во время войны в Афганистане был секретный приказ уничтожать наши подразделения с земли и воздуха в случае их окружения и угрозы оказаться в плену.
Я сказал, что здесь какая-то путаница или неточность. Такая категоричность не присуща академику и что если он когда что-то утверждает, то после десятикратной перепроверки.
Так потом и оказалось. Слова о существовании секретного приказа были сказаны не во время интервью, а после него. Это был ответ корреспонденту АПН, который спросил академика, что он думает об утверждении одного канадского еженедельника, что наши же подразделения уничтожали своих же солдат, оказавшихся под угрозой попасть в плен.
Сахаров сказал, что сталкивался с подобными заявлениями в частных беседах с теми, кто не пожелал вернуться на Родину после плена. Что это нужно проверить, как и необходимо немедленно составить списки наших военнопленных и обменять их на пленных душманов.
В одном из номеров «Комсомольской правды» появился вопрос на эту тему и очень невнятный ответ А. Д. Как потом станет утверждать редакция, связь была плохая и корреспондент многого не дослушал, а
43
А.Д. не понял вопроса, еще ничего не зная о тасовке и реакции на нее в Советском Союзе.
Через некоторое время Яковлев опять попросил вернуться к этому вопросу. Никогда не прощу себе, что беспечно отмахнулся от его предложения, как от назойливой мухи. Мне показалось, шум, поднятый вокруг этого эпизода, не стоит и выеденного яйца, что незачем в очередной раз ввязываться в кому-то нужную дискуссию.
Главный был гораздо дальновиднее меня и продолжал настаивать. Тогда я предложил найти мне этот журнал, где опубликовано подобное интервью, чтобы я напрямую спросил у академика, говорил ли он подобное или это очередная «утка» канадской прессы. Журнал вроде бы искали (но, по-моему, не очень), но так и не нашли.
Звонили собкору АПН в Канаде. Он нес что-то несусветное и тоже ничего определенного сказать не мог.
История эта как-то периодически возникала и благополучно затухала, какие-то события выборной компании все время отодвигали ее с первого плана.
Я для очистки совести позвонил Зоре, она тоже ничего не знала о подобном интервью Сахарова, сказала, что А.Д. и Е. Г. давно не звонили, что они все время передвигаются, принимая какие-то приглашения, и поймать их нет никакой возможности. График поездок постоянно меняется, но если они позвонят, то она обязательно постарается уточнить этот эпизод.
Надо сказать, что на Западе это интервыо-не интервью не получило широкой огласки. Этот канадский еженедельник был каким-то заштатным изданием, и мировая пресса никак не среагировала на его публикацию.
Думаю, что и Главный, при всей его обостренной интуиции, не мог даже предположить, какую мину замедленного действия подложил кое-кто из тех, кто тоже до поры до времени вроде бы тоже не придавал никакого значения сообщению ТАСС. Вокруг этого события установилась мирная тишина.
Правда, при возращении Сахарова, я все же вспомню этот эпизод и спрошу у А. Д., как же все это было на самом деле. Он спокойно расскажет об этом со всеми подробностями и сам попросит не придавать этому никакого значения.
Он будет уже готовиться к съезду, его отвлекут от всего кровавые события в Грузии, консолидация демократически настроенных народных депутатов, которые в значительном количестве победили на выборах.
Но кто-то тоже готовился к съезду, кто-то тоже выверял соотношение сил и наличие на руках «козырных карт».
44
Эту «козырную карту» внезапно швырнут в лицо академика в виде обвинения в клевете на афганцев, и не позволят побить ее более крупной картой — истиной.
После публикации «круглого стола» по советским миллионерам меня опять вызвал к себе Яковлев и спросил:
— Может, уже хватит валять дурака?
Я сказал, что теперь, по-моему, хватит. И все зависит от того, отпустят ли меня из «Коммуниста» или заставят работать вопреки здравому смыслу.
Главный набрал номер телефона первого заместителя главного журнала, которого знал по совместной работе в «Известиях». Того не оказалось на месте.
— Езжай и подавай заявление о переводе назад в «МН», остальное я беру на себя.
Не успел я войти в свой кабинет на улице Маркса-Энгельса, как ко мне зашел зам. главного «Коммуниста» и спросил: правда ли то, что я хочу уйти.
— Да, правда.
Меня повели к начальству. Началась нудная чиновничья суета:
Почему? Знаю ли я, что моя должность приравнена к должности работника аппарата ЦК КПСС и не покидают по прихоти? Что случилось? Не раздумаю ли? Кто обидел, и что не устраивает?
Я заявил, что за три месяца сдал только четыре материала, из которых напечатан только один.
Все поспешно начали читать неопубликованные материалы и поспешно заверили, что все они пройдут в ближайших номерах.
Искали какие-то глубинные причины случившегося, подводные течения, какую-то корысть и хитрость. Не находя, изумлялись и... продолжали поиски.
Я написал заявление о переводе в «МН» и положил его на стол начальства.
В «Коммунисте» мне оставалось работать ровно столько же, сколько оставалось дней до возращения Сахарова в Москву.
45
Глава 4
О ПОЛЬЗЕ ПРИВЫЧКИ ЛЕЗТЬ НЕ В СВОЕ ДЕЛО
Итак, в конце апреля 1989 года я вернулся в "Московские новости".
Говорили с Главным о планах. Он сказал, что скоро опубликует статью одного историка о Катыни, в которой будут рассмотрены две версии расстрела польских офицеров в 1940 году: наша и немецкая. Хорошо бы мне продолжить расследование, ибо, хоть и небольшая, а зацепочка есть.
Однажды, проезжая на машине через Смоленск, он вместе с женой Ириной остановился в мотеле. За их столик подсел офицер КГБ и ни с того, ни с сего заговорил о Катыни. Что, мол, все кричат об убиенных там поляках и ничего не говорят о том, сколько же в этом лесу расстреляно наших!
Ирина потребовала, чтобы КГБэшник немедленно оставил их в покое, что он и сделал, правда, предварительно оставив Яковлеву свой телефон.
Надо бы «копнуть»!
Туда я поеду только через полтора месяца.
Из Харькова просачиваются слухи о каких-то массовых захоронениях людей, расстрелянных в 1937-47 годах. Хорошо бы выяснить, что истина, а что миф.
Туда я попаду только через год.
— В общем, живи «без привязи» и занимайся, чем хочешь. Все равно же будешь лезть не в свое дело!
Такая перспектива журналистской жизни меня вполне устраивала. И я немедленно вылетел в Тбилиси, куда выезжали Сахаров и Боннэр, чтобы выслушать первые заключения грузинской комиссии по событиям 9 апреля, когда армейские подразделения разогнали митинг на площади перед зданием Правительства.
В аэропорту меня встретил мой старый товарищ, заведующий нашим корпунктом Акакий Микадзе. Город был в какой-то панической истерии. В больницах лежали тысячи людей, якобы получивших отравление не только во время митинга, но и при перенесении венков и портретов погибших 9 апреля к церкви для отпевания.
Рассказывали вероятные и совершенно невероятные истории. События обрастали все новыми и уже совершенно дикими слухами.
Поздно вечером 3 мая 1989 года мы с Микадзе отправились в аэропорт. Самолет уже приземлился, и «отцы города» — официальные лица — встретили Сахарова и Е.Г. у трапа, выразили свое почтение и
[46]
тут же разъехались на своих черных «Волгах». Мы прошли в небольшую комнату в аэропорту, где Сахаров дал первое свое интервью, оценивая трагическое событие.
Он сказал, что полностью разделяет точку зрения Юрия Карякина.
— Надо разобраться в том, как могло случиться, что наши дети убивали наших детей.
А.Д. говорил медленно, и голос его дрожал.
Встречающий Сахарова представитель Грузинской Академии наук предложил план работы: завтра провести заседание подкомиссии с вызовом министра здравоохранения и свидетелей. Попросил А.Д. содействовать вызову в Грузию сотрудников Международного Красного Креста. Люди, получившие отравления, начали голодовки в знак протеста против необъективного освещения в печати всего случившегося. Им советуют прекратить эту акцию, но они наотрез отказываются, и это может нанести непоправимый ущерб их здоровью. Теперь голодают и их друзья, которые не участвовали в митинге.
Сахарова спросили, как он относится к информации о Грузии, которая звучит в телевизионной программе «Время».
— К сожалению, она неудовлетворительна. Мы уже не первый раз сталкиваемся с тем, что информация оказывается односторонней и даже провоцирующей. Почему это происходит, я не знаю. Да, были выступления по телевидению Юрия Роста и Бориса Васильева, но не в первые дни событий.
— Как реагирует московская интеллигенция на происходящее в Тбилиси?
— Я не могу говорить от имени всей интеллигенции, но люди, окружающие меня, разделяют мои чувства. Большая группа академиков приняла обращение о событиях в апреле, в котором произошедшему дана однозначная оценка: случившееся — преступление против собственного народа. Документ был озаглавлен «Ставка ва-банк», но, к сожалению, Президиум Академии при обращении в ЦК снял этот заголовок и смягчил оценку. Я протестовал, но оказался в меньшинстве. Увы, значительная часть Президиума все еще живет в предыдущей исторической эпохе.
От «Московских новостей», а не от себя лично, задал вопрос и я:
— Насколько мне известно, сегодня была встреча большой группы депутатов с Генеральным секретарем ЦК. Были ли там даны какие-то оценки тбилисским событиям, и как оценивает эти события сам Горбачев?
— Обсуждение носило конфиденциальный характер. Я не уверен, будет ли оно публиковаться и имею ли я нравственное право разглашать до поры до времени все услышанное на этой встрече...
[47]
Мне помог грузинский академик, присутствующий на этой встрече. На вопрос, считает ли Горбачев события 9 апреля ударом по перестройке, Генеральный секретарь ответил утвердительно. Хотя на тбилисском митинге были и неприемлемые лозунги, и антирусские настроения
Грузинский академик отверг обвинение в том, что митинг носил антиконституционный характер.
Сахаров сказал, что его обнадеживает заявление Горбачева, о необходимости во всем этом разобраться, а виновных наказать.
Мы договорились встретиться утром и разъехались.
Настроение у меня было скверное. Хотя в Тбилиси и был уже отменен комендантский час, лидеры неформальных движений находились еще под арестом. На проспекте Руставели до сих пор можно было увидеть следы плохо смытой крови. Многие жаловались на головные боли, объясняя их результатом применения нервно-паралитических газов. Говорили о сотнях без вести пропавших. Во все это верилось и не верилось, потому что все это передавалось не без доли театральности и фальшивости. Словно бы кто-то продолжал разыгрывать еще не очень хорошо отрепетированный спектакль.
Утром в Грузинской АН заседание подкомиссии началось с доклада министра здравоохранения. Он назвал потрясшую нас цифру — людей, обратившихся к врачам с признаками отравления, — 2067. Среди них были учащиеся школы № 1, которые уже 10 апреля приступили к занятиям. Школа находилась рядом со зданием Правительства, и в ее подвалах обнаружено некоторое количество газов, неизвестных по своему химическому составу. В настоящее время грузинские химики занимаются их анализом. И т.д. и т.п....
Я сидел, краснея, хотя очень хотелось провалиться сквозь землю. Министр нес полную ахинею. И, хотя по химии у меня в школе были вечные полудвойки, но я три года служил в армии и знал, что такое газовые атаки, их эффект и длительность воздействия. Произошла трагедия, но зачем превращать ее в фарс?
Боннэр подошла к телефону, соединилась с американским посольством в Москве и попросила свою знакомую срочно прислать все сведения о «Си-эс» и последствиях его применения. Зто было единственно разумное и действенное в нашем мало кому понятном заседании. «Си-эс» стоял на вооружении американской полиции, и она применяла его направо и налево при возникновении беспорядков.
Сахаров взял у жены трубку и сообщил, что здесь много пострадавших, нуждающихся в скорейшей медицинской помощи.
На том конце провода вежливо заверили академика, что все сделают предельно быстро.
[48]
Потом начались опросы свидетелей. И они ни на миллиметр не приблизили нас к истине, а еще более запутали наши представления о произошедшем. Кто-то видел, что после разгона митингующих десантники заворачивали трупы в брезент и их увозили вертолетами. Рассказывали о шестилетнем мальчике, который потерял родителей на площади, а потом был найден в Ростове. Утверждали, что многие солдаты были пьяны и, избивая людей лопатками, кричали: «Это вам за вашего Сталина и за вашего Берию!»
Несколько студентов, свидетельствующих о том, что было применено и огнестрельное оружие, предъявили Сахарову найденную на площади гильзу.
Я внутренне сжался, увидев, что гильза была от какого-то духового ружья, из него не подстрелишь даже ворону, и никак оно не могло быть в руках военных.
Сахаров покрутил «улику» в руках, некоторое время помолчал, а потом твердо сказал:
— Эта гильза не от боевого оружия.
Потом я спрошу его о причинах такой осведомленности. Он ответит коротко: «Объект». Видимо, работая на секретном объекте в Арзамасе, ему приходилось иметь дело и с огнестрельным оружием.
Потом мне скажут совершенно доверительно, что видели Церетели свободно разгуливающим по улицам. А потом... я сам буду обедать с Гамсахурдиа, которого отпустили домой на «побывку».
Это тоже была грузинская специфика...
Нас повезли в военный госпиталь, который был переполнен «отравленными» газом людьми. А.Д. и Е.Г. задержались на улице, а я первым прошелся быстренько по палатам. Медицинское учреждение скорее походило на третьеразрядный дом отдыха. Кто-то в открытую выпивал с пришедшими навестить «больных» родственниками и друзьями, кто-то играл в нарды, а кто-то весело травил анекдоты. Однако врачи быстренько навели должный порядок и только тогда пригласили представителей подкомиссии. Теперь уже нас вели среди людей, лежащих на койках со скорбными лицами.
Е. Г. (как бывший врач) поинтересовалась у начальника госпиталя симптомами больных.
— Голова у всех болит и живот...
Дальнейшее расследование было бессмысленно.
Характерно то, что, когда прибывшая международная комиссия Красного Креста поставила всем 2067 «отравленным» единый диагноз: «синдром пережитого страха» — все больницы мгновенно опустели. Грузин не может переживать никакого страха...
[49]
Подготовленная в номер статья «Неправда нам всегда в убыток» шла чрезвычайно трудно. Совершенно невозможно было понять, чего начальники уже боятся больше: высказываний Сахарова или даже моих осторожных, но объективных оценок. Пожалуй, и того, и другого.
А в Москве начал работать первый Съезд народных депутатов СССР. Страна прильнула к телевизорам, изумляясь непривычным словесным баталиям. Мне же пора было ехать в Катынь.
Перед самым отъездом Главный нетрадиционно долго давал мне наставления. Видимо, его беспокоил мой беззаботный вид. А он и редколлегии не говорил, куда меня отправляет, и деньги на поездку выдал, минуя бухгалтерию.
— Всем говори, что ты ищешь русских, расстрелянных НКВД, — в десятый раз повторял он. — Никому ни слова о поляках. Даже жене не говори. Поймешь ты, наконец, что это смертельный номер! Детективы, не тебе чета, ломали на этом шеи. Прикидывайся везде дурачком. Всех слушай, а сам — молчи, но не может быть, чтобы не осталось свидетелей!
Главный явно нервничал. В принципе, было из-за чего. Все подходы к Катыньской истории завалены трупами. Исчезал каждый, кто хоть что-то знал о ней. Но чего стоили эти советы, когда вообще было непонятно, с какого конца начинать расследование.
А начал я его с идиотического поступка, почему-то решив лететь в Смоленск самолетом. Почему-то поездка туда поездом (всего-то шесть часов) мне показалась нудной.
Купив билет на завтра, я вернулся в редакцию.
В коридоре меня выловил майор Коля и заманил к себе в кабинет на рюмочку коньяку
В обычной редакции роль надзирателя от КГБ обычно выполнял заведующий(ая) отделом кадров. Этого было вполне достаточно при наличии добровольных и недобровольных негласных стукачей.
В «МН» эта должность почему-то была официальной, может быть, потому, что в ней работали переводчики из капиталистических стран.
Майор Коля, вероятно, сосланный сюда из Лубянки за какие-то провинности, слыл среди сотрудников человеком незлобливым и неопасным. Особенно хорошо он относился ко мне, всегда готовому стрельнуть ему денег на очередную бутылочку коньячку, к которому он питал особое пристрастие.
Но в этот раз после третьей рюмки он вдруг спросил меня участливо:
— В Катынь едешь?
Я чуть не поперхнулся:
— Откуда ты знаешь?
— Работа такая, — вздохнул он. — Я уже своим доложил!
[50]
— Зачем?
— Как это зачем? — искренне удивился он. — Так положено. Ты уж там поосторожней, наши тебя там уже ждут.
Все это было сказано с такой непосредственностью и даже благожелательностью, что я прекратил дальнейшие расспросы, не сделав из предупреждения абсолютно никаких выводов.
На следующий день я бодро прибыл на аэродром в Быково и был «осчастливлен» объявлением о переносе рейса на следующий день, якобы, из-за неблагоприятных метеоусловий.
Это было, конечно, полной чушью, просто они не набрали достаточного количества пассажиров.
Но вместо того чтобы вернуться домой, я зачем-то вышел на летное поле. В правом углу аэродрома возле старенького самолета типа «Кукурузника» суетились какие-то люди.
— Куда летим, соколы? — бодро поинтересовался я.
— А куда захотим, туда и полетим — мы ДОСАФовцы.
— Может, рванем в Смоленск? У меня и билет есть.
— Нам твой билет, что трамвайный. Бутылку поставишь, слетаем и в Смоленск.
— Нет вопросов, ребята. Есть и бутылка, и бутербродики.
— Ну, тогда чего стоишь, залезай.
Я похвалил себя за предусмотрительность. Буфетчица Дуся в изобилии снабдила меня в дорогу тогда уже дефицитным спиртным.
Смоленск, конечно же, меня не ждал, в гостинице мне предложили зайти вечерком, может, и освободится какая коечка.
Я попытался дозвониться по телефону, который дал Яковлеву его случайно когда-то подвернувшийся чекист. Мне ответили, что таковые здесь никогда не проживали.
Естественно, что с тех пор, когда офицер КГБ разговаривал с Главным (а прошел уже год), он протрезвел и, узнав, что я его ищу, благополучно законспирировался.
Как потом оказалось, на него донесли уже в тот же день.
Рыская по городу, я расспрашивал стариков, которые здесь жили с довоенной поры, но все было напрасно. Старики либо угрюмо молчали, либо пожимали плечами, уверяя, что ничего о массовых расстрелах и захоронениях не знают...
И вдруг, женщина, которую я остановил, Зинаида Меркуленко, торопливым шепотом рассказала, что до войны жила рядом с Катыньским лесом. А ее старший брат (уже покойный) вместе с приятелем занимался опасным промыслом: они подлезали под колючую проволоку, которой был опутан громадный участок леса, вскрывали свежие могильники
[51]
и снимали с убитых одежду и обувь. В сороковом году брат приносил домой какие-то странные мундиры с чудными знаками различия, явно не нашими. Расстреливали, по их рассказам, люди в шлемах типа буденовок. Она и сама с подругой пыталась ходить туда по грибы и ягоды, которых там было «хоть косой коси», но после того как охранники, выловив их ровесницу за противозаконным деянием, изнасиловали ее чуть чуть ли не всем взводом, лазить под проволоку они перестали.
— Поезжайте в Козьи Горы, — подсказала на прощанье она. Там есть еще живые свидетели.
Это было все, что она знала. Как мало, но как много, ибо на Нюрнбергском процессе наш представитель Руденко уверял союзников, что Катыньский лес до войны был излюбленным местом для воскресных прогулок жителей Смоленска. Одно утверждение уже было ложью: ничего себе прогулочки с изнасилованием!
Больше никакой информации я добыть не смог и отправился в гостиницу. Там меня совершенно неожиданно встретили с распростертыми объятиями, предоставили отдельный номер и вручили записочку с номером телефона, по которому я должен срочно позвонить.
Я позвонил, уже предполагая, кто проявил обо мне заботу.
— Генерал Шиверских слушает!
Я представился и попросил о встрече, Он, естественно, отказал, сославшись на срочную командировку. Тогда я поинтересовался адресами ветеранов НКВД.
— Зачем они вам? Многие умерли, а с оставшимися в живых я часто встречаюсь, но они уже так стары, что ничего не помнят...
Я добровольно лез в пасть КГБ, а она добровольно выплевывала меня...
Много позже я узнаю, что московские чекисты «потеряли» меня сразу же после, объявления о невылете, а смоленские обнаружили у себя в городе только после трех часов моего пребывания в нем. И то не сами. Им позвонила какая-то тетка, даже не пособница КГБ, ей показались подозрительными мои глупые расспросы.
Не перевелись у нас на Руси добровольные стукачи-энтузиасты!
Еще в Москве я запасся телефоном собкора «Труда» и согласием начальников воспользоваться его машиной.
Позвонил ему, и он без тени недовольства сказал, что пришлет ее завтра к гостинице.
Я уже собрался ложиться спать, когда телефон в номере даже не зазвонил, а как-то страхолюдно заквакал:
— Это вы хотите что-то узнать про Катынь?
— Да.
[52]
— Приходите в скверик напротив гостиницы, но только без диктофона.
Я вышел на улицу, гадая, что это — реакция на мои наивные расспросы на улицах или провокация Шиверских? Зачем такая таинственность и почему именно ночью?
Скверик был пуст. Трудно сказать, откуда он появился. Конечно же, в плаще и в шляпе, напяленной на уши. Присел рядом и сразу же начал рассказывать, словно бы и не мне:
— Я работал до войны в здешнем НКВД делопроизводителем. О расстрелах в Козьих горах, конечно же, слышал и знал, но мы не любили об этом говорить даже между собой. А однажды утром в управление стал рваться человек, хотя часовой и грозился пристрелить его на месте. Он был грязен, глаза горели, как у сумасшедшего. «Меня неправильно расстреляли, — твердил он. — Произошла ошибка». Оперативников в тот час в управлении еще не было, и мой начальник завел его в нашу комнату. Мы его ни о чем не расспрашивали, он рассказал все сам. Той ночью в Катыньском лесу расстреляли большую группу политзаключенных, в которой был и он. А могилу-ров чуть присыпали песком, потому что оставалось место еще для одной партии смертников. Он даже не был ранен, просто от ужаса надолго потерял сознание. А очнувшись, пришел к тем же, кто его приговорил...Я прошел войну, сам весь изранен, но ничего страшнее того момента я не испытывал. Случайно спасшийся человек сам пришел к своим палачам доискиваться до правды! А собственно, куда ему было идти? Домой? Вот ведь до чего нас довели — даже баранами назвать нельзя, баранам будет обидно. Наше начальство страшно перепугалось и от растерянности отпустило его с паспортом на другую фамилию, только потребовав, чтобы он немедленно уехал отсюда. Я сам оформлял ему документы...
Думаете, они это из гуманизма сделали? Да за свою задницу испугались! Человек по списку активирован, а он жив!
— Скажите, а кто расстрелял польских офицеров? — спросил я, напрочь забыв о наставлениях главного.
— И поляков тоже мы, только я бы не советовал вам копаться в этом деле. Мало кто из тех, кто что-то знал, уцелел. Кто вместо ордена на грудь пулю получил, кто утонул, кто попал под поезд, а кто и вовсе исчез при загадочных обстоятельствах...
В Козьих горах еще жив человек, дававший показания для Нюрнбергского процесса. Мишка Кривозерцев. Заговорит ли...
С главврачом больницы поговорите, — он лечил Стельмаха, главного расстрельщика. Говорят, орал перед смертью и обо всем рассказывал, его за это в отдельную палату засунули. Рак у него был.
[53]
Загляните в земельный комитет, поинтересуйтесь осторожно: за кем Катыньский лес числится? А его в кадастре нет. Он отчужден, аж с тридцатых годов. А числится он за КГБ, как его ни пытался Шеверских кому-то спихнуть, не удалось. Да и как спихивать? Там копни и в кость врежешься.
— А вот немцы захватили архив обкома, теперь он у американцев...
— И что в нем? Партия только пальчиком показывала, а писать, ничего не писала. Архив НКВД — тогда успели вывезти. И вряд ли он в Москве, где поляки копаются. Здесь он. Но на нем Шиверских прочно сидит, взорвет, но никого не пустит. Вы его остерегайтесь, он только для вида дурачком прикидывается, а дурачков на такие места не сажают...
— Что ж меня прохлопал?
— Не спешите делать выводы, вы еще не вернулись в Москву под крылышко своей редакции...
Он так и не назвал своего имени. Ушел в ночь, сказав на прощанье: «Я не герой».
Вернувшись в гостиницу, заснуть я уже не пытался. Меня поташнивало, казалось, что смрадный дух Катыньского леса доносится и сюда.
И почему я должен верить этому человеку? Может, никогда мною невидимый Шиверских уже начал со мной свои КГБэшные игры?
А может, я начинаю сходить с ума и уже не верить никому, даже тем, кто рискует жизнью, и ему необходимо исповедоваться?
Утром позвонил благодушно и благожелательно настроенный собкор «Труда» Громыко:
— Машину к тебе я уже послал, выходи, он уже, наверное, подъехал. Да, я нашел для тебя человека, который занимается историей, и в частности вопросами, которые интересуют тебя. Его фамилия Котов. Можешь заехать за ним, он тебя ждет.
То ли бессонная ночь, то ли разговор с неизвестным превратили меня в сплошной комок нервов, в человека с маниакальной подозрительностью. Какой Котов? Какие мои проблемы, о которых я даже не заикался Громыко? С чего это он стал оказывать мне любезности, помимо просьбы о машине?
Вместо того чтобы поспешить к выходу, я залез под ледяной душ: иначе и чокнуться недолго.
Когда же вышел на улицу, мне зовуще просигналила черная «Волга», стоящая у гостиницы. В машине уже сидел этот некто Котов.
Во мне, считающем себя человеком с комплексом полноценности, началась внутренняя паника. Меня явно «обкладывали» со всех сторон. И я, уже зависимый всего-навсего от средств передвижений, был бессилен сопротивляться.
[54]
Котов оказался весьма словоохотлив. Сразу представился: преподает в местном институте, автор книги о местном подполье. Да, он тоже слышал о человеке, живущем в Козьих горах, который давал показания для Нюрнбергского процесса.
Бог мой, а это-то он откуда знает, что я знаю!
Нудно долдонил о том, что расстрелы наших политзаключенных в Катыньском лесу возможны, но поляков, конечно же, угробили немцы.
Вся эта подстава выглядела так жалко и примитивно, что я окончательно перестал «уважать» наше КГБ, о котором сложено столько легенд и мифов.
Дом Михаила Кривозерцева был так же стар, как и его хозяин... Но, что удивительно, память этого 86-летнего человека, почти ослепшего, оставалась предельно ясной. Он охотно согласился повспоминать «то время», но только с условием, что я ничего не буду записывать. Во время беседы он настороженно следил за моими руками, чтобы в них не появились карандаш или авторучка. Диктофон же (да простит мне эту подлость Бог, ибо он об этом изобретении не имел представления) надежно фиксировал каждое его слово, в том числе и постоянные повторы: «Я расскажу, как все это было, а писать надо так, как написано в 1945 году в газете «Московская правда». Потому что начальники очень строго велели именно так рассказывать эту историю. А иначе убьют». А для того чтобы я «не запутался», он подсунул мне под нос старенькую газетенку, которую ему приказали хранить вечно.
Во время исповеди Кривозерцева мой спутник Котов страшно нервничал, косился на работающий диктофон и все время порывался что-то сказать хозяину, но не решался.
Михаил Кривозерцев, поселок Гнездово, (прямая речь):
«Разговоров о расстрелах в Катынском лесу еще до войны хватало. Особенно о могильниках в Красном Бору. Там какие-то части стояли, вроде бы именно для этого...
А сам я видел и знаю вот что. В 1943 году Иван Андреев и Федор Куфтиков рассказали немцам, что, мол, знают место, где наши поляков расстреляли.
(Тут невозможно не добавить от себя: в этом эпизоде рассказа рожа у Котова превратилась в моченое яблоко!). Особенно старался Куфтиков. Он в первую мировую войну у немцев в плену побывал, и язык их немного знал. Старостой он что ли хотел быть или еще что, но очень для немцев старался. Собрали несколько бедолаг, как я, и повели в лес. Там всем налили по стакану водки, но не их дрянь (Кривозерцев чуть не сплюнул), а нашей, которую здесь захватили.
[55]
Всем налили, а мне нет, Я немцу-переводчику говорю: «Ты чего мне водки не дал?». А он: «У тебя братья воюют против наших немцев». Тогда я: «ну, и черт с тобой, а я копать не буду. Я не по этому делу».
И не копал. А другие копали. Из ямы они вынули сначала восемнадцать евангелистов. Я так решил потому что при них были валенки, но не на ногах, а веревочкой связанные, чтобы на плече нести, и в валенках запрятано сало и сухари. Я, почему так говорю, что они евангелисты? Потому, что мой отец был евангелист, и когда его пришли арестовывать чекисты, он взял валенки и натолкал туда заранее приготовленное сало и сухари, потому что на Север собирался. И эти, видно, так же мыслили, а попали сюда.
Значит, подняли этих, а затем уже человек триста поляков. Но наши, заметьте, сверху лежали. (Котов скис окончательно. Еще бы не скиснуть. Это зачем же немцам, якобы расстрелявшим поляков, расстреливать еще и евангелистов?). Их немцы велели отдельно перезахоронить. Стали делать новый раскоп. На глубине опять вещи пошли женские и наши люди. Одна баба, которую за тушенку тоже копать заманили, своего мужа узнала и в обморок грохнулась, он у нее безвестно в сороковом году пропал. А почему узнала? В этом лесу в песке люди почему-то не гниют. У него лицо было, как у живого, только сразу стало чернеть. Ей немцы тоже позволили его забрать и перезахоронить, где хочет. (Поглядывая на Котова, я опасался, что он тоже сейчас начнет чернеть, как только что выкопанный из целительного песка.)
Ну потом немцы там амбар поставили с котлами. В горячей воде черепа отмывали и смотрели, где какие прострелы. Все эти триста черепов проанализировали, а потом уж сколько, я не знаю. Много было... »
Всю обратную дорогу до Смоленска Котов выглядел пришибленным, словно влип в дело, в которое не ожидал попасть. Мы уже подъезжали к городу, как разразилась страшная гроза. Дождь так колошматил по крыше, что приходилось кричать шоферу, подсказывая, где высадить Котова. Он нырнул в подворотню своего дома, словно счастливо освободившийся жулик.
На следующий день я опять взял машину у Громыко и стал объезжать окрестные села, выспрашивая у стариков про Катынский лес. В массовых расстрелах там никто не сомневался. Поляков тоже помнили все, потому что перед расстрелом их (может, только некоторых) выгоняли на всякие работы. И шли туда с ксендзами и с маленькими комнатными собачками. Это всех страшно поражало.
В поселке Софиевка я задержался надолго, напав аж на пятерых свидетелей. Особенно был интересен обрусевший поляк Александр Косинский, оказавшийся свидетелем выгрузки польских офицеров
[56]
на станции Катынь в апреле сорокового года. Они весело переговаривались между собой, послушно грузили вещи в одну машину, а сами залезали в другую, крытую. Косинский заподозрил неладное, когда «черные» воронки двинулись не в сторону Смоленска, куда увезли их чемоданы, а в сторону Катынского леса. Вскоре машины вернулись пустыми, опять загрузились и двинулись прежним маршрутом.
Вообще-то, история этой трагедии сыграла с истиной злую шутку, назвав ее Катынской. Катынь — всего-навсего захолустная станция и к лесу, в которой происходили расстрелы, никакого отношения не имеет. Но в переводе на польский она звучит, как «кат» — гад. На самом деле это слово тюркского происхождения, обозначавшее горки, холмы. Местность там действительно холмистая. Лес же, ставший огромным кладбищем и для наших людей, и для поляков, местные жители называли никак не иначе как Козьим. Но такое наименование (подумайте сами — козлиная или козья трагедия) никак не подходило для обозначения ужаса.
Во время нашего разговора со стариками один из них с удивлением воскликнул:
— Смотри-ка, годами никто на таких машинах к нам не ездит, а тут вторая «Волга» подкатывает!».
Я оглянулся и увидел рядом со своей машиной еще одну, из которой вышли два молодых человека в черных костюмах и галстуках на белых рубашках. (Это в такую дикую жару!). В профессии молодых людей сомневаться не приходилось. Подойдя ко мне, они потребовали предъявить документы. В ответ я предложил им сделать то же самое. Мы издали помахали друг перед другом удостоверениями. Они полюбопытствовали, что я здесь делаю. Я сказал, что работаю по заданию газеты. Мне предложили пройти в их машину, на что я сообщил им, в предельно вежливой форме, что в транспорте не нуждаюсь, так как имею свой. Началось обычное препирательство, которое, конечно же, завершилось бы уведением меня под локотки, если бы не мои героические старики. Они заголосили, перекрикивая друг друга:
— Не ходи с ними, мужик! Они тебя в лес хотят увести, знаем мы, зачем они туда таскают!
По-солдатски бравые (в отличие от меня) старички схватились за подвернувшиеся палки и, как боевые петухи, начали наскакивать на гебешников. От поселка с лихим свистом бежало пацанье, веселясь не-ожиданному приключению. Оценив ситуацию, молодые люди позорно ретировались к своей машине и попрыгали в нее аж на ходу. Им, конечно же, не нужен был публичный скандал, на него они не были аккредитованы.
[57]
Все произошло так быстро, что я не успел толком и испугаться. Старики все еще петушились, жалея, что не побили стекла машины, «чтоб тех холуев вздрючили на их службе».
Кто-то предложил обмыть одержанную победу самогонкой из соседнего села, которая «знать как внушительная, не то, что водка». Я мгновенно согласился, сказав, что повод уважительный, и их бабы не забранятся, и подозвал шофера. Он был смертельно испуган и долго не мог понять, зачем ему еще нужно быстренько сгонять в соседний поселок:
— Ах, не зачем, а за чем... — и тихо спросил: — А если ЭТИ задержат?
Я его успокоил, что точно не задержат, лишний шум им совсем не нужен.
Пока водитель ездил за спиртным, старики «сбегали» по домам и накрыли у реки «стол» на видавшей виды плащпалатке.
Никогда водка не казалась мне столь вкусной, а компания изумительно интересной. Старики пили водку в охотку, но с достоинством. О стычке никто уже не вспоминал. Меня дружно наставляли, где и кого нужно искать. Когда я менял в диктофоне кассету, старики дружно замолкали.
В эти минуты я твердо поверил, что катынская тайна будет раскрыта....
Между тем стало ясно, что следует срочно удирать в Москву. «Джентльмены удачи» обязательно постараются отобрать пленки- — бесценнейшие документы о трагедии.
Старики тепло проводили меня, пожелав скорого возвращения. Я уехал в гостиницу за вещами, потом — к Громыко, а от него без задержки в аэропорт.
В Москве я тут же засел за статью, написал ее на одном дыхании и понес к главному. Вид у меня, вероятно, был еще тот, потому, что Яковлев тревожно спросил:
— Попался?
— Это они попались, — самодовольно заявил я.
— Неужели все-таки... наши?
Главный сунул статью «Тайны Катынского леса» в свой знаменитый кейс, что означало: материал он будет читать и думать над ним дома.
Оставалось только ждать. А в это время разорвалась «бомба», которую мы проворонили зимой.
На съезде народных депутатов СССР неожиданно выступил бывший афганец Червонописский с громовыми обвинениями Сахарова во лжи и очернении советских воинов-интернационалистов.
[58]
Сахаров попытался ответить, но зал бесновался в дикой вакханалии. Истерично визжали женщины, степенные генералы чуть ли не свистели в два пальца. Это было отвратительное и страшное зрелище.
Вечером я позвонил Сахарову, с испугом спросил, как он себя чувствует.
— Хорошо. А что случилось?
— Но ведь они так орали!
— Когда я выступаю, то обдумываю, что сказать, и потому ничего не слышу вокруг...
А наутро в редакцию принесли телеграмму из Ленинграда от бывшего солдата-афганца Валерия Абрамова: «В июле 1980 года в районе Фозибау на высоте Слон был обстрел наших солдат вместе с афганским батальоном, вероятно, по вине офицеров, командующих этим рейдом».
Нужно было срочно встретиться с Абрамовым, Перед отъездом я позвонил Боннэр и рассказал о телеграмме. Она выразила беспокойство за судьбу этого парня и записала его адрес.
Мы уже начали подстраховывать друг друга.
Абрамова я с трудом разыскал на окраине Ленинграда. Нищета его квартиры была ужасающей: жена, двое детей и он сам ютились на площади, не превышающей пятнадцать квадратных метров. Даже телеграмму он отправил по телефону в кредит, так как у него не было наличных денег.
У Валерия сидел его товарищ чеченец Руслан Умнев. Валерий начинал эту афганскую войну, Руслан ее заканчивал.
Их рассказы, подтверждали высказывания Сахарова в Канаде, были откровенны и страшны. Не раз и не два попадали они под обстрел своих же ракет. Но что это было — ошибка или умышленный огонь на уничтожение окруженных — они не знали.
Репортажи советского телевидения из Афганистана солдаты называли «В гостях у сказки», ибо не было в этих репортажах ни слова правды об истинных событиях, происходящих в «дружественной» стране.
Отношения к мирному населению Афганистана было преступным или полупреступным. Хватало малейшего подозрения, чтобы поголовно уничтожить жителей кишлака — от стариков до детей.
Многие офицеры и солдаты занимались откровенным мародерством. Неуставные отношения доводили новобранцев до дезертирства или самоубийства.
Эти двое на той войне не разбойничали. Хватало совести. Совесть до сих пор мучила их, увешанных орденами и медалями. Кто они — наемные убийцы или солдаты-освободители?
По возращении в редакцию меня ждали новые телеграммы.
[59]
Одна из них из Белоруссии: «Просим сообщить, чьи дети из членов старого состава Верховного Совета и ЦК КПСС проходили службу в Афганистане тчк счетной комиссии во главе с Сахаровым заранее верим тчк воины афганцы».
И еще одна, которая запомнится, наверное, на всю жизнь, адресованная лично Сахарову: «Мы знали, что вы герой труда теперь знаем что вы герой Советского Союза» — под ней 117 подписей.
Вообще, телеграмм и писем поступило невероятно много. В квартиру Сахарова почтальоны приносили их целыми мешками. Никаких человеческих сил не хватало их разобрать.
Мой материал «Об этой войне нужно сказать всю правду» пошел в номер, что называется «с колес». Зато с Катынью дела обстояли хуже. Главный был угрюм и чем-то озабочен.
— Поезжай еще раз в Смоленск, тебе нужно встретиться с Шиверских. Без этого статья не пойдет.
— Он не примет меня — я же пытался с ним встретиться...
— Примет. Я договорился с Крючковым. И пока вычеркни из рукописи все, что касается поляков. Ищи массовые расстрелы наших и не думай, что мы разом можем покончить с этой историей. Смоленск — это очень серьезно и очень надолго. Советско-польская комиссия топчется на месте, никаких документов нет или их не хотят найти. Что ж, не удается в лоб, заходи с тыла...
Я позвонил Шиверских, тот подтвердил готовность встретиться. После этого я позвонил историку Котову. Он был оживлен, весел, по-прежнему словоохотлив. Просил приехать, так как обнаружил ценнейшего свидетеля из комиссии Бурденко.
В этот раз меня принимали «по высшему разряду»: машина к трапу самолета (дался мне этот самолет при более удобном проезде поездом!), номер в «Интуристе», готовность выполнить малейшее пожелание... Шиверских был любезен до невероятности. Он подсовывал мне какие-то тощие папочки личных дел бывших сотрудников, сетовал на отсутствие документов, на скрытность ветеранов НКВД, не желающих ничего вспоминать, «отдал» захоронение наших репрессированных, захороненных у городской тюрьмы, но начисто отрицал все, касающееся Катынского леса.
Я попросил машину для поездки по селам. Мне мгновенно была выделена в личное пользование новенькая «Волга». Взяв с собой Котова, я ринулся на новые поиски. Но как же эта вторая поездка отличалась от первой! Я метался от деревни к деревне, от дома к дому, но везде меня встречало либо угрюмое молчание, либо глухое раздражение. Никто не хотел говорить. У меня было ощущение, что кто-то заранее
[60]
прошел этим маршрутом, предупреждая людей о возможности моего появления. Сомневаться, кого представлял этот КТО-ТО, было бы наивно. Впрочем, было еще наивнее с моей стороны ожидать помощи со стороны УКГБ, тем более, одолжив у них машину, я превратился в настоящего заложника.
Оставалась последняя, чуть тлеющая надежда на человека, которого нашел Котов, и мы вернулись в Смоленск.
Бывший работник госбезопасности, а ныне пенсионер, встретил нас как самых желанных гостей. Был он бодр и словоохотлив. Во время войны партизанил в этих местах, после освобождения Смоленска его пригласили на службу в НКВД.
— Да, сразу же занялся Катыньским лесом, за две недели до приезда комиссии Бурденко. Кто убил польских офицеров? Можно не сомневаться — немцы. Все партизаны знали об этом. После вскрытия захоронений сразу же обнаружили гильзы немецкого производства. Нашли и письма, датированные 1943 годом — я их сам видел. Дело было так. Наши хотели летом сорок первого отправить поляков по домам, а тут, бац, война. Фашисты подошли к Смоленску, захватили лагеря, перебили нашу охрану, а потом и поляков.
Я слушал этот бойкий рассказ с верой и сомнениями. То, что наши приложили руку к этому преступлению, было уже ясно, но, может быть, и у немцев рыльце в пушку? Вдруг, какую-то часть офицеров расстреляли и они? И это совместная акция? А потом немцы показывали наши могильники, а комиссия Бурденко уже вскрывала гитлеровские?
Свидетель любезно проводил нас до дверей и предложил заходить, если опять что-то еще будет неясно.
Я простился с Котовым и побрел в свою гостиницу. Что-то мне не нравилось в услышанном. Но что? И вдруг я замер, как вкопанный. Это зачем же за две недели до приезда Бурденко с коллегами целая команда НКВД отправилась в Катынский лес? Чем они там занимались четырнадцать дней? Ведь вскрывать захоронения они должны были в присутствии свидетелей — комиссии из уважаемых в стране людей, а не заниматься опережающей самодеятельностью. И если это так, то...
И еще несуразность. Мой добровольный свидетель настойчиво повторял о найденных гильзах, но как они, при стрельбе отлетающие в сторону, оказались в могильниках? А эти не истлевшие за год в земле письма? Может быть, бойкая команда НКВД затем и побывала в лесу раньше комиссии, чтобы должным образом начинить захоронения нужными «аргументами»? И зачем Котов так настоятельно рекомендовал мне этого свидетеля, если я его и не просил искать очевидцев польской трагедии?
[61]
В номере гостиницы я еще и еще раз прокручивал магнитофонную пленку и убеждался в правоте сомнений по убежденным ответам добровольного свидетеля.
Меня не Бог весть как умело (не велика шишка заезжий корреспондент) вели по ложному следу. Откровенно дать мне по рукам он, уже не осмеливались, — поднимут шум и редакция, и Сахаров, все это взбудоражит общественность... Но можно надуть, подбросить «неоповержимые» факты, а настоящих свидетелей еще раз припугнуть. В номер постучали, я открыл дверь. На пороге стоял пожилой человек в старомодном берете.
— Вы Жаворонков?
— Да.
— Я к вам.
— Проходите.
Он быстро вошел в комнату, снял телефонную трубку и пару раз повернул диск.
Эти пассы мне до боли были знакомы: так мы наивно пытались уберечься от прослушивания.
Мой гость присел в кресло и чуть громче, чем прежде, спросил:
— Были у «свидетеля»?
— Был.
— Поверили?
— Нет.
— Хорошо. Я с ним из одной команды. Это была грязная работа. За нее я до сих пор расплачиваюсь бессонницей и вечным страхом.
— То есть и вы подбрасывали в захоронения немецкие гильзы, польские письма и газеты от сорок третьего года?
— Он вам рассказал?! — изумился гость.
— Если бы... Я сам догадался, узнав, что его послали в Катынский лес за полмесяца до приезда Бурденко. Вас направляли туда именно за этим?
— Подбрасывали не мы, мы только подготовкой занимались. А для подбрасывания приехала специальная команда из Москвы. Не нам, деревенским пентюхам, для таких дел чета. Нам только хорошо заплатили и велели покрепче держать язык за зубами, не то...
— И вы так долго молчали?
— Ни жене, ни детям своим ни словечка не сказал. И за выпивкой ни разу не проговорился. С такими делами не шутят.
— А почему же сейчас решились?
— Так вспомнили про меня, пришли еще раз на всякий случай пугнуть. И вашу фамилию назвали. Я понял, что вы до чего-то уже доко-
[62]
пались — слишком они засуетились. Говорили, что вас поляки наняли, это правда?
— Вранье, как и все остальное, что они будут говорить про меня.
— А зачем они мне будут говорить?
— Думаете, не узнают про ваше посещение?
— Узнают, может, но не докажут. У меня своя версия есть.
Перед своим уходом он долго стоял у двери, прислушиваясь, потом, осторожно выглянув, стремительно исчез.
У меня было дурацкое положение. Почему я не должен подозревать, что и этого «свидетеля» мне не подсунули? Хотя — зачем?
Наутро в расхлябанном автобусике, я ехал на новые поиски. Первым навестил Кривозерцева. На этот раз я застал у него дочь, зятя и внучку. Сначала показалось, что здесь мне здорово наподдадут за чрезмерное любопытство. Однако все случилось прямо-таки наоборот. Дочь даже обрадовалась мне.
— Ну что, исповедали отца?
— Я не священник.
— Догадываюсь. Да только ему на душе легче стало. Говорит — теперь и умирать не страшно.
— А вы знали про Катынский лес?
— Про это здесь редко кто не знает, да говорить не любят. А я, знаете, и не испугалась, даже когда после вас ЭТИ приехали пугать.
— Что, уже были?
— Как же, как же. Только пугают они теперь по-новому. Грозились этот домишко отнять, когда отца не станет. Мы-то давно в городе живем, а здесь у нас дача. Ну, я им и сказала: черт с вами, отнимайте, только чтобы рож ваших я здесь больше не видела. Отец, говори все, не бойся! Кривозерцев был спокоен и благостен. Он вспомнил, что в лесу стояла какая-то военная команда, которая вроде бы и занималась расстрелами. А всем заправлял какой-то Стельмах.
Больше он ничего не знал. Я проехал весь свой первый маршрут и убедился, что везде по моим следам уже прошлись. Но запугать удалось далеко не всех, поэтому я еще кое-что добавил в свой походный 6локнотик: факты, адреса свидетелей и их фамилии.
Однако на этом пришлось эту командировку завершать и не ждать в Смоленске новых лжесвидетелей.
[63]
Глава 5
КАТЫНСКИЙ ЛЕС НАЧИНАЕТ ГОВОРИТЬ
Новый вариант статьи о Катынской трагедии Главный благословил, предварительно вычеркнув все прямые указания на истинных виновников преступления. Правда, хитро глянув на меня, оставил нетронутым монолог Михаила Кривозерцева, главного свидетеля советской версии на Нюрнбергском процессе, в котором была аккуратно заложена мина замедленного действия.
На редколлегии, после выхода газеты, Главный позволил себе весь-ма пикантную шутку: предложить послать благодарственное письмо в журнал «Коммунист», где после трехмесячной стажировки некоторые сотрудники открываются новыми гранями таланта.
Через два дня (в Смоленск «МН» приходила с запозданием) позвонил Котов. От испуга он говорил почти шепоток, отрекался от сказанных мне слов и требовал опровержения. Я предложил ему подать на меня в суд, куда готов предоставить магнитофонные пленки с нашими разговорами. Это был явный блеф с моей стороны, в те годы такие записи не принимались судом во внимание.
Не представляло большого труда выяснить источник его страха. Позвонил Громыко и сообщил, что даже его таскали в КГБ. Следовало ждать дальнейшей реакции. И она не заставила себя ждать долго. Уже на следующей редколлегии Яковлев угрюмо выговаривал мне за «неаккуратность». Поз-же я узнаю, что ему звонил Горбачев и истерически орал: вот, сами поляки не могут найти истинно виновных, а какой-то журналистишка преподносит им доказательство чуть ли не на блюдечке. Понимает ли многоуважаемый Егор Владимирович, что, появись публикация на несколько дней раньше, то Ярузельский мог быть и не избран Президентом Польши?!
Нужно отдать должное Яковлеву — он выговаривал мне «по долгу службы», а не по собственному желанию. Горбачев требовал «крови», моего увольнения, вот Главный и реагировал. А на мой вопрос, что же делать дальше, ответил ехидной репликой: «Продолжать лезть не в свое дело».
Я ждал писем. И они пришли. Почти все анонимные, но с теми или иными указаниями виновников трагедии. А потом позвонила дочь бывшего начальника НКВД по Смоленской области, и позже по Белоруссии, Наседкина. Она посчитала публикацию чуть ли не реабилитируюшей отца, так как он был расстрелян по указанию Берии.
Придя в мою редакционную комнатушку, она долго рассказывала мне о душевной чуткости отца, о его необыкновенном человеколюбии.
[64]
Я покорно слушал, а в голове отчетливо вертелась фраза из выписки архива: «При Наседкине только за 1937 год по первой категории (читай - к расстрелу) было приговорено 4 500 человек».
Конечно, думалось мне, в чем виновата девчонка (а теперь пожилой человек), к которой отец был гораздо гуманней, чем к своим подследственным...
Когда она ушла, я долго бессмысленно смотрел в окко на замусоренный двор. Может, не стоит копаться в прошлом, отравляя кому-то настоящее? Неизбежно будут всплывать чьи-то имена, фамилии, которые теперь носят люди, ничем не причастные к кровавым делам тех лет, и что же, опять будет око за око, а сын — за отца?
И вдруг вспомнилась беспощадная фраза Боннэр о своем отце: «Это они начали террор, жертвами которого сами и стали».
И все вернулось на свои места. Совершено преступление, не имеющее аналогов в мировой истории. Если мы не разберемся в его причинах и следствиях, оно может повториться.
Катынь стала моей «навязчивой идеей». Теперь свой рабочий день я начинал с разбора почты, надеясь получить письмо от какого-нибудь свидетеля, которое поможет продвинуться к истине. Засыпал с надеждой на какое-нибудь чудо, поджидающее меня завтра. Бывая в различных компаниях, специально заводил разговор о польских офицерах, рассчитывая на слепую удачу.
Все было напрасно. Тянулись дни, а я продолжал топтаться на месте.
Опять меня вызвал Главный и поинтересовался, как идут дела. Я угрюмо ответил: никак. Анонимные письма не могут служить доказательством, а истинные свидетели продолжали хранить молчание. Правда, ко мне в редакцию явился несколько странноватый человек, некогда работавший в «органах» и уволенный оттуда за, якобы, психическое нездоровье. Посетитель уверял, что, будучи еще ребенком, он слышал от своего дяди, сотрудника НКВД, во время коллективной попойки о какой-то операции против польских офицеров, за которую они все получили кто орден, кто медаль. Гость предложил мне поискать указ (конечно, закрытый) о награждении чекистов, датированный 1940 годом.
Но если бы даже нам и удалось его найти, он не давал возможности для прямых обвинений.
В другой раз бывший гэбэшник, а ныне диссидент брался показать мне место под Москвой, где, вероятней всего, захоронены делегаты 17-го съезда партии. Я заказал машину, а диссидент не явился. Кто знает, был ли это человек, искренне решивший помочь нам, или это была «подсадная утка», желающая заманить в «камыши» дезинформации.
Главный предложил мне не пороть горячку и спросил, не помню
[65]
ли я книгу Натальи Решетовской «В споре со временем». Еще бы мне не помнить «откровений» первой жены Солженицына, изданных АПН весьма ограниченным тиражом, за которыми потому все охотились.
— Отвлекись от Катыни и попробуй раскрутить историю ее появления.
Я согласился.
Первым делом я попросил помощницу Яковлева позвонить дирек-тору издательства АПН, чтобы он на имя Главного прислал в «МН» экземпляр книги.
Начало «раскрутки» получилось полудетективным: директор сообщил, что «еще тогда» весь тираж книги был увезен сотрудниками КГБ и им не оставили даже экземпляра для архива.
Книгу я все-таки достал через одну из сотрудниц редакции. Книга как книга, да только в выходных данных не указан тираж, что совершенно невозможно для нормального издания.
Теперь оставалось найти Решетовскую. Я позвонил знакомым в Рязань.
— Ты что, с ума сошел? Она давно уже перебралась в ваш стольный град
Найти человека в Москве трудно, но можно. И вот телефон ее квартиры, молчавший несколько дней, вдруг ответил. Я представился и попросил о встрече. Без восторга Решетовская согласилась принять меня и то лишь на короткое время.
В условленный час мы с Лешей Федоровым, нашим фотокорреспондентом, приехали на Ленинский проспект, к дому из тех, что принято называть, ну, очень престижными. Дверь открыла сама Решетовская и сразу же выразила недовольство присутствием фотокора. Но стокилограммового Федорова трудно было просто так выставить из квартиры. Обаятельно улыбаясь, он пообещал только «щелкнуть» ра-зочек на память и удалиться.
Решетовская предупредила меня, увидев диктофон, что будет вести параллельную запись.
— Меня столько раз в жизни обманывали, что я уже никому не верю!
Я пожал плечами. Она была вправе защищаться.
Почти трехчасовой разговор шел трудно. Было совершенно ясно, что личное горе этой женщины (развод с Солженицыным) наши компетентные органы использовали в определенных целях. Им нужен был Солженицын-двурушник, с раннего детства живущий двойной моралью, а не Солженицын-мученик, ставший знаменем правозащитного движения.
[66]
Цель не совсем удалась — безудержно лгать Решетовская отказалась. И все же сквозь слезы личной обиды Солженицын предстал в книге не столь последовательным противником режима. Говорят, что воспоминания бывшей жены огорчили Александра Исаевича. Значит, какого-то результата КГБ все-таки добился.
С небольшой паузой началась вторая часть «Исаича». К Решетовской подослали чешского журналиста, который, якобы, желал перевести книгу. Несколько часов беседы потом легли в основу омерзительной брошюры «Спираль измены Солженицына», автором которой был Т. Ржезач. Решетовская пыталась протестовать, писала опровержения, стучалась в двери ЦК КПСС и КГБ, но никто теперь не собирался распахивать их перед нею. Они же расплатились с Решетовской, дав ей московскую прописку и предоставив хорошую квартиру. Считалось, что они в расчете.
Перед публикацией я привез Решетовской ее интервью. Она читала его медленно, через сильную лупу. Разбирать машинописный текст ей уже не помогали очки с толстыми стеклами. Она расписалась и, таясь от меня, смахнула слезы.
Я не оправдывал ее и не обвинял. Дано ли было этой женщине «бодаться с дубом» — всесильным КГБ, который владел не только оружием и приемами карате, но и всевозможными способами лести, прямого или косвенного подкупа, обмана...
В конце сентября мы встретились с Сахаровым и Боннэр на совещании Межрегиональной группы. Эта весьма разношерстная кучка народных депутатов пыталась объединиться хоть в какую-то оппозицию, способную противостоять «агрессивно-послушному большинству». Заседание группы происходило в Доме политпросвещения. Могли подозревать бывший секретарь московского горкома партии, бывший член Политбюро Гришин, один из претендентов на пост Генсека после смерти Черненеко, что это помпезное здание, выстроенное в эпоху его правления, будет использовано людьми, которые уже завтра закричат: «Долой КПСС»!
Совещания шли безалаберно, с обидам и, с угрозами отделиться или уйти вообще. Не было даже приблизительного, хотя бы условного единения.
Опять крикливо выступал весьма тогда популярный следователь-разоблачитель Гдлян, в очередной раз грозясь раскрыть (но не раскрывая) «тайны кремлевского двора». С позиции кота Леопольда примирительно выступал председатель Совета национальностей Рафик Нишанов. Вышел на трибуну только что осмеянный газетой «Правда» за свои нетрезвые выступления в Америке Борис Ельцин, но его рассказ о поездке больше походил на лекцию для пенсионеров в ЖЭКе.
[67]
Сахаров, сидя в президиуме. выглядел печальным, словно бы отсутствующим. Даже резкие, как всегда наступательные реплики Собчака не вызывали у него привычных для меня эмоций.
В зал тихонечко вошла Елена Георгиевна. Мы сели рядом. Она весело пожаловалась, что жизнь превратилась в какое-то сплошное сумасшествие. Что прямо с этого заседания они едут в аэропорт, откуда летят в Штаты к детям и на какие-то симпозиумы. Что они страшно устали, а тут еще эти демократы не могут ни до чего договориться...
В перерыве я подошел к Андрею Дмитриевичу и рассказал о негативной реакции в Грузии на его «огоньковскую» статью, вернее, на три абзаца, в которых Грузия характеризовалась как маленькая империя с имперскими амбициями. Местная пресса разразилась полосами и целыми газетными разворотами протеста. Журналисты, историки, академики опровергали сахаровские утверждения, не очень заботясь о логике и объективности.
— Да, я слышал об этом, но думаю, что отвечать бессмысленно.
Я рассказал о странно проведенном отпуске в Пицунде, где был «похищен» из пансионата абхазами с целью показа истинного положения дел в бедствующей автономии. Новым постановлением им опять навязывался грузинский язык в качестве обязательного для делопроизводства. Грузинские лидеры неформалов не признавали исторического права абхазов на собственную территорию, грозились лишить их статуса автономии.
Сахаров слушал, не перебивая, но по его лицу было видно, что эти новости еще из одной загорающейся точки страны для него более чем огорчительны.
Он сказал, что нужна новая конституция, что правительство и Верховный Совет медлят и отстают от событий. Что он постарается быстрее закончить свой проект конституции и предложит его второму съезду народных депутатов. Но очень мало свободного времени, а в поездках работать трудно.
Потом в своей книге «Горький, Москва, далее везде» Сахаров напишет, что принимал весьма пассивное участие как в создании «Мемориала» — неформальной организации памяти жертв репрессий, — так и в работе межрегиональной группы, но не объяснит причины собственной малоактивности. Думаю, что он очень болезненно переживал разногласия среди демократов. Спешил что-то сделать сам, не слишком доверяя коллективному творчеству. Долгие годы, проведенные в Горьком, приучили его лишь к одному соавтору — жене. Она была и советчиком, и редактором, и единственным надежным другом...
Удача, наконец, нашла меня. Разбирая октябрьскую почту, я чуть ли не заорал на всю редакцию, Из Смоленска пришло письмо, и не от
[68]
кого-нибудь, а от штатного сотрудника КГБ майора Олега Закирова. Он сообщал, что начальник Смоленского УКГБ генерал Шиверских беззастенчиво врал мне, утверждая, что ветераны НКВД молчат. Еще в июне (до моего приезда в Катынь) Закиров передал по начальству заявление Ивана Титкова, водителя девяти прежних начальников НКВД, в котором он писал о фактах массовых расстрелов в районе Козьих гор и выражал желание указать конкретные места захоронений. Его заявление, как и заявление бывшего начальника Смоленского архива НКВД-КГБ Ноздрева, положены в стол, и им не дано должного хода.
«Не все работники нынешнего КГБ трусы, — кончал свое письмо майор Закиров. — Я прошел Афганистан, видел гибель наших солдат ни за что и не желаю быть соучастником нового обмана и преступления. Приезжайте в Смоленск, я расскажу вам все, что знаю, и помогу встретиться с ветеранами НКВД».
В письме были адрес и домашний телефон.
Я ворвался в кабинет Главного и рассказал о настигшей меня, наконец, удаче. Яковлев внимательно изучил исписанный с двух сторон листочек и коротко сказал: «Поезжай!» Потом после паузы сухо добавил: «Продумай все и будь предельно осторожен. Ты понимаешь, ОНИ будут защищаться любыми средствами».
После своего очередного отпуска (который на самом деле был внеочередным, так как после ухода из редакции я не имел на него права) я никак не мог войти в привычный ритм работы. Слетал в Челябинск, где межрегиональная группа и новые, все возникающие и возникающие партии пытались объединиться в единый демократический Союз. Репортаж получился вялым, маловыразительным. И немудрено — совещание больше походило на сходку в дурдоме, чем на сборище интеллектуалов.
Я написал очерк («Кто вы, Вилли фон Отто Драугиль?») о немце, который до сих пор находился у нас в плену. Но и он не вызвал восхищения у Главного. Герой показался ему личностью подозрительной, не внушающей доверия.
Ритм печататься через номер был нарушен, и я ощущал себя барствующим бездельником. Катынь могла стать тем «наркотиком», который мог вернуть мне прежнюю рабочую норму.
Я позвонил в Смоленск, Закиров подтвердил свое желание помочь раскрыть катынские тайны и предложил мне приехать на машине, так как все нужно делать четко, быстро и, главное, вовремя исчезнуть.
Волжский автомобильный завод подарил редакции малолитражный автомооиль «Ока». У машины были номера города Тольятти, которые могли помочь «скрыть» нежелательное присутствие москвичей
[69]
в Смоленске. На поездку я стал подбивать своего давнего приятеля Л.Ф. Но он страстного желания сунуться в Катынь не выразил. Под всякими благовидными предлогами он откладывал поездку. Тогда я обратился к новому для редакции человеку — Олегу Иванову. Совершенно неожиданно для меня он согласился, правда, тоже без особого восторга. Причин для этого было много.
Поздним октябрьским вечером мы выехали в Смоленск. Предварительно принимая, как мне казалось, все меры конспирации, я через собкора «Труда» Георгия Громыко заказал для нас номер в гостинице. Сказать, что дороги были ужасные, значит, ничего не сказать. Со скоростью свыше ста километров в час мы неслись не по асфальту, а по сплошному льду. Справа и слева от шоссе то и дело попадались машины, слетевшие в кювет. Где-то на полпути к Смоленску началась метель. Не было видно не только стоп-сигналов впереди идущих машин, но и света фар встречных автомобилей. КГБ явно навязывало нам по-году по своему вкусу.
Олег буквально потряс меня одной своей фразой, произнесенной совершенно спокойно:
— Геныч, эта машина, как яйцо, на ней одинаково можно превратиться «всмятку» и при тридцати, и при ста километрах в час. Ты не против того, что я не буду сбрасывать скорость?
Я был не против. Стрелка спидометра замерла на цифре 120. При въезде в город мы сняли с машины все рекламные атрибуты «Московских новостей» и, как праздные путешественники, скромно потупив взгляды, вошли в гостиницу «Россия».
— А вот и «Московские новости» приехали, — радостно воскликнул администратор.
Мы окаменели. Стоило ли так таиться, предпринимать столько конспиративных шагов, чтобы быть узнанными в первые же минуты пребывания в городе? Пройдя в номер, я тут же позвонил Закирову. Был первый час ночи, но трубку снял сам Олег.
— Я жду вас, приезжайте.
Мы снова сели в машину и пустились на поиски плохо известной даже самим жителям улицы Строителей. Проплутали почти час. Наконец, среди однообразных домов-близнецов мы нашли тот, который нам был нужен. У подъезда стояла машина «Скорой помощи». Не покидающая меня тревога тут же помножилась порядков на десять.
— Вы не в 47-ю квартиру? — спросил я санитара.
— В нее.
— Что случилось? — почти заорал я в ужасе, уже мысленно считая, что нас опередили.
[70]
— У девочки аппендицит! — равнодушно сообщил санитар и захлопнул дверцу машины, поглядывая на меня, как на душевно больного.
Какая-то женщина (это была жена Закирова) сообщила из окна «Скорой»:
— Проходите в дом, квартира открыта. Олег где-то бегает здесь в поисках вас.
Машина уехала. Мы не пошли в открытую квартиру, а занялись поисками пропавшего Олега. Петляли между домами, вглядывались в лица редких прохожих и, наконец, увидели призывно машущего нам человека. Это был Закиров. Он рассказал, что сразу же после нашего звонка у дочери начался сильный приступ аппендицита, но все случившееся не должно помешать операции «Катынь». Технология ее проведения предельно проста. Олег заходит в квартиры ветеранов НКВД, предъявляет удостоверение майора КГБ и произносит многозначительную фразу: «Генерал Шиверских просит рассказать этим людям все, что вы знаете о репрессиях и расстрелах».
В сущности, подобное утверждение было почти правдой. Председатель Смоленского УКГБ божился мне, что очень хочет помочь нам в журналистском расследовании, тем более что получил на это санкции свыше. Договорившись с Закировым встретиться утром, мы с Ивановым уехали в гостиницу. Операция «Катынь» стала опять приобретать реальные очертания.
Где-то около восьми часов утра нами был «взят» бывший начальник Смоленского НКВД Ноздрев.
Рассказ Ивана Ноздрева. Стилистика рассказчика соблюдена дословно.
— Начиная с 1935 года, в Смоленском НКВД стали появляться особо ретивые работники. Такие, например, как Эстрин, Кронгауз, Самусевич. Каждый из них из любого мальчишки мог «врага народа» сделать, а то и на пустом месте заговор раскрыть. В 1936 году они арестовали всех, кто имел охотничьи ружья, и обвинили их в подготовке вооруженного восстания и создании повстанческой организации.
Самусевич допросы вел весело, словно репетировал в кружке самодеятельности. Играл на гармошке, предлагал поиграть подследственным. А потом, потирая от удовольствия руки, смеялся и оформлял дело по первой категории, то есть к расстрелу. Перед войной он сам был арестован и осужден за организацию липовых дел. Только не сгинул, как многие. Уже в 1943 году он стал комендантом особого отдела 21-й армии...
Образовательный уровень следователей был нижайший. Иной раз они назначались из надзирателей, как это было в 1937 году со знамени-
[71]
тым своей жестокостью Жмуркиным. Он «липовал» дела, как семечки лузгал.
Группой расстрела руководил Иван Стельмах. (Потом, много позже, я получу личное дело главного расстрельщика польских офицеров. Его служебная характеристика потрясет меня: «Малообразован политически безграмотен, но своему делу предан безгранично».) Был в его бригаде Бороденков, может, жив еще. С таким делом, как расстрел, не каждый справиться может, а он делал это с удовольствием. Подбирали туда людей «особо одаренных» — тупых и бесчувственных. И все равно не все выдерживали такие испытания. Один из группы Стельмаха не выдержал и перерезал себе горло бритвой на чердаке управления.
Вот теперь часто горюют: как же все не сопротивлялись при таких массовых расстрелах и в лесу Козьих гор, и в подвалах НКВД? А почему вы думаете, что никто не сопротивлялся? Просто говорить об этом не было принято, даже втихую. Я, например, точно знаю, что не все в этих делах шло гладко.
Однажды я пришел в управление утром, а оно словно бы в осаде. Оказывается, во время ночного расстрела один поляк выдернул винтовку у конвоира, захватил оружейную комнату и три дня держал оборону. Никто из храбрецов Стельмаха и близко к нему подойти не решался. Только тогда и победили, когда бросили в подвал газовую шашку.
В Козьи Горы везли и живых, и мертвых. Живых, может, только для того, чтобы могильники копать, не самим же расстрельщикам этим делом заниматься. А потом добивали и их.
В 1946 году геологи стали брать пробы в Катынском лесу, для стареющего керамического завода нужны были песок и глина. Мой начальник узнал про это и заставил меня написать письмо в Москву. Мол, что вы там, все с ума сошли, что вы делаете? Они же вам такое раскопают, что мир ахнет. И геологов быстро убрали.
После 1956 года меня назначили секретарем комиссии по реабилитации. Даже я, знавший многое, изумился нелепости и легкости вынесения приговоров. Был тогда в моем распоряжении богатый архив. Я его лично в начале войны увозил в город Чкалов, а потом возвращал в Смоленск.
Был составлен полный отчет о работе комиссии, который не был тогда опубликован. Где он сейчас, не уничтожен ли за давностью лет?».
К участнику группы Стельмаха (группы расстрела) Бороденкову мы попали уже не так легко. Он долго, через приоткрытую на цепочку дверь, рассматривал удостоверение Закирова. А впустив нас в свою квартиру, был несловоохотлив. Не отрицал факта расстрела польских офицеров, но твердил, «что сам он в этих спектаклях не участвовал». В
[72]
это просто невозможно было поверить, но уличать старика показаниями бывших сослуживцев мы не имели морального права.
Зато шофер девяти начальников НКВД Иван Титков был более откровенен, видимо, он имел право считать себя непричастным к сотворенным злодеяниям. Он был сильно простужен, и я весьма робко, без надежды на успех, попросил его выехать в Козьи Горы и показать места захоронений расстрелянных польских офицеров и наших соотечественников.
Впервые за эти часы я ощутил нежность к людям, когда дочь Титкова, Татьяна, положив отцу руку на плечо, тихо сказала:
— Надо, отец, поезжай! Я одену тебя потеплее...
В машине Иван Титков продолжал наговаривать мне на диктофон:
— С 1934 года расстрелянных в подвалах НКВД Смоленска (улица Дзержинского, дом 13) возили хоронить в Козьи Горы, специально прикрепленные шоферы Комаровский и Костюченко. Они многое знали и могли бы рассказать, но уже умерли. А вот с начальниками никакого постоянства не было. Менялись они частенько. Уедет один по вызову в Москву, а через неделю ко мне в машину другой садится. Иной раз осмелюсь и спрошу: «А прежний-то где?». В командировку, говорят, уехал. Только из таких командировок никто никогда не возвращался».
Катынский лес встретил нас недоброй тишиной.
— Поляки памятник не на том месте поставили, — вдруг посетовал Титков. — Под этой могилой никого нет. Польские офицеры похоронены там, за загородкой, где теперь дачи КГБ.
Мы прошли за забор, благо по чьей-то оплошности калитка не была закрыта.
— Здесь, — уверенно сказал Титков, — они лежат здесь. Это я сам видел, когда начальника сюда привозил. Он тогда лично хотел удостовериться, что кем-то данное ему задание выполнено...
Мы стояли в заснеженном лесу, примерно в трехстах метрах от Смоленского шоссе, пройдя еще метров пятьдесят вглубь сосняка, мимо мемориала погибшим польским офицерам. Но на той «могиле» был памят-ник, цветы, венок, недавно возложенный польским премьер-министром Тадеушем Мазовецким. А здесь лишь снег и редкие кусты с увядшими, но неопавшими листьями. Сюда не водят иностранных делегаций, здесь не служат панихид по безвинным жертвам репрессий. Не поминают отцов и матерей, потому что никто еще не назвал это место кладбищем.
Не только не назвал, но и не спешит найти его. Не спешит по многим
причинам, но еще и потому, что здесь дачи работников КГБ.
— А вот там, — Титков показал рукой чуть в сторону, — могилы наших...
[73]
На всякий случай я позволил себе посомневаться:
— Не путаете, Иван Иванович? Все-таки столько лет прошло. Может, память вам изменяет?
Титков помолчал и сказал без обиды:
— Такое не спутаешь. Такое не забывается никогда...
Молчит Катынский лес. Говорит только Иван Титков, которому уже нечего терять. Не поздравляют его бывшие сослуживцы с праздниками, не зовут на юбилеи, не выспрашивают у него и сегодняшние работники КГБ: а что же все-таки было тогда и почему это случилось?.
— Вот там, — опять откровенничает Титков, — по левую сторону дорожки, до войны был хуторок. Жил в нем человек, Иваном, кажется, звали. Точно, Иваном. Жаловался он мне: каждую ночь здесь стреляют, как будто война какая идет. А ведь, и правда, война — своих со своими.
По весне в лесу много впадин обнажалось. Оседали захоронения, люди вглубь уходили, словно прятались от новых мучений... Лес-то, гляньте, молодой совсем, саженый. Ему, может быть, чуть за шестьдесят. От старого только редкие стволы остались, да и среди них, пожалуй, моих ровесников уже нет...
Чуть в стороне от нас прапорщик пилил бензопилой «Дружба» сосну. Она рухнула, тяжело охнув, вздыбив облако снега. Странно было видеть порубки в огражденном забором лесу, названном государственным заповедником.
Я наивно спросил:
— Иван Иванович, это что, лес прореживают?
— Да нет, — усмехнулся Титков, — Это на дрова. Баня там есть. Топить ее сейчас будут. Видно, кто-то из начальников управления скоро сюда приедет. Париться. Это и тогда так было. В тридцатые...
Как выстрел, прозвучало в лесу это вроде бы совсем не страшное слово «т о г д а».
Как и тогда, теперь кого-то не смущает соседство с огромным безымянным кладбищем. Как и тогда, не страшно отдыхать, париться, пить водку и веселиться всей семьей, зная, что под ногами не трава и снег, а чьи-то имена, навечно втаптываемые в кровавый песок Катыни.
Что это? От беспамятства или от неповерженной уверенности, что и на этот раз тайна Катыни так и останется тайной и все будет по-прежнему?
Когда мы возращались, по шоссе мимо нас к дачному поселку КГБ проскользнула белая «Волга». Видимо, ей дано ездить туда, куда нам и в щелочку заглядывать непозволительно. Люди в военной форме охраняли здесь не нас, а что-то от нас.
[74]
А над лесом в безветрии струился легкий, почти прозрачный дымок.
ТОПИЛИ БАНЮ.
Отвезя Титкова домой, мы поспешно вышмыгнули из Смоленска.
— Стой! — вдруг скомандовал я. — Мы забыли отметить командировки.
Иванов послушно развернул машину. Как два последних идиота мы вернулись в город. Олег подъехал к редакции Смоленской молодежной газеты. С двумя командировочными листками я взбежал на второй этаж.
Главный редактор, довольно-таки молодая и милая женщина, приветливо улыбнулась мне:
— Ах, вот вы где? А вас уже с собаками ищут!
— Кто? — прикидываясь дурачком, спросил я.
— Ну, кто-кто, сами знаете, кто вас может искать. Звонили, спрашивали, не здесь ли вы? Я ответила им, что вас здесь нет и не было, что и в самом деле истинная правда.
— До аэродрома доехать успеем? — спросил я, наивно запутывая следы.
— Может, и успеете, — пообещала она, отдавая подписанные ею и проштемпелеванные командировки. — Вы такие шустрые по сравнению с нашими компетентными товарищами... По крайней мере, я вас выдавать не собираюсь.
Я спустился к машине, плюхнулся на переднее сиденье и заорал:
— Вперед и как можно быстрее! Нас уже ищут. Эти пленки нам терять нельзя. Им цены нет!
Олег рванул с места и меланхолично заметил:
— Нам тоже...
— Что — тоже?
— Цены уже нет. Любой проходящий по трассе трайлер вильнет хвостом — и мы в кювете. В могилке Катынского леса. Гражданская панихида за счет местного КГБ.
Я все больше и больше восхищался своим новым приятелем. Даже его черный юмор был успокоительно великолепен.
Нас не тронули... Правда, чуть ли на следующий день в моей редакционной комнатухе раздался звонок «боевого» генерала Шиверских. Он нес мне какую-то чушь про доморощенных следопытов (намекал, но не называл фамилию Закирова), которые могут подвести редакцию, сообщая сомнительные факты. Советовал поехать в Австралию, где до сих пор проживает изменник родины, некто Альферчик, который вместе с немцами лично расстреливал польских офицеров. Команди-
[75]
ровка, конечно же, будет оплачена органами. Я легко пообещал ему немедленно отправиться в Австралию, зная при этом, что уже с 1963 года меня не пускают даже в Польшу.
В очередное воскресенье мы с женой, плюнув на все дела и забрав с собой своего шестилетнего сына, поехали в гости. Но, видимо, судьба наша — противница праздной жизни. Мы не пробыли в гостях даже часа, как раздался звонок моей тещи:
— Вас срочно просит позвонить Сахаров.
Я позвонил. Необычным и очень взволнованным голосом он попросил меня срочно приехать, так как к нему явился бывший афганец и утверждает, что он — жертва того самого приказа, по которому уничтожали наших солдат, попавших в плен.
— Уничтожали наши, — уточнил Сахаров.
Мы быстро собрались, поймали такси и приехали на улицу Чкалова.
В квартире, кроме Сахарова, был его шофер Саша, а на кухне сидел высокий худой человек, представившийся мне инвалидом афганской войны.
Я попросил его повторить все то, что он рассказал Сахарову, предупредив заранее о том, что буду перепроверять каждое его слово.
Алексей, так он назвал себя, рассказал об одной операции, в которой его подразделение (он утверждал, что служил в Афганистане прапорщиком) попало в окружение. Тут же появились наши вертолеты и обстреляли тот пятачок в горах, который занимали Алексей и его товарищи. В живых остался он один. Душманы, посчитав его мертвым, ушли куда-то. Его подобрала команда наших санитаров. Алексей потерял зрение, у него был поврежден позвоночник. Когда к нему в госпиталь пришел майор его подразделения, Алексей упрекнул его за бомбежку своих. Тот ответил ему весьма цинично: «Ты что, не знаешь о приказе на реакцию в таких ситуациях? Мы здесь не у тещи на блинах!».
Рассказ афганца звучал путано и малоубедительно. Его «слепые» глаза смотрели осмысленно и настороженно.
Я попросил предъявить документы. Последовало маловероятное объяснение. Вчера он топтался у редакции «Московских новостей» и спрашивал у всех телефон Андрея Сахарова. Кто-то ему его дал. Он пошел звонить и в переходе был задержан патрулем. Его посадили в машину и отвезли в какое-то отделение милиции. У Алексея отобрали документы и поместили в одиночную камеру. Наутро его выпустили, посоветовали отправиться домой, в Караганду, куда потом ему вышлют документы. Совету он не последовал и пришел за помощью к академику.
[76]
Разговор наш прервал водитель Сахарова. Он вызвал меня из кухни и тревожным шепотом сообщил, что вся эта история ему почему-то не нравится. До меня афганец пел соловьем и рассказывал все не так, как плетет сейчас. Я предложил сообщить все наши впечатления Андрею Дмитриевичу и пожалел, что Елена Георгиевна в отъезде. Я был уверен, что при ней бы не появились никакие афганцы.
Мы подошли к Сахарову. Он очень серьезно разговаривал с моим сыном Алексеем, словно с давним и очень хорошим другом, и очень сетовал на то, что никак не может найти для него «Волшебное яйцо». Я описал ситуацию. Андрей Дмитриевич был страшно взволнован. Он ходил от стены к стене, будто человек, заплутавший в собственной квартире.
Мы решили, что я завтра же перепроверю все рассказанное афганцем, а сегодня его следует отправить домой, используя право Сахарова на покупку билетов по брони.
Одевшись, мы спустились на улицу и подошли к машине Сахарова. Было уже довольно поздно, и сын почти засыпал на ходу.
— Андрей Дмитриевич, — сказал я, — помочь еще в чем-то другом я не могу, мы сейчас поймаем такси и поедем домой.
Сахаров возразил:
— Мы вас с Сашей довезем после поездки на вокзал.
Я сказал, что это будет слишком долго, попрощался и пошел ловить такси. Уходя, я мельком заметил двух мужчин, вышедших из-за машины Сахарова, но не придал этому никакого значения.
Я стоял на проезжей части, когда эти двое обошли меня и тоже стали ловить такси. Мы пришли сюда первыми, и у меня был маленький ребенок — я, было, открыл рот, чтобы сказать им об этом, как они вдруг перебежали Садовое кольцо и прыгнули в черную «Волгу», стоявшую на противоположной стороне улицы. Я как-то заторможенно подумал, что, вероятно, там ловить машины легче.
Наконец, такси было поймано, и мы поехали домой. В машине мы с женой обменивались впечатлениями об афганце, а я тревожился, что оставил Сахарова одного. Правда, с ним был верный Саша, который не позволит ему попасть в двусмысленную ситуацию, но не Боннэр, без которой ему всегда неуютно.
Через некоторое время после нашего возращения зазвонил телефон. Это был крайне взволнованньй Сахаров. Оказывается, когда они подъехали к вокзалу Саша вышел посмотреть, хорошо ли он припарковал машину. У заднего колеса валялся паспорт, он поднял его и сказал:
— Смотрите, чьи-то документы!
— Это мои, — сказал афганец.
[77]
— Как вы можете определить, что они ваши. Вы же ничего не видите?
— А чьи же еще, — резко ответил афганец и попытался отнять у Саши паспорт.
Саша не отдал. Он раскрыл его, убедился в схожести фотографии и лица, отметил, что прописка псковская, а не челябинская, как утверждал афганец. В паспорт была вложена справка о том, что Алексей является инвалидом детства.
— Это милиция, — горячо убеждал афганец. — Это они мне там написали всякую ерунду.
Ему не возражали. Поезд уходил буквально через несколько минут. Сахаров купил афганцу билет до Челябинска и проводил до самого купе в поезде.
Вся эта история принимала какой-то отвратительный оборот. Не были случайными и те люди, которые беэ усилий уехали в сторону вокзала на черной «Волге». От Сахарова что-то хотели. Афганца подсунули на шермачка в отсутствие Боннэр. Не получилось — переиграли. Получилось бы — обсмеяли на весь белый свет как выжившего из ума старика, который несет очередную околесицу про войну в Афганистане.
Я предложил Сахарову получше закрыть квартиру и лечь спать. Утром все выясним до конца.
Легко давать советы, трудно их выполнять. Я сам долго не мог заснуть. Перед глазами стоял затравленный Андрей Дмитриевич, который на вопрос моей жены, не голодает ли он без Елены Георгиевны, ответил:
— Нет, не голодаю. Соседи мне купили сосиски. В холодильнике осталось еще две штуки.
Рано утром опять зазвонил телефон. Звонил афганец. Он сообщил мне, что раздумал уезжать и еще раз хочет встретиться со мной. Я предложил ему приехать в редакцию, в которой буду через час.
Никакого афганца я не дождался. Ни в этот день, ни на следующий. Не нашел я его следов ни в Пскове, ни в Челябинске, Ничего о нем не знали ни в Комитете ветеранов, ни в Афганском объединении.
Мы перезванивались с Сахаровым, и он печально повторял:
— Да, это ОНИ. Это ИХ работа. Как все это грубо и неловко... Вернулась Боннэр, и мои тревоги исчезли.
Как оказалось, напрасно. До этого подобная же история произошла в присутствии журналиста Юрия Роста. Но об этом я узнаю только после смерти Сахарова.
[78]
Глава 6
НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
Я хотел бы хоть раз в жизни взглянуть на политические часы Главного. Интересно, есть ли у них секундная стрелка, будильник, календарь...
Поймав меня в коридоре, он сказал почти заговорщицки: «Пора!».
— Что пора?
— Пора писать о Сахарове.
— И, конечно, вчера?
— Конечно.
От охватившей меня внутренней трусости мне хотелось сказать: а что же ты вчера и не попросил? Впрочем, это было бы не только нахальством, но и несправедливостью. О необходимости очерка об академике он говорил мне еще в феврале.
Что писать? Как писать? В голове было пусто. Я позвонил Сахарову и попросил уделить мне час времени. Узнав, для чего, он согласился на встречу весьма неохотно.
Что я знал о нем? Так, кое-какие штрихи биографии, бытовые мелочи. Еще не было его книги «Воспоминания» не было и «Постскриптума» Елены Боннэр. Был быт. Каждодневный, внешне неяркий, скорей снижающий, чем усиливающий впечатление. Были раздумья, сомнения, предвиденья. Всего этого мало было для портрета человека, который как бы возглавлял параллельное правительство. При этом, не желая власти, не раз повторяющего, что политика — дело грязное.
Разговор не вязался. Сахаров отвечал на вопросы сухо, коротко, вероятно, вся эта затея с очерком была для него не то что неприятна, но бесцельна. В какой уже раз меня спасла Елена. Она решительно вмешалась в разговор и придала ему какую-то осмысленность
Они начали весело препираться о дате первой встречи, о той минуте, когда «Андрей положил на нее глаз». О минутах счастья и отчаяния. Сахаров уже забыл, для чего начат разговор: то протестовал против каких-то эпизодов, то соглашался. Особенно охотно говорил о Елене, а значит, невольно, и о себе. Регламент, конечно, полетел к черту и я менял в диктофоне пленку за пленкой. В чем-то вдруг повезло — телефон, который обычно не умолкал, в этот день вел себя вяло, позвякивая лишь изредка.
Надо признаться, что эти пленки я прослушал только сейчас, ког-да пишу эти строки. Вместо сорока минут я ехал домой два часа. Вы-скакивал из вагона метро, писал на обрывках бумаги. Зубрил на ходу
[79]
пришедшие на ум абзацы. Влетев в квартиру, начал сходу строчить не переставая целые страницы.
У жены были гости, но меня долго не трогали, видя мое сумасшедшее состояние. Я вдруг увидел, открыл для себя Сахарова. Не монумент, не живого гения, а человека, который все время был наедине со всеми нами.
Что бы ему не жить, как все? Что бы не смириться, приняв все дарованные диктатурой блага, которые при всем нашем нищенстве все же значительны и по нашим генетическим аппетитам достаточны? И вдруг — плюнуть на все и заговорить вопреки! Я видел в жизни немало сопротивляющихся власти, корыстных и блаженных, немощных и богатырствующих. Одним нужен был покой в суете борьбы, другим борьба, чтобы обрести суетность славы. Сахаров был равнодушен и к тому, и к другому. Жить иначе он бы не сумел, просто не смог. Он легко обогнал своими размышлениями время и жил уже в другом измерении, чем мы.
Сейчас это кажется простым и естественным. Тогда — чуть ли не глупым, нелепым донкихотством.
Завтра мы пылко начнем орать, как любила его страна. Его любил только очень узкий круг людей. Страной он был нелюбим. Именно страной, а не правительством Брежнева или Горбачева. Его не любили коллеги, за то, что он, не как они, гордо, но покорно прогибают спину. Его не любил обыватель: «Умничает, с жиру бесится, пожил бы на сто рублей в месяц — понял бы, что к чему». Его не любила интеллигенция: чистые руки не хочет запачкать, а дерьмо разгребать нам? Его не любил каждый из нас всех, бубнящих на кухне об идиотизме правительства и системы. Мы тешили себя — сопротивление бессмысленно, глупо, смешно. Плетью обуха не перешибешь. А он шел без плети на обух...
Так и жил в нелюбви. Западу он был любопытен, сенсационен, но не очень-то и дорог. Только Рем Янкелевич и Таня Семенова знают, как трудно было порой напечатать то или иное заявление Сахарова, если оно не несло в себе сверхсенсации. Его защищали люди неожиданные, парой противники по взглядам... Но эффективной эту помощь назвать трудно. Ну не убили же, ну не в тюрьму же сунули, а в город Горький. А чем это была не тюрьма? Отличалась она от настоящей только кухней и ванной. А как жить под пристальным взглядом в окно, с сознанием, что к тебе могут ворваться каждую минуту?
И спасли его не мы, а жена — Елена Боннэр, спасла их взаимная и необыкновенная для нашего времени и нашего понимания взаимная любовь. В это и стреляли: клеветой, грязными статейками, яростным антисемитизмом. Порой попадали, и от этого было еще невыносимей...
[80]
Мы все виноваты перед ним, хотя бы уже в том, что человечество в конце ХХ века позволило инквизиции вдоволь поиздеваться над своим гениальным сыном.
Очерк я написал на одном дыхании, потом медленно печатал его, выверяя каждый абзац с появившимся внутренним камертоном.
Выходил к гостям, читал отрывки, возвращался, переделывал заново, если чувствовал, что что-то непонятно другим.
На следующее утро я положил его на стол Главного редактора. Спросив, что это, он отложил его на край, где ждали дела неспешные, а мне протянул письмо из КГБ.
Дело все в том, что после публикации статьи «Тайны Катынского леса», естественно, разразился скандал. Но не в силах «заткнуть рот» «Московским новостям», чекисты решили расправиться с майором Закировым.
Яковлев направил депутатский запрос Председателю КГБ Крючкову, и он поспешил ответить в своем стиле и манере (синтаксис и орфография оригинала сохранены):
«Уважаемый Егор Владимирович!
В связи с обращением к Вам сотрудника Управления КГБ СССР по Смоленской области т. Закирова 0.3. Комитетом госбезопасности СССР тщательно, с выездом на места группы работников центрально-го аппарата КГБ, изучены вопросы, затронутые в его письме в адрес народного депутата СССР.
Проверка заявления т. Закирова 0.3. носила комплексный харак-тер и осуществлялась как по линии рассмотрения упомянутых им служебных аспектов деятельности ряда работников УКГБ СССР по Смоленской области, так и изучения обстановки в этом чекистском коллективе. Особое внимание было уделено выяснению обоснованности жалобы письма на имеющее, по его мнению., место преследование в связи с участием в подготовке материалов для статьи «Тайны Катынского леса» (газета «Московские новости», номер 32 от 6 августа 1989 г.).
Поскольку т. Закиров О. 3. в своем заявлении неоднократно ссылается на эту статью, хотелось бы со всей определенностью разъяснить позицию органов КГБ по одной из самых острых, привлекающих неослабное внимание советской и зарубежной общественности проблем, какой является так называемое катынское дело. Принимая участие в поиске истины, установлении обстоятельств, организаторов и исполнителей этого массового убийства, чекисты рассматривают его как не имеющее срока давности злодеяние, противоречащее всем законам и нормам человеческой морали и нравственности.
[81]
Сотрудниками целого ряда подразделений КГБ СССР и его органов на местах ведется большая и кропотливая работа по поиску архивных документов по данному делу, опросу свидетелей, поиску мест захоронений лиц, подвергнувшихся необоснованным репререссиям. Эта работа осуществляется в тесном контакте с местными советскими и партийными органами, представителями общественности, средствами массовой информации. В этом контексте мы расцениваем публикации в газете «Московские новости», других органах печати как заслуживающие внимания и учитываем их в проводимой работе. Упомянутые в статье «Тайны Катынского леса» заявительские материалы, полученные с помощью т. Закирова О.3. от бывших сотрудников УНКВД Ноздрева И.Л. и Титкова И.И., а также позднее от Бороденкова К.Е., переданы нами для проверки в Прокуратуру Смоленской области. Высказывание сотрудниками критических замечаний, направленных на устранение имеющихся недостатков, в системе КГБ поощряется и широко практикуется, используются различные формы контроля, в том числе и общественного, за их реализацией. Разумеется, не является в этом отношении исключением и УКГБ по Смоленской области. Каких-либо фактов преследования т. Закирова О.3. со стороны руководства УКГБ за критику, тем более попыток «расправиться с ним за Катынь, используя при этом методы 37 года», проверкой не установлено.
В то же время в коллективе Управления т. Закиров 0.3. далеко не с лучшей стороны характеризуется и как член КПСС, и как работник госбезопасности. За систематическое нарушение норм партийной этики и клевету в адрес коммунистов, а также бестактное поведение на партийном собрании коммунисты Управления сочли необходимым вынести ему партийное взыскание. Это, на наш взгляд, не может рассматриваться иначе как сугубо партийное дело, подлежащее рассмотрению в порядке, определенном Уставом КПСС.
В. Крючков»
Это письмо не содержало даже строчки правды, но лгать главе КГБ было так же привычно, как быть уверенным в неприкасаемости своего ведомства. А вот с неприкасаемостью было уже сложнее. Ведь она зиждилась на страхе, а страх медленно, но исчезал.
Здесь уместно вспомнить слова Льва Толстого, сказанные о писателе Леониде Андрееве: «Он пугает, а мне не страшно!»
Крючков пугал изо всех сил, а его уже не боялись... И он уже ничего сделать с этим не мог. В зоне умолчания начался бунт.
Ко мне в редакцию приехала медицинская сестра больницы, где в середине пятидесятых годов умирал от рака главный расстрельщик
[82]
Смоленского НКВД Иван Стельмах. Умирал он тяжело и долго, но не за прежние заслуги его перевели в отдельную палату, а из-за опасения, что его каждодневные покаяния услышат те, кому это не положено слышать. А все равно слышали о тысячах расстрелянных и русских, и поляках, которые являлись к нему во сне и наяву. Тогда еще молоденькая медсестра, назначенная ему в сиделки, чуть сама с ума не сошла от этих исповедей:
— Все говорит, говорит, вроде бы жалеет о содеянном, а сам, гаденыш, рукой своей синюшной мне под халат лезет, словно бы там спасение ищет от своих мук...
Пришли анонимные письма из Белоруссии, от ветеранов НКВД, привлеченных в 1940 году к разгрузке лагерей для польских военнопленных. Смоленские чекисты уже не справлялись с тем «объемом работ» и с теми задачами, которые поставила перед ними партия.
Писали и дети чекистов, которые слышали от своих отцов пьяные разговоры о расстрелах поляков. Уже тогда поразила одна деталь: мальчишки придумали себе игру — пугать своих нетрезвых и обозленных папаш. Вечерами, в темень, они набрасывали на себя простыни, стучались в окна дач в Козьих Горах и кричали: «Прензе, прензе!». Отцы жаловались женам, что поляков не очень глубоко закапывают и их души бродят по ночам в округе.
Не искал таких свидетелей Крючков, а прятал, но обо всех он и сам знать не мог. Генерал Шиверских, получивший за мои приключения выговор, как за потерю бдительности, уже был бессилен перекрыть утекающую информацию.
А между тем мой очерк о Сахарове лежал без движения. Главный молчал, а я его не теребил. Было ясно, что он чего-то выжидает, что он и сам не предполагал от меня такой оперативности. Будильник его политических часов еще не прозвонил.
Кто хоть раз ждал и догонял, может понять мое состояние. В очередной «не мой» день я позвал к себе своего давнего друга, с которым мы умели за рюмкой молчаливо поскулить не в самые лучшие минуты своей жизни.
Где-то уже поздно вечером позвонила Елена и спросила, получилось ли у меня что-либо с очерком. Я сказал, что получилось, но он у Главного, а тот его, видимо, еще не читал.
— Гена, мы завтра уезжаем, хотелось бы посмотреть, что вышло, чтобы не было досадных ошибок.
— Как — завтра? — изумился я, потому что, по моим подсчетам, у меня в запасе была еще целая неделя.
— Так, завтра, мы уже собираемся. Самолет рано утром.
[83]
Я повесил трубку и начал нахально названивать Главному, хотя прекрасно знал, что он раньше всех ложится, но и раньше всех встает.
Его голос по телефону меня не порадовал. Я объяснил ситуацию. На что он неопределенно буркнул: «Хорошо, я перезвоню».
Это могло означать все что угодно.
Мой друг сочувственно молчал.
Прошло что-то около часа, когда зазвонил телефон:
— Я тебя знаю почти два года, но оказывается, не знал. По-моему, получилось, и получилось очень хорошо.
Я расцвел и расслабился. Друг, не слыша голоса Главного, безошибочно просчитал ситуацию.
А Главный буквально мурлыкал в трубку:
— Не хватает сущей малости — чем академик занят сейчас в научном плане.
— Ну, как же теперь это узнаешь, — позволил я себе раньше времени поторжествовать победу. — Они завтра уже будут в Пицунде.
— Это твое дело! — рявкнул главный. — И позвони фотокору Кауф-ману, чтобы он завтра же отснял Сахарова.
— Когда? — изумился я.
— Вчера! — ехидно пояснил главный и повесил трубку.
Я очумело соображал. Что же делать?
Позвонил Кауфману Тот гулял с собакой. Я предупредил его жену, чтобы Боренька не ложился спать, ибо через какое-то время он получит срочное задание Главного. Потом позвонил Сахарову и сказал, что скоро приеду с очерком.
— Поехали?! — предложил я товарищу. Он сидел красный, боясь даже намекнуть о своем желании.
Мы поймали такси и скоро были на Чкалова.
В квартире была предотпускная суета. С места на место перекидывались вещи, что-то, конечно же, пропадало и вдруг появлялось вновь.
Сахаров взял текст и ушел читать его в одиночестве.
Вернувшись, отдал мне очерк. Поправки были минимальными. Я передал листочки Елене, а академика попросил уделить мне еще несколько минут.
Мы ушли на кухню, и я включил диктофон.
Спросил, чем он сейчас занимается в науке. Он скептически усмехнулся и сказал, что практически ничем. Все важные открытия совершаются до тридцати лет. А дальше наступает период безделья и несостоятельности.
Я знал, что это неправда: к нему постоянно обращались за консультациями, несли какие-то рукописи, которые он добросовестно ана-
[84]
лизировал. Приходилось обращаться и мне. У нас в газете по моему отделу когда-то прошел очерк о непризнанном гении, который в своей домашней лаборатории почти подошел к разгадке СПИДа. Было много шума, восторгов, протестов, Мы попытались свести гения с президентом Всемирной ассоциации. Но он в последний день увильнул, сославшись на нездоровье. Было не совсем ясно, действительно ли он опасается, что его открытие украдут, или боится разоблачения.
Я принес тогда статью о гении Сахарову и попросил его дать ей оценку. Он не просто читал ее, он что-то высчитывал, шептался сам с собой, что-то записывал. Потом сказал печально, что, скорее всего, это самозаблуждение, хотя основные формулы гений и не выдает, держит в строжайшем секрете.
И после этого А.Д. говорил, что он уже не способен заниматься наукой, когда мировые светила обращались к нему с трепетом, со страхом и надеждой! Но я не стал спорить и пошел к Елене.
Она уже прочитала очерк, сказала, что хорошо, и тоже отметила маленькие неточности. Я начал говорить о завтрашней фотосъемке. Она замахала руками и сказала, что я сошел с ума, чтобы мы взяли фотографии из книги, изданной на Западе, и этим ограничились. Я настаивал. Она вдруг согласилась на пятнадцать минут и строго отмерила этот отрезок времени.
Я тут же позвонил Кауфману. Он, конечно, не спал. Обрисовав ситуацию, я предупредил его, чтобы он не проявлял излишнего рвения фотохудожника, а ограничился отпущенными ему минутами. Он вроде бы понял.
Я вернулся на кухню и замер от ужаса. Освоившийся без меня товарищ интервьюировал академика, нажав на кнопку стирания записи. Видит бог, я готов был его в этот момент убить к чертовой бабушке. Но, слава богу, моя запись была цела, он стирал свое собственное интервью.
На следующий день первым, кого я увидел в редакции, был Кауфман. У него был весьма потрепанный вид, словно после оперативного допроса в ближайшем отделении милиции. Он мне начал жалобно рассказывать, как его встретила и проводила Елена, что он услышал про себя, про свою профессию и нашу газету. Конечно же, он не уместился в отпущенные ему пятнадцать минут и был подвергнут жесточайшему остракизму со стороны Елены.
Я злорадно хохотал и говорил: «Представляешь, как доставалось от нее КГБ?!»
Потом я не раз удивлялся, почему мне так мало достается от взрывчатой Е.Г., т.е. практически не доставалось вообще.
[85]
На девять дней памяти Сахарова она печально скажет:
— Все журналисты — жулики. Только вот ты не жулик.
Это был незаслуженный комплемент. Я тоже был жуликом. Без жуликоватости в нашей профессии прожить невозможно.
Приключение с очерком на этом не закончилось. Главный тоже улизнул в двухнедельный отпуск и, конечно же, оставил газету на своего зама Ю. Б. Тот, то ли выполняя чьи-то указания, то ли, поря отсебятину (что вряд ли), упорно сокращал все куски про Боннэр. Я с не меньшим упорством восстанавливал их. Мне слишком хорошо помнится случайно услышанный крик Сахарова по телефону: «Да поймите вы, наконец, что если бы не она, я бы повесился в Горьком».
Наконец, я взъерепенился и тоже заорал на Ю.Б., что снимаю очерк к чертовой матери, что в таком кастрированном виде он никому не нужен. То ли подействовала моя истерика, то ли что-то изменилось на самом верху, а может, и сам Ю.Б. понял всю глупость конфликта, но от меня отстали. И очерк о Сахарове вышел в свет.
В июне главному пришла в голову идея сделать в газете разворот по экономике в виде беседы Сахарова с Юрием Карякиным. Сахаров и Боннэр жили в это время в Протвино, в Академическом городке за Серпуховым. Мне они оставили адрес своего коттеджа, где телефона не было. Мы взяли редакционную машину и поехали с Карякиным на авось. Я, конечно, читал книги Юры, но самого его никогда не знал. Буквально через час езды мы уже тыкали друг другу и, как старые добрые знакомые, рассказывали о своих перипетиях. Корякин был родом из шестидесятнихов, пострадавших при Брежневе. Его попытались вымести из партии, и только взаимная нелюбовь друг к другу председателя КПК Пельше и секретаря Московского горкома партии помешала экзекуции. В Серпухове Карякин остановил машину и купил для Елены огромный букет цветов. Вот что значит их поколение — богатыри не мы! А уже в Протвино мы встретились с подъехавшими туда Карпинским, Афанасьевым и Баткиным.
Коттедж был действительно шикарным, а потому как замызганный «жигуленок» академика стоял рядом, была надежда застать хозяев на месте.
Дверь оказалась открытой, я вошел и окликнул, есть ли кто.
— Есть, есть, — отозвалась Елена; — А ты с кем, Гена?
Я перечислил гостей.
Со второго этажа спустился Сахаров.
Идея большого диалога об экологии у аккдемика энтузиазма не вызвала. Он отнекивался и твердил, что мало занимался этим вопросом. Наконец, все же решился попробовать. Я включил диктофон и ушел
[86]
на кухню помогать Елене. К разговору Карякина и Сахарова я все же прислушивался. Диалога не получалось. Юра больше говорил сам, чем давал говорить акдемику. Он все время пытался доказать, что в мире уже Все перевернулось, что опасность номер один — не ядерная угроза, а экологическая. А.Д. вяло кивая, но на перестановку опасностей местами не соглашался.
Елена подала чай и бутерброды, сказав, что бог больше сюда ничего не послал. В магазинах пусто, так что Они питаются здесь, как настоящие монахи.
Опять заговорили об экологии. Тут уж вмешалась Елена и, как истовый политик, заявила: на кой черт все духовные ценности, если завтра мы, потравив себя, будем плодить сплошных уродов!
-Юра морщился, досадуя на вмешательство «постороннего». И напрасно: с этой минуты разговор оживился.
Я давно подметил, что спор с Еленой (вероятно, особенно после горьковской ссылки) А.Д. не только приятен, но и необходим. Он его буквально взбадривает, заставляет фантазировать, выдвигать самые невероятные гипотезы.
Юра зло облаял атомные станции, Сахаров защитил их, сказав, что пока альтернативы им нет. Но строить их нужно вдали от крупных городов и под землей, Он вспомнил свой давний спор с Бельем, который был полностью на стороне «зеленых», требующих запрета на атомную энергию. Что у нас тоже очень скоро вспыхнет движение «зеленых» и эта организация станет самой крупной, определяющей и корректирующей многие стороны нашей жизни. А весь мир будет платить Бразилии огромные деньги за то, чтобы они не вырубали свои леса — «легкие» всей планеты.
— И мы будем платить? — поинтересовался я. — Мы, нищие из нищих?
— Мы очень богаты, — возразил А.Д., — просто мы безалаберны. Все транжирим, все разбазариваем. Так и будет, до тех пор пока все ничье.
Вдруг заговорили о Горбачеве, об устойчивости его положения. Сахаров вспомнил о прецеденте переговоров большой четверки в 60-м году, после перехвата самолета Пауэрса У-2. Я прервал и начал уточнять, как жали на Хрущева военные, а потом дожал Мао Цзэдун. Буквально на аэродром явился посол Китая и вручил Хрущеву письмо Великого Кормчего, который грозил развалить мировое коммунистическое движение в случае, если большая шестерка придет к соглашению. То, что не доделали военные, доделал Мао. Переговоры были сорваны. У-2 был только поводом. До сих пор мало кто знает, что до Пауэрса над Союзом пролетело целых три У-2, успешно проведя аэросъемку.
[87]
Чувствовалось, что военные и сейчас жали на Горбачева, но у него в «кармане» был аргумент с прилетом немца на Красную площадь.
А.Д. высказал мысль о том, что Горбачев — личность самообучающаяся. Он заметно вырос за последнее время, и явственно ощущается большая потенция для принятия более глобального мышления.
Я давно уже выключил диктофон, потому что разговор пошел по совершенно другому руслу. Мы строили прогнозы, и удивительно было потом, как осуществлялись сахаровские модели.
Речь зашла об опасной заполитизированности общества с державным мышлением, от которого трудно будет быстро избавиться.
Я возложил надежды на самое младшее поколение и рассказал, как однажды мой пятилетний сын пришел после ленинских уроков в детском саду и спросил мою жену:
— Мама, а ты знаешь, кто убил Ленина?
— Нет.
— Какая-то Лапландка.
— Мне кажется, Алеша, что Каплан не убила его.
— Что? Три раза стреляла и ни разу не попала?! Пойду папу спрошу...
И еще. На тестировании по общению на вопрос о том, кто его друзья, он гордо заявил: «Мои друзья — все самые честные люди страны — Сахаров, Ролан Быков, тетя Лена Боннэр...
— А дедушка Ленин? — напомнила сыну встревоженная проверяющая.
— Тетя, ну как же можно с мертвым дружить?
Мы горько посмеялись, что сопротивляемость нового поколения политическим легендам и штампам гораздо сильнее, чем у старшего поколения,
Сахаров вспомнил, что он в день похорон Сталина написал в дневнике скорбные строки о кончине вождя.
Причиной приезда Афанасьева, Баткина и Карпинского была идея создания в Москве клуба интеллигенции (позже его назовут Свободной московской трибуной). Идея была соблазнительной. Расчлененная, разведенная по своим углам интеллигенция в неком свободном союзе могла бы представлять ощутимую силу.
Детали уточняли Афанасьев и Баткин. Карпинский (как он себя называл, «бывший функционер») корректировал формулировки. Зачитали проект манифеста, в котором определялась программа, задачи и цели. Сахаров твердо настаивал на том, чтобы это объединение не было просто критикующим действия правительства, а союзом умов, предоставляющим властям параллельные, более эффективные, решения каких-то вопросов.
[88]
Афанасьев заметил, что мимо дома слишком часто стали курсировать «Волги» с антеннами для радиотелефонов, и предложил закрыть окна. Сахаров, усмехаясь, заметил, что для сегодняшней техники закрытые окна не являются препятствием.
Начали составлять список ста интеллигентов, которые, войдя в клуб, могли бы привнести в него свежие идеи, неординарные решения насущных проблем.
Формирование участников клуба шло со скрипом. Оказалось, что девятимиллионная Москва обеднела на знаменитости, на яркие имена. И это при том, что согласия от вносимых в список еще не было получено. «Женили» их без них. Не было никакой гарантии, что кто-либо из теоретически принятых в клуб не испугается или просто не пожелает тратить на это свое время, которое, как известно, — деньги.
Начали набрасывать круг вопросов, требующих неотложного вмешательства, мозговой атаки: Карабах, выборы в Верховный Совет, возникающие массовые неформальные движения, проблемы многопартийности.
Все согласились с Сахаровым, что необходимо создать компетентные экспертные комиссии, которые были бы способны давать объективные и квалифицированные оценки той или иной возникающей ситуации.
Например, проблема крымских татар. Власти продолжают препятствовать въезду их в Крым, ссылаясь на перенаселенность полуострова. И в то же время ведут набор тысяч и тысяч рабочих для строительства там канала, создавая тем самым новые поводы для внутринациональной напряженности.
Давно я не испытывал такой эйфории. Было чувство какой-то сопричастности к чему-то очень важному, невероятно нужному стране.
Мы все были одинокими собаками, которых можно было прибить поодиночке. Затравленная, запуганная интеллигенция поднималась из унизительной и привычной позы — положения, стоя на коленях. Рождалось уважение к себе, рождались новые вожди, способные заменить одряхлевших и пустоголовых импотентов — старых лидеров. Афанасьев и Баткин были златоусты, по театральному эффектны. Сам бог велел быть им любимцами митингов. Карпинский был мудр, как сова. Человек, прошедший все ступени высшей конъюнктуры, сын старого большевика, друга Ленина, умница, «золотое перо», человек удивительной совестливости. Вышибленный в старые времена за сопротивление идиотизму, он предпочел уйти в российский загул, чем угодничать перед теми, кого презирал.
И Сахаров, конечно же, мог стать символом единства для самых
[89]
разных, самых непохожих друг на друга интеллигентов. Мировая величина, чей тихий голос был теперь слышней, чем чей-либо.
Потом эйфория прошла, что-то насторожило меня, встревожило. Пожалуй, тогда я и сам бы не мог сказать, что вызвало во мне обратную реакцию.
Близился полдень, и Елена попросила меня помочь ей на кухне. Что-то делая, я бессознательно произнес «Тайная вечеря». Скорее это была раздражительная реакция на голоса из комнаты.
— А кто же Иуда?
— Любой, кроме А.Д.!
Елена удивленно промолчала. Видимо, она не ожидала от меня подобной резкости.
Конечно, оценка моя была не совсем справедлива, вернее, совсем несправедлива. Иуд среди собравшихся не было. Свое раздражение я расшифровал намного позже, когда «Московская трибуна» уже превратилась в Межрегиональную группу. Ее участники тоже претерпят эйфорический всплеск и неуклонное угасание энергии.
Интеллигенция, в который раз в нашей стране, окажется не способной к объединению, к конструктивному диалогу с правительством. Все утонет в словах, в вихрях критики, отрицания всего и всех. В жажде самовыражения, а не самопожертвования. Попытки спасти «трибуну», предпринимаемые Сахаровым и Карпинским, окажутся безрезультатными.
Больше других уже тогда, в Протвино, мучился Лен Карпинский, видя, как рождаемая идея уже идет в разнос.
И все же определенную положительную роль «Трибуна» сыграла в жизни страны. Выдвинулись новые лидеры, которые потом станут народными депутатами, родится, хоть и хиленький, прообраз оппозиции. На основе той маленькой группки, съехавшейся в Протвино, родится межрегиональная группа. Объединение более мощное и решительное, хотя и повторившее, к сожалению, многие и многие ошибки первого союза интеллигенции.
Вот ее-то испугаются всерьез как силу, противостоящую сталинско-брежневскому большинству.
А пока были только Протвино, лето и будущая неизвестность.
[90]
Глава 7
КОНЧИНА
Правильно заметил когда-то Мандельштам, что русские подбегают к телефону, как на призыв тяжело больного человека.
Но от этого раннего телефонного звонка я даже не вздрогнул. Не спеша подошел к аппарату, неторопливо снял трубку.
Звонил давний знакомый:
— Слышал? Сахаров умер. — Ты сошел с ума! Откуда узнал?
— Только что об этом сообщили «вражьи голоса»...
Я бросил трубку и набрал номер квартиры Сахарова. Долго никто не подходил, и я начал успокаиваться — ни академик, ни его жена не любили ранних звонков, а было начало девятого утра. Потом кто-то снял трубку. Я попросил позвать Боннэр.
— Она не может сейчас подойти.
— Скажите, а это правда?... Ну, то, что сообщили «голоса»?
— Правда...
Я ринулся на квартиру академика. Толчея начиналась еще с лестничной площадки. По некоторым лицам было ясно, что многие из присутствующих совсем не спали в эту ночь. От подруги Боннэр Галины я узнал, как это случилось.
Компании, которая в то время собралась на Чкалова, сказал: «Пойду отдохну, завтра трудный день. Будет бой!».
Он решил спуститься в кабинет, находящийся этажом ниже, и час отдохнуть, чтобы потом поработать над своим выступлением.
Вернулся, увидев очистки картофеля на хозяйственном столе. Собрал их в полиэтиленовый пакетик (Елена всегда выбрасывала их в мусоропровод) и отнес их в ведро, предназначенное для отходов овощей и фруктов, то есть для дальнейшей переработки на корм скоту. Вошел в кабинет-квартиру, потянулся к полочке стенного шкафа и... рухнул на пол. Здесь его и нашла жена, обеспокоенная долгим отсутствием мужа.
Еще до приезда машины скорой помощи Сахарову пытались делать массаж сердца. Потом при вскрытии обнаружат сильный отек легких — все пытались сделать, чтобы спасти, но все было напрасно.
У него был врожденный порок сердца, он мог умереть и в пять лет. Эту аномалию в его организме обнаружили американские врачи и предложили операцию. Академик отказался. Операцию заменили химиотерапией. Он недолго пил эти таблетки. Сказал: «горькие очень» — и выбросил куда-то.
[91]
Никто ничего не говорил вслух. Но уверен, что многие думали: Сахарова убили. Убили мы все. И те кто когда-то сослал его в Горький, и те кто промолчал, не протестуя против высылки, и те кто неистовствовал в зале заседаний первого съезда Советов.
Я поехал в редакцию. Ко мне бросились узнавать подробности смерти. Мне было не до подробностей, казалось, что я умер сам...
Вызвал Главный, рассказал о реакции на съезде, о паническом и растерянном состоянии в верхних эшелонах власти: как хоронить и где? К Елене приехал тогдашний спикер Верхней палаты с официальным предложением. Боннэр не пожелала хоронить на помпезных кладбищах. Сказала, что после смерти Руфи (ее матери) они сами выбрали себе место рядом. Просила только об одном: чтобы во время прощания не случилось бы давки, подобной той, какая произошла при смерти Сталина,
Спикер удивился:
— Сколько же, вы думаете, будет народу?
— А вы как считаете?
— Ну, тысяч сорок.
— Столько придут вас хоронить. А проститься с Андреем придет вся Москва! Я требую, чтобы милиция приняла соответствующие меры и чтобы не произошло ни одного несчастного случая.
Главный рассказал, что Лукьянов (тогдашний заместитель Горбачева по председательству в Верховном Совете) категорически отверг возможность прощания в Доме Советов. Не по чину.
Горбачев дал интервью Егору Яковлеву и согласился с его предложением выпустить в виде некролога специальный номер «Московских новостей». Эту летучую редакцию должен был возглавить я. Газета должна была выйти завтра, а мне предстояло еще написать центральную статью «Каким был он, какими будем мы».
Я долго не уезжал домой, заглянул на квартиру Гинзбурга (брата Галича). Там тоже был траур, отмечали очередную годовщину смерти друга Сахарова Александра Галича.
В жутком настроении я вернулся домой. Предстояло к утру написать шесть страниц некролога.
Не писалось. И не могло писаться. Рухнуло что-то очень главное из основ нашего только что зарождающегося нового общества.
Разгибались мы, от немоты избавлялись даже таинственные бойцы верного отряда партии КГБ. Свой шаг к тайнам катынского леса майор Закиров сделал только потому, что на свете где-то рядом был Сахаров. Что же теперь?
Словно услышав меня, из Смоленска позвонил Закиров. Он был в смятении. Что же будет дальше?
[92]
— А дальше будет, как и прежде, — сказал я и сел писать.
Статью я написал на одном дыхании, к утру. И поехал в редакцию.
Там стояла тихая суета. То и дело приходили люди, близкие к Сахарову, любившие его. Нам не было надобности искать их, они шли к нам сами и сходу надиктовывали слова прощания.
Егор Яковлев попросил связаться с Солженицыным. Тот не дождется связи в редакции, и звонок из Америки настигнет его уже в театре. Светлова, жена Александра Исаевича, скажет, что телеграмма уже послана, но, видимо, где-то «затерялась», и заново надиктует текст: «Скорблю вместе со всеми».
Потом «затеряются» многие подлинники прощания, и специальный выпуск «МН» станет единственным документом, подтверждающим их слова.
Летучая редколлегия выедет в издательство АПН для фотонабора, а потом в типографию «Московская правда» Рабочие приостановят тиражирование вечерних и утренних газет и пропустят наш выпуск вперед.
Я, как не свою, еще и еще раз перечитывал собственную заметку, «Каким он был, какими будем мы...».
В эту дверь квартиры Андрея Сахарова на улице Чкалова мне редко приходилось звонить. Как правило, она была приоткрытой или в лучшем случае прищемленной вшестеро сложенной газетой. И вешалка в узком коридоре почти никогда не была пуста. На ней рядом с роскошным пальто какого-нибудь дипломата вполне могла соседствовать видавшая виды телогрейка.
По тому, куда уползала черная змейка шнура, можно было определить, где в настоящее время находится академик, — в комнате или на кухне.
После возращения из Горького Сахарову предложили великолепную квартиру в академическом доме, соответствующую его званию и заслугам. Он поначалу чуть не согласился, но, посоветовавшись с женой, отказался, не захотел ничему соответствовать. Остался в тесноватой двух-комнатной квартире своей тещи Руфи Боннэр, откуда был ранее сослан в Горький. Попросил только рабочий кабинет этажом ниже.
Сколько раз я видел, как пришедших сюда впервые поначалу просто ошарашивали и обстановка, и слишком простоватая одежда академика. Не «потемкинская» ли это «деревня», не нарочито ли избранная роль бессеребренника? А вещи ничего не значили для него. Казалось, что он их вообще не замечал. В доме не было ни хрусталя, ни ковров, ни роскошной посуды для дипломатических приемов. Все эти приемы происходили на кухне, где отставшая от стены кафельная плитка не падала на пол лишь только потому, что крепилась лентой лейкопластыря.
[93]
Стоптанные домашние тапочки, застиранные джинсы, ковбойка, вышедшая из моды еще в 50-е годы, вязаная кофта, наброшенная на одно плечо, — все это мало соответствовало принятому дипломатическому этикету. Зато были глаза, в которых соседствовали и настороженность, и пытливость, и внимание к тебе.
Для гостей — кофе, для себя — чай. Вообще на обеденном столе этого дома никогда не было ничего того, что нельзя было найти в обычных московских магазинах или на рынке, куда он любил ходить сам. Поразительно, но ему нравилось делать то, что нас обычно страшно раздражает: мыть посуду, полы, стоять в очередях, как все. И это не было позой, потому что все это он делал с неистовой добросовестностью. По словам Елены Боннэр, «у него был главный талант — сделать все до конца». Единственная роскошь, которую Сахаров позволял себе, — это разогревать все, что обычно едят в холодном виде, даже винегрет и селедку.
Его дом был для него всем, но только не крепостью... Он любил его во всей идеальной чистоте и хаосе книг, рукописей, писем. Только здесь он чувствовал себя защищенным (это-то при распахнутых вечно дверях) от обмана, угроз, чей-то нелюбви. Переступив порог, он успокаивался, делался веселее, позволял шутить над собой, шутил сам...
Я знаю случай, когда одному очень независимому человеку позвонило очень ответственное лицо. Услышав в трубке начальственный голос, человек встал со стула. Во время разговора он несколько раз пытался сесть, но так и не смог сделать этого. Сахаров одинаково разговаривал по телефону и с премьер-министрами, и с работниками жэка. Точно так же он разговаривал с шестилетним мальчиком, пришедшим в гости, совершенно серьезно огорчаясь, что без помощи жены не мо-жет найти «волшебное яйцо», предназначенное ему в подарок.
Мало кто еще знает, что роман Гроссмана «Жизнь и судьба» спасен именно в этом доме. Прочитав рукопись, Сахаров, Елена, Руфь Боннэр и Твердохлебов три дня переснимали ее на пленку, опасаясь за ее судьбу. Даже в этом он был провидцем.
В смятении в собственном доме я видел его лишь однажды: когда в разгар предвыборной кампании сторонние гости нечаянно разбили телефонный аппарат. Конечно, ему не было жалко клееного-переклеенного аппарата. Дело было в другом — его, как когда-то и в Горьком, лишили связи с миром. Кто-то звонил ему, кому-то он был нужен, что-то в это время случилось, а телефон молчал....
Я, как и многие другие, был напуган инцидентом на первом съезде народных депутатов, когда речь Сахарова заглушалась выкриками и грубыми протестами. Я бросился к нему домой узнать, как он пережил этот кошмар. Внешне Сахаров был спокоен и весел. И на вопрос от-
[94]
ветил, пожав плечами: «Когда я говорю, то думаю и ничего не слышу другого». Я до сих пор плохо верю в это. Он, как никто другой, умел слушать своих оппонентов — чуть подавшись вперед к собеседнику, почти повернувшись к нему в профиль.
Он мог бы еще жить и жить. В декабре его пригласили в ФРГ на празднование юбилея социал-демократической партии. Он наотрез отказался: «Какой там праздник, у нас же съезд». Он не желал выезжать куда-то, не достроив наш дом,
Своих гостей, несмотря на протесты, Сахаров неизменно провожал до самого лифта. Теперь нам предстоит провожать его самого. Он уже никогда не поднимется на седьмой этаж своего дома. Но никто не помешает нам мысленно подняться туда, войти в квартиру, поклониться ему и поклясться ему достроить тот дом, фундамент которого он заложил раньше всех нас.
Я позвонил Боннэр:
— Мы выпустили специальный номер газеты. Сейчас привезти или утром?
— Гена, конечно, сейчас.
Редакционных машин не было, такси поймать не удалось, и я повез толстенную пачку на метро. В пути она заметно «похудела», так как пассажиры вагона слезно выклянчивали хоть один номерочек.
Дверь в квартиру была открыта, но к ней я протиснулся через толпу на улице, возлагавшей к дому цветы и зажигающей свечи, не пустовала и лестница до седьмого этажа.
Я отдал Елене газеты и подумал, что не мешало бы выставить милицейский пост. Позвонил милицейскому начальству. Мне отвечали по-разному. Что нет людей, нет команды и, вообще, нет надобности. Пришлось заорать, что все их ответы я записал на магнитофон и, если что-то случится, то я расскажу об этом всему миру, Что стыдно прощаться так с человеком, который своим изобретением сохранил на земном шаре, хоть и шаткое, но равновесие.
Это ли подействовало или команда, наконец, поступила, пост все-таки выставили, и действительно, ничего не случилось.
Я просидел до полуночи и тихо ушел, а в квартиру все приходили и приходили все новые люди. А на завтра были назначены проводы.
Утром позвонили наши давние добрые знакомые и спросили, каким образом мы будем прощаться с Сахаровым.
Я ответил: «Как все!».
Мы договорились встретиться в метро и пройти этот скорбный путь вместе со всеми, «без блата».
От метро «Парк культуры» шла дорожка, оцепленная милицией. Но это еще была не очередь к Дому молодежи, где стоял открытый для
[95]
прощания гроб с телом Сахарова. До конца мы добирались почти час. Стоял жуткий холод, и было уже понятно, что нам предстояло пережить, одетым по-московски не слишком тепло, с цветами, замерзшими уже в первые минуты. Люди кутались в воротники, переминались с ноги на ногу, делали пробежки, а желающие проститься все шли и шли к концу очереди, которая уже была где-то около метро «Спортивная». Время от времени вспыхивала паника, что в отведенное время, до шестнадцати часов, все пройти не успеют (а это было ясно с самого начала) и мы стоим напрасно. С возмущением задевали милиционеров, видя в них главных виновников плохой организации прощания. И только тогда, когда через много часов мы повернули, наконец, на Комсомольский проспект, вдоль очереди побежали милиционеры с мегафонами, что прощание продлится ровно столько, сколько нужно, люди успокоились.
Потом я узнаю, что доступ к гробу все же попытались ограничить, но Елена пригрозила, что вынесет гроб на улицу, но не позволит, чтобы народ не смог исполнить своего желания.
Перед самым Домом молодежи мы уже были синими от холода, и я позволил себе проворчать: «А я-то с вами зачем мучаюсь?».
Молодая пара, шедшая рядом с нами от самого начала, строго заметила: «Ради такого можно и помучаться!».
Мне стало стыдно. Я должен был пройти этот народный путь прощания со всеми — от и до. Выслушать все, что говорили рядом со мной те, кто не знал его лично, кто видел его только по телевизионным трансляциям, а теперь захотели увидеть в последний раз,
А на завтра уже были похороны. Необычно долгие, потому что про-щание еще не закончилось.
Сначала тело было выставлено у здания Президиума АПН СССР. Туда же должно было прибыть и Политбюро в полном составе.
Из дома выехали вовремя, и каково же было мое удивление, когда от улицы, почти соседствующей с Президиумом, машины сопровождения с синими мигалками «увели» нас в сторону. Потом мы еще долго разъезжали по Садовому кольцу, петляли по улицам и улицам.
Я спросил у водителя: «Вы что, дороги не знаете».
— Я-то знаю, но куда меня «везут», туда я и еду.
Нет, это не милиция «плутала» по городу. Это «плутало» Политбюро, не сумев вовремя прибыть к месту ими же назначенного прощания. Они, а не автобус с телом Сахарова, должны были оказаться первыми на месте события.
К Елене подошел Горбачев и выразил свои соболезнования: «Вот пройдут эти дни, и подумаем, как увековечить его памятью.
[96]
— А не надо ничего придумывать... Не надо никаких ваших увековечений, зарегистрируйте «Мемориал» — это и будет увековечивание.
Медведев тоже получил отповедь за то, что до сих пор не зарегистрировал «Мемориал»:
— Вы думаете, если Сахаров умер, то и «Мемориал» перестанет существовать? Я сама его возглавлю, и тогда только попробуйте его не зарегистрировать!
Не досталось лишь почти плачущему Рыжкову...
Официального прощания не получилось. Все ждали, что в этот день будет объявлен всенародный траур. Но это властям показалось чрезмерной почестью.
Гроб из Президиума АН перевезут в ФИАН, где до ссылки в Горький и во время ее на одной из дверей висела табличка «Андрей Сахаров». Здесь все было искренней и горше. Прощались с человеком, прощались с эпохой.
Гроб хотели нести на руках до самых «Лужников», где ожидался большой митинг, куда должны были приехать депутаты съезда. Но из-за гололедицы решили везти его на специальной машине перед толпой провожающих.
Я ехал в машине с телом академика и мучительно пытался прикинуть, сколько же людей простились с ним вчера... Речь, конечно же, шла не о тысячах, как предполагал Примаков, а о миллионах. А сколько же еще людей хотели сделать это и не смогли? Отвлекая от трагедии, хитря, власти вдруг открыли в то воскресенье все магазины. Но и это не помогло. Без Сахарова тогда, мы были все же с Сахаровым, который жил во многих из нас...
Идущие за машиной несли транспаранты: «Сахаров — прости нас», «Его убили мы», «Долой партократию», «Андрей Дмитриевич, как нам жить дальше?!»
Флаги разных партий, разные лица, но такого единства Москва еще не видела.
Где-то у Лужниковского моста во главе колонны (первым в ней шел внук Е.Г.Мотя) встал Борис Ельцин. Он шел без шапки, низко опустив голову. Елена сняла с себя ушанку (которую, кстати, носили и она, и академик) и передала ее через дочь Таню. Тот вернул ее обратно...
Автобус с телом академика медленно въехал на площадь перед стадионом. Вдруг я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Через окно на меня с изумлением смотрела та молодая чета, с которой мы вчера прошли почти от метро Спортивная до дома Молодежи... Теперь я сидел в машине рядом с родственниками академика. Кто же я? А действительно, кто?
[97]
Гроб вынесли из автобуса, но пронести его к трибуне не было никакой возможности — задние ряды теснили передние и, несмотря на призывы милиции, не давали возможности образовать хоть узенький коридорчик.
Боннэр выхватила у милиционера мегафон и хриплым голосом, в котором было больше мольбы, чем просьбы, крикнула:
— Я прошу вас расступиться. Ради Сахарова не повторите того, что было при похоронах Сталина.
Толпа колыхнулась и попыталась расступиться. Задние ряды вдруг застонали и опять потеснили передние.
Это был самый страшный момент в период прощания с Сахаровым. Еще какие-то минуты, и волны людских тел могли образовать девятый вал, который бы снес все: гроб, автобус, провожающих, самих себя...
И опять над площадью, теперь уже грозно, прозвучал голос Боннэр:
— Люди! Люди ли вы?! Посмотрите на плакаты, с которыми вы сюда пришли! «Прости нас, Сахаров!». Где же ваша совесть и покаяние?
Тишина вдруг воцарилась оцепеняющяя. Потом сантиметр за сантиметром стал образовываться коридорчик, по которому мы прошли к трибуне. Как потом выяснилось, виной всему оказались организаторы проводов. Солдатские цепи, вытянутые вдоль площади для предотвращения возможной беды, чуть было эту беду и не накликали... Это они не давали образовать коридор, это о них «разбивались» человеческие «ручейки», образовывая человеческие волны.
Так или иначе, площадь успокоилась, и на трибуну стали выходить депутаты: Попов, Евтушенко, академик Лихачев.
Речь Лихачева, чуть ли не самая короткая, стала, на мой взгляд, самой точной и впечатляющей. Он назвал Сахарова пророком, не понятым в своей стране, а потому и распятым.
В толпе с недоумением перешептывались: почему не открыт гроб? Вопрос, как радиоволна, уходил вперед и возвращался ответом: «Не разрешили!».
Не разрешили... Кто, почему? Даже после кончины Сахарову что-то не разрешали. Еще недавно с этой лужниковской трибуны, не спрашивая ничьего разрешения, он защищал Ельцина, защищал народ от партократии, от самого народа. Видимо, уже первый день прощания поверг кого-то в ужас, заставил предположить, что эта безоружная армия прощающихся с Сахаровым может снести их!
Это был напрасный страх. Толпа была печальна, но неагрессивна. Люди скорбели, а не жаждали чей-то крови. Если и раздавались (очень изредка) резкие, как выстрелы, выкрики: «Убийцы», — то их тут же «глушили» мрачными взглядами.
[98]
Не дождавшись окончания митинга, гроб внесли в машину. Боннэр через микрофон попросила собравшихся не ехать и не идти на кладбище, так как оно не приспособлено для такого количества людей.
Смеркалось. Траурная процессия двинулась к Востряковскому кладбищу. На обочинах улиц, на тротуарах люди замирали, падали на колени, крестились. Военные отдавали честь.
При подъезде к самому кладбищу, на крохотной площади возле его, меня поразило огромное столпотворение милиции, венков, неисчислимое количество цветов.
Открыли гроб для прощания близких, Оно было коротким, каким-то по-солдатски суровым. Гроб закрыли и понесли к могиле. Дорожки были предусмотрительно завалены еловыми ветками. Это позволяло преодолевать гололед, но время от времени кто-то все же скользил, и процессия мгновенно замирала.
Рядом с могилой Руфи Боннэр была вырыта еще одна — под соснами, на которых неимоверным образом примостились фотокоры и кинооператоры. Северными сполохами вспыхивали подсветки, трещали камеры.
Гроб опустили в могилу и стали закапывать. И вдруг из морозной высоты хлынули капли дождя. Никто не удивился, словно бы и природе положено плакать в такие минуты.
Я положил на могилу спецвыпуск «Московских новостей» с портретом Сахарова на первой полосе, с датами удач, разочарований, репрессий и смерти.
— Пусть будет так, — сказала Елена, — не надо портрета.
Все еще прощались, а мы вышли с ней к воротам кладбища. Прошлись вдоль ряда венков, прислоненных к стене, с заледеневшими лентами. Они были от частных лиц, организаций и даже из других городов.
Закурили.
Чуть успокоившись, Елена попросила меня найти того главного милиционера, которому была поручена организация похорон.
Я обратился с этой просьбой к стоящему недалеко от меня капитану. Он что-то пробурчал по рации и к нам стремительно ринулся человек в генеральской шинели.
— Елена Георгиевна, что еще нужно сделать?
— Спасибо вам за все, спасибо, что еще не случилось никакого горя.
Генерал снял фуражку, наклонился и поцеловал руку Боннэр. Когда он выпрямился, то на его глазах я увидел слезы. Впервые в жизни мне довелось увидеть плачущего милиционера, да еще в генеральском чине. Но очень скоро ему предстояло стать самим собой.
[99]
Одна за другой разъезжались машины дипломатов, корреспондентов и официальных лиц. И площадь возле Востряковского кладбища опустела.
— Гена, — с удивлением спросила Боннэр, — а где же наши автобусы?
Я мысленно чертыхнулся. По нашим замечательным порядкам, оплачивается только проезд до кладбища, о дальнейшем ты сам договариваешься с водителями. Не дождавшись мзды, наши автобусы отбыли по месту своей прописки. Человек пятьдесят родственников и друзей Сахарова остались без транспорта, а уже через час в ресторане гостиницы «Россия» должно было состояться гражданское поминание.
Я подошел к генералу и, прикинувшись дурачком, сообщил ему о том, что у нас пропали два автобуса, и попросил его срочно разыскать их, т. к. на поминках Сахарова будут присутствовать народные депутаты и члены правительства.
Генерал, конечно же, не был столь глуп и прекрасно понял причину исчезновения наших машин и не кинулся на их розыски. Чуть подумав, он подошел к автобусам с милицейскими курсантами, что-то рявкнул, и будущие охранники правопорядка кубарем выкатились на улицу. Потом подошел ко мне, козырнул (это-то мне, ефрейтору) и не без гордости отрапортовал:
— Транспорт подан!
Все мы с трудом, но все же втиснулись в крошечные ПАЗики. Машины сопровождения заняли свои места. Впереди и сзади.
Случайные свидетели движения этой процессии не без удивления поглядывали на два облезлых автобуса, которые «тащил» по Москве мощный эскорт милицейских машин.
Поминание на Руси никогда не было делом легким, устоявшимся ри-туалом. Поминки Андрея Сахарова были особенно тяжелы. И не только самим фактом утраты российского пророка, распятого страной. А еще и тем, что на них присутствовали косвенные и прямые виновники распятия. Например, академик Марчук, Президент Академии наук СССР.
Он чуть ли не первым произнес лукавые слова скорби. Невыносимо хотелось спросить, где он был, когда травили его коллегу по науке? А был он тогда ни больше, ни меньше, как Председателем Комитета по науке и технике, то есть министром. И мог бы вполне без опаски для жизни в знак протеста уйти в отставку. И не умер бы с голоду, не сгинул бы в нищете. Мужества других академиков хватило лишь на то, чтобы не подписать официальное письмо с осуждением Сахарова. Иные, как Гольданский, потеряют должности директоров институтов, иных и вовсе не тронут. Но таких было столь ничтожно мало, что их косвенный протест никем не был замечен.
[100]
Во всю глотку орала зарубежная наука. Ученые срывали симпозиумы, требовали от правительств решительных мер в защиту Сахарова. Именно благодаря этому его не убили в Горьком, выпустили из советской тюрьмы детей Елены Боннэр, время от времени подбрасывали Западу видеосюжеты о жизни Сахарова в городе на Волге.
Да ладно академики, писатели и кинематографисты с мировыми именами навеки теперь заклеймены своим подловатым молчанием... А мы-то, мы-то все!? Да тот же я, вслушивающийся почти ежедневно во «вражеские голоса» западных радиостанций... Спокойно учился в аспирантуре, потом работал в центральной газете, молчал, как и все. Нет, не все. Орал Сережа Ковалев и еще с десяток инакомыслящих. Все, кроме них, — ВИНОВНЫ! И оправдания нам нет.
Говорили о Сахарове и тепло, и сухо. Уже рождалась легенда, что Академия наук не позволила Брежневу отлучить Сахарова от Академии, снять с него звание академика. Елена не выдержит и скажет:
— Да хватит же врать! Если бы построже приказали, то исключили бы как миленькие! Знаю я вас, послушных и сытых.
А сколько еще слухов ходит по стране? Гадких, ядовитых, какими на-полнена книга Яковлева «ЦРУ против СССР». Почему мне почти на каждом выступлении приходилось публично доказывать, что Боннэр не бьет Сахарова и не пишет за него злобные статьи и выступления? Почему?
Я не выдержал и взял слово. Сказал, что Сахаров никогда не огорчался нападкам на себя. Это он считал почти нормальным делом. Не отвечал на свист и улюлюканье свистом и улюлюканьем. Но была у него одна незаживающая рана — убежденность, что он недостаточно умело защищает жену.
Это правда. Он не смог в достаточной степени защитить Боннэр. Обидчиков было слишком много, а он был один. Только историку Яковлеву сумел в Горьком дать пощечину, чем всегда светло и весело гордился.
Сегодня мы говорим или стараемся говорить теплые слова в адрес вдовы. Но она не простая вдова. Она зэчка, с которой до сих пор не снято уголовное обвинение. Она незаконно сидит в этом зале, потому что, по нашему закону, ей еще положено отбывать наказание в ссылке.
Неужели мы все не сумеем реабилитировать ее, восстановить справедливость? Если нет, то грош цена всем нашим словам о демократии и покаянии...
Мое выступление было не совсем справедливым. Я просто не знал, что еще в декабре 1986 года ее помиловали каким-то указом. Но помиловали так тихо, что об этом мало кто знал,
Зал молчал. Елена сидела, низко наклонив голову.
Сразу после меня к микрофону подошла дочь Сахарова Таня.
[101]
Я испугался скандала. Между детьми и отцом были до самой кончины отношения сложные, натянутые. В свое время детей удалось «сломать». Они повторяли официальную версию «перерождения отца», клеймили Боннэр, как злого гения.
Сахаров переживал это трудно и горько, однако продолжал помогать им материально. Я сам лично, по его просьбе, пересылал телеграфом разные суммы денег детям, давно уже живущим своими семьями.
У меня отлегло от сердца, когда Таня сказала, что ее мать была хорошей женой для ее отца. Но в последний период жизни Сахарову нужна была именно такая жена, как Елена Георгиевна Боннэр. С нею он был счастлив и в счастливые дни жизни, и в самые тяжелые...
По натуре я мало похож на кота Леопольда, призывающего жить дружно. Но искреннее признание роли Боннэр в жизни отца дочерью Сахарова Татьяной были частью всеобщего покаяния.
Между тем жизнь продолжалась.
После Нового года майор Олег Закиров опять прислал письмо, в котором рассказывал о том, что ему под благовидным предлогом объявили выговор и готовят документы на увольнение из КГБ. Катынь продолжала «кусаться».
Главный немедленно направил новый запрос Председателю КГБ Крючкову, в котором требовал дать объяснения по поводу Закирова. Ответ последовал вялый, малоубедительный. Мол, наказание Закирова никак не связано с его ролью в исследовании Катынской трагедии. Он просто недисциплинированный офицер и слабый профессионал. Но увольнять его из органов никто не собирается...
И на том спасибо.
Письма-отклики на статью «О чем молчит Катынский лес» шли вялые, маловразумительные. Один читатель сообщал, что его дед служил в НКВД Смоленска и, напиваясь, любил поорать, что своими руками «положил» многих польских офицеров. Теперь дед живет в Калужской области, и он не имеет с ним связи.
Нашел деда. Он, конечно же, побожился, что служил в милиции, а не в НКВД, и о расстрелах ничего не знает. Другая читательница рас-сказывала, что ее отец был главным врачом в санатории в Козьих Горах. И однажды в апреле сорокового года о чем-то узнал и повесился.
Другой, совсем еще мальчишкой, сидел в 1940 году в Смоленской тюрьме. Там же короткое время находились и польские офицеры. Надзиратели занимались только ими, и тюрьма глухо поговаривала о массовых расстрелах.
Все это было теми свидетельствами, которые к делу не пришьешь.
Я уже радовался своей предусмотрительности. Во время поминок
[102]
Сахарова я передал копии аудиопленок с рассказами живых свидетелей о расстрелах Леху Валенсе для переправки в Польшу. Мои вполне могли исчезнуть в одночасье.
И вдруг в марте меня вызвал Главный, вернувшийся из Праги:
— Смотри, что украл для нас депутат Станкевич! Срочно сними ксерокопии, через час это нужно положить на место. Готовь публикацию. Завтра я представлю это Александру Яковлеву, а ты жди моего сигнала. После него ищи историка Наталью Лебедеву (это она нашла эти документы) и выпытай у нее, как ей это удалось и почему она до сих пор молчит.
Я торопливо просмотрел сорокастраничную стопку бумаг и обалдел. Это были приказы по конвойным войскам, «очищающим» лагеря от польских офицеров. Из них неопровержимо следовало, что конвойные войска передали поляков трем НКВД — Смоленскому, Харьковскому и Калининскому. С тех пор о них не было ни слуху, ни духу. Передача состоялась в апреле-мае 1940 года Именно эту дату и называла немецкая экспертная комиссия. Но, не имея достаточных сведений, она решила, что все пятнадцать тысяч интернированных были направлены в Смоленск. И, обнаружив при раскопках всего пять тысяч убитых, пришла в некоторое замешательство: где же остальные? А остальные нашли свою смерть по другим адреса.
На следующий день по сигналу Главного я позвонил Лебедевой. Услышав о документах, она дико испугалась. Мне с большим трудом удалось договориться о встрече, тем более что через два часа она улетала в Лондон.
Меня встретил действительно смертельно испуганный человек.
— Как они (документы) у вас оказались? Это, наверное, Сережа Станкевич... Он брал их у меня на час. Я не позволяю вам их публиковать. Это не для печати. Правильно говорила мне дочь, не нужно было лезть в это дело...
Я связал ее по телефону с Егором Яковлевым, и она чуть успокоилась.
— Как обнаружила документы? Да очень просто. На одну из публикаций в «Литгазете» о Катыни пришло письмо отставного полковника. Он опровергал факт расстрела поляков и называл номер своей части. Все остальное было делом техники. В архивы КГБ не допускают? Я подняла архивы Советской армии и обнаружила в них переписку НКВДшника Сопруненко с начальниками лагерей. И стало ясно, что пленные никуда не разбежались (как это утверждал Сталин), а были переданы НКВД для ликвидации...
Так появилась публикация «Катынская трагедия».
Скоро последовало угрюмое сообщение ТАСС с признанием вины НКВД, а чуть позже Горбачев передал документы Президенту Польши Ярузельскому.
[103]
Вроде бы тайна перестала быть тайной. Но не тут-то было. В ответ последовал ряд публикаций, в которых вина НКВД вновь бралась под сомнение. В них, в частности, утверждалось: коль нет приказа «Пли», то нет и доказательств, тем более что еще никто не сказал, что видел эти расстрелы сам.
Мне пришло письмо из Ленинграда, в котором житель Харькова рассказывал, как он сам с приятелями находил в местечке Черная дорога польскую атрибутику — погоны, кокарды, ордена и медали.
Я немедленно выехал в Харьков и за два дня обнаружил то, что тщательно скрывалось пятьдесят лет...
В двадцатые годы недалеко от Харькова (а теперь уже в его черте) стояли у дороги пять домиков, за что и нарекли это место Пятихаткой. А в тридцатые годы вырос здесь Институт атомной физики, где советские физики во главе с академиком Капицей решали проблемы расщепления ядра...
Всего в полутора километрах вправо от Харьковского шоссе соскальзывала в лес вымощенная кирпичом дорога. Назвать бы ее Красной — по цвету, — а народ почему-то нарек ее Черной. Лесной массив, числившийся в документах как квадрат номер шесть, обнесли высоким забором и опутали колючей проволокой. Шли сюда из города крытые грузовики, обитые изнутри цинковым железом. Туда шли, тяжело переваливаясь и рыча, а оттуда налегке, с ветерком летели в Харьков. И выли по ночам за забором собаки, словно пытаясь рассказать людям о чем-то страшном. Понимали ли их? Понимали, видимо, иначе, зачем же местным жителям обзывать эту дорогу Черной.
Даже среди других, отнюдь не милосердных управлений, Харьковское НКВД числилось у Ежова (тогдашнего железного Наркома) в списке особо усердных.
На жесточайшие команды сверху об увеличении количества приговоренных к высшей мере наказания — расстрелу — начальник УНКВД Харькова Рейхман отвечал своими встречными планами. Удваивал, а то и утраивал число расстрелянных.
Уходили из двора тюрьмы НКВД грузовики, разъезжались в разные стороны согласно путевым листам. Как утверждают живые свидетели того времени, каждому шоферу известен был лишь свой маршрут. Обо всех маршрутах знали только Рейхман да комендант УНКВД, человек с лирической фамилией Зеленый.
Прогрохочет по этой земле война, дважды будет переходить из рук в руки Харьков, Артиллерийские воронки, гусеницы наших и немецких танков, да и само время, казалось бы, навсегда скроют от нас тайны этих страшных маршрутов. Как узнать нам, где Рейхман и Зеленый
[104]
скрыли останки тысяч и тысяч убитых, лишенных даже минимального
права на память — могил и крестов?
Но в начале девяностого года сотрудники Харьковского УКГБ вдруг обнаружили в своих неразобранных с окончания войны архивах переписку коменданта УНКВД Зеленого с директором еврейского кладбища Горбачевым.. Завернутая в плащ-палатку во время эвакуации из Харькова, много лет сиротливо пролежала она на дальних стеллажах как не имеющая оперативного интереса, ожидая своего часа гласности.
«Город Харьков, 11 марта 1933 года.
Я, нижеподписавшийся, заведующий кладбищем Горбачев сего числа на основании предписания коменданта УНКВД тов. Зеленого принял и предал земле 39 (тридцать девять) человеческих трупов в присутствии представителей НКВД по Харьковской области.
Зав. кладбищем Горбачев».
Присутствовали: (подписи неразборчивы).
Менялись присутствующие при захоронениях, неизменен был лишь директор кладбища, с бухгалтерской точностью оформлявший текущие и уже привычные для него дела по сокрытию невиданного миру преступления. В период с 9 августа 1937 года по 11 марта 1938 года здесь захоронено 6 865 трупов. Вот хроника только второй половины 1937 года:
август — 348 человек.
сентябрь — 747.
октябрь — 1 102 ноябрь — 963.
декабрь — 1 203.
Всего — 4 363 человека. Почти ежемесячно появлялся на еврейском кладбище новый холм, вроде бы означавший, что ушел из жизни еще один человек...
Лукав был директор кладбища, далеко смотрел и широко, понимая перспективу, догадываясь, что страшная машина НКВД может только ускорять, а не замедлять свой ход... Под скромным холмиком лежало от 30 до 100 человек, расстрелянных в подвалах НКВД. Но и при такой жесткой экономии площади кладбище к 1939 году оказалось перегруженным.... И его оставили в «покое» до 1960 года, пока лихие комсомольцы не решили снести его как не вписывающееся в ландшафт города и разбить на его месте молодежный парк. За дело взялись с огоньком, песнями, с музыкой. Снесли быстро (ломать — не строить), а вот с пар-ком дело что-то застопорилось. Засадили лишь один уголок, а на остальную часть бывшего кладбища зачастили КАМАЗЫ, открыв близкую и никем не запрещенную свалку. И лишь в апреле 1990 года Харьковский
[105]
мемориал и сотрудники КГБ, узнав, кто покоится под городским мусором, расчистили зту площадь и установили временное надгробие.
Так был установлен один из кошмарных маршрутов, прочерченных Зеленым и Рейхманом.
Второй был обнаружен еще до войны, да как-то забыт. Скорее забыть его было кем-то приказано. Уже в сороковом году ходили мальчишки в лесопарк, в который вела Черная дорога. Находили, как я уже рассказывал, причудливые монеты, бляхи от ремней с орлами, незнакомые ордена и знаки воинских различий. Откуда они здесь взялись, можно только догадываться, да только гадать тогда было непозволительно.
Во время войны забор вокруг массива номер шесть местные жители разобрали на дрова, сторожевые собаки разбежались и одичали. И стал этот учас-ток леса обычным массивом, ничем не отличавшимся от себе подобных
Только в семидесятые годы тогдашний директор лесхоза Анатолий Омелич написал в КГБ тревожное письмо о том, что в квадрате номер шесть после ливневых дождей, а еще чаще по весне и осени обнажает земля человеческие черепа и кости. И стоит над лесом жуткий смрад. На сигнал отреагировали быстро. Приехала техника, что-то бурили, что-то заливали в скважины — то ли хлорку, то ли серную кислоту, а может, и то, и другое, а потом участок опять обнесли забором и построили в квадрате номер шесть дом отдыха и дачи для сотрудников КГБ. Что ж, все логично. Уже с двадцатых годов числилась эта земля по ведомству КГБ.
Когда из обнаруженных Лебедевой документов по расстрелу польских офицеров стали ясны трагические маршруты их гибели, то оказалось, что Харьков ничем не уступает Смоленску.
В разговоре со мной пожмет плечами заместитель начальника УКГБ Харькова Александр Нессен: нет свидетелей, нет документов, слухи и все. Да уже есть кое-какие доказательства, что квадрат номер шесть — место массовых захоронений. В апреле 1991 года КГБ передал свои дачи на баланс города, и живут там теперь семьи, остро нуждающиеся в жилье. Дело о массовых захоронениях передано в прокуратуру: «Сегодняшние чекисты не желают, чтобы на них надевали мундиры Ежова и Берии. Судьбу расстрелянных поляков выясним».
Но важны не только документы (рано или поздно они все равно обнаружатся), важны живые свидетели, А они есть:
«Я, Иван Дворниченко, в 1938 году после демобилизации из армии вернулся в Харьков. Поступил на работу по обслуживанию штаба Харьковского военного округа, Наш гараж располагался на Пушкинской улице в доме 41. Напротив был гараж НКВД. Я часто разговаривал с работающими там водителями. Особенно с одним, которого звали Олексий. Ему было всего тридцать лет, но он уже был абсолютно
[106]
седой, Перед самой войной Олексий рассказал мне, что возит трупы расстрелянных людей в район пятихаток. Людей убивали в здании НКВД на улице Чернышевского, куда Олексий и загонял свою крытую полуторку. Трупы грузили навалом и покрывали брезентом. Среди расстрелянных было много военнослужащих поляков...
Сам я возил начальство на легковом автомобиле ГАЗ-М-1. Приходилось ездить и на обкомовские дачи, которые располагались по левую сторону Белгородского шоссе. Мой напарник, Василь, как-то показал мне, где хоронят расстрелянных — чуть подальше от обкомовских дач и справа от шоссе. В этом участке леса все время дежурил трактор, чтобы в случае распутицы затаскивать машины вглубь».
Дворниченко не единственный свидетель преступления против польских офицеров в 1940 году. Жив сын шофера, некогда курсировавшего по маршруту Харьков — Черная дорога. Несмотря на строжайшие запреты, он нередко рассказывал семье, какой черной работой он занят на Черной дороге. Часто плакал и никак не мог избавиться от жутких запахов, которые преследовали его и днем, и ночью. Говорил и о судьбе польских офицеров. Не тайна это была и для сегодняшних мальчишек, занимающихся поисками польских монет и орденов.
Первый же попавшийся мне в Пятихатках мальчишка на вопрос о Черной дороге ответил, не задумываясь: «Поляков, что ли, ищете? Пошли на «пятак», сведу с теми, кто меном занимается».
К сожалению, тех, кто мне был нужен, в тот час на «пятаке» не оказалось. Но присутствующие ребята охотно поделились технологией своих археологических изысканий. За дачами КГБ — обрыв. Вот там-то при желании и можете найти всевозможную польскую атрибутику. Весной можно даже не копать, все само вылезает наверх.
Страшное место для захоронений выбрал Зеленый. Лесную поляну, где стоят дачи, сменяет урочище, куда вешние воды выносят человеческие останки. Не нашли себе покоя эти люди даже после смерти. Не приняла их пятихатская земля, словно не желая стать соучастницей преступления. Бугристая в лесу почва дыбится по весне и осени в иступленных судорогах. И немо кричат из глубины люди, взывая к нам о помощи. А мы не слышим или делаем вид, что не слышим...
..........................................
В конце лета Яковлеву, мне, Закирову и историку Наталье Лебедевой вручили польские ордена за содействие установлению трагической истины. А в начале осени позвонил взволнованный майор Закиров
и буквально заорал:
— Нашел, нашел!
[107]
— Кого?
— Свидетеля расстрелов поляков. Он в это время работал в НКВД дворником. Приезжайте!
Я позвонил в польское посольство и договорился о поездке в Смоленск.
Первого сентября (в день начала Второй Мировой войны, начавшейся с нападения на Польшу и Германии, и СССР) эскорт из трех машин двинулся в сторону Смоленска.
Мне была не по душе такая массовка. С другой стороны, это могло быть и отвлекающим маневром. В двух следующих за нами машинах расположились польский военный атташе, консул и польские корреспонденты. В нашей «Варшаве» было польское телевиденье и я со своим товарищем, который в отсутствие наших фотокорров взялся сфо-тографировать уникального свидетеля трагедии,
У въезда. в Смоленск водитель остановился и сказал, что нужно дождаться консула. Я запротестовал и стал убеждать, что катынские дела так не делаются. Что нужно быстро ворваться в город, захватить Закирова, который в это время дежурил в УКГБ и немедленно «распотрошить» свидетеля. Иначе нам перекроют все ходы и выходы.
Водитель был неумолим и заявил, что без консула он никуда не поедет. Мне оставалось только психовать и чертыхаться. Где-то через полчаса возле нашей машины тормознул милицейский «Жигуленок». Из него вышел капитан и заискивающе спросил:
— Поломались, ребята?
— Ждем, — коротко ответил водила.
— А вас догонят на мосту. Там машины сопровождения. Вам в город нельзя, вас повезут в Козьи Горы по окружной дороге.
Я мысленно проклял своих польских спутников, до сих пор ничего не понимающих в особенностях нашего бытия.
— Дайте закурить? — вежливо попросил милиционер.
— У своих возьми, — нагрубил водитель, кивнув в мою сторону
Глянув на взбешенную рожу своего, капитан отказался от мечты покурить.
На посту ГАИ нас попытались задержать, но водитель не остановился, и мы влетели на заправочную станцию.
Ко мне подошел консул Яблонский и сказал, что их пустили сюда только заправиться, а потом, не заезжая в Смоленск, повезут к Мемориалу. Что делать, он не знает.
— Поезжайте первыми, — попросил я. — Вслед за машиной сопровождения. А дальше уже мое дело. Только скажите нашему водителю, что теперь в машине командую я.
[108]
Яблонский коротко переговорил с шофером, и тот понимающе кивнул,
Милицейская машина с мигалкой потащила нас по шоссе. В благоприятный момент я скомандовал водиле:
— Резко уходи вправо и не обращай ни на что внимания...
Потом Яблонский мне рассказывал, как занервничала милиция, обнаружив потерю одной машины. Как они настаивали на поисках, но консул требовал ехать дальше, так как на определенное время назначен молебен на месте захоронения. Гаишники, посовещавшись, решили, что две машины все же лучше, чем одна, и смирились с потерей.
Мы на «Варшаве» подъехали почти к самому зданию УКГБ, и я позвонил Закирову. Он, выбежав, якобы, на обед, успел переодеться в штатское. Ринулись к дому Климова, нахально предрекая неспокойный день для начальника Смоленского УКГБ генерала Шиверских....
Дом Климова, бывшего дворника НКВД, — бывшая тюрьма... Он похож на тюрьму и сегодня. Длинный коридор, справа и слева комнатухи-камеры. У каждой двери сундучок и рукомойник образца тридцатых годов.
Петр Климов, 1910 года рождения, член КПСС с 1940 года, бывший сотрудник НКВД, свидетель расстрела польских офицеров. Он тогда был единственным человеком, видевшим это зрелище лично. В его показаниях я не изменил ни слова, пусть они останутся документом сухим и бесстрастным.
«В областную комиссию по реабилитации
жертв репрессий Смоленской области
От Климова Петра Федоровича.
В НКВД-ГПУ Смоленской области я работал с 1933 года дворником, потом вахтером у Стельмаха (комендант НКВД), работал в НКВД и после войны.
Я помню кровь расстрелянных. Это мне приказал Григорьев — начальник гаража. Я мыл автомашины, полуторку и трехтонку. На них обычно грузили с помощью транспортера трупы расстрелянных, чтобы не носить на носилках. Этот транспортер соорудил Альхимович (он же и поставил моторчик). Альхимович работал в гараже и был мастер на все руки. До этого трупы расстрелянных из подвала НКВД выносили на носилках. Выносили трупы обычно шоферы. Подвал, где расстреливали, находился под зданием нынешнего УВД Смоленской обл. на улице Дзержинского (третье окно).
В маленькой подвальной комнате был люк, канализационный. Жертву заводили и открывали люк, голову клали на его край и стреляли в затылок или висок. (по-всякому), у одной из жертв, помню, был распорот живот. Видел следы крови и дырочку в виске жертвы.
[109]
Приговоренному говорили, что его переводят в Москву, раздевали, а потом расстреливали. Куда девали одежду, я не знаю.
С 1933 года там расстреливали, особенно много расстреляли в 1933 1934, 1935, 1936, 1937 годах. Стреляли почти каждый божий день с вечера и вывозили в Козьи Горы, а возвращались к 2 часам ночи. В автомашины погружали штабелями трупы, было по 30-40 человек в одну машину. Потом трупы накрывали брезентом и везли. Кроме шофера, выезжали 2-3 человека и комендант. Еще в Козьих Горах было целое отделение (помню из них Белкина, Устинова), они закапывали расстрелянных, копали рвы. Они жили прямо в Козьих Горах.
Эти трупы расстрелянных я сам видел в Козьих Горах.
На братском кладбище хоронили мало, а в основном расстрелянных возили в Козьи Горы, там больше десятка тысяч расстрелянных советских граждан и других. Мне за мойку машин от крови платили 5 рублей. Тем кто расстреливал, платили тоже по ведомости, и тем кто вывозил трупы, тоже платили.
Расстреливали (из тех, кого помню) следующие: Грибов, Стельмах И.И., Гвоздовский, Рейсон Карл, других забыл. Вывозили трупы шоферы: Кулешов, Костюченков Николай, Титков, Григорьев Виктор. Но Титков больше возил начальников. Возил еще трупы Левченков, но его убил заключенный, который был, по-моему, поляком. Этот заключенный случайно остался жив и пробрался в оружейную комнату, а потом открыл огонь и ранил еще кого-то — не знаю, забыл.
Этого заключенного 3 дня не могли убить (и водой заливали из пожарной машины), а потом его отравили газом.
Польских военнослужащих расстреливали в 1940 году и в Козьих Горах. Расстреливала их команда Стельмаха Ивана Ивановича. Он был комендантом Смоленского НКВД. Я сам был в Козьих Горах, случайно видел: ров был большой, он тянулся до самого болотца, и в этом рву лежали штабелями присыпанные землей поляки, которых расстреляли прямо во рву. Это я знаю, потому что сам видел трупы (присыпанные землей) поляков. Обстоятельства расстрела мне рассказывал Устинов: он был шофер, возил поляков на расстрел и видел, как он сам говорил, расстрел. Из машин их выгружали прямо в ров и стреляли, а кого добивали и штыками. Ограждение места расстрела было такое — двойная колючая проволока. Поляков в этом рву, когда я посмотрел, было много, они лежали в ряд, а ров был метров сто длиной, а глубина была 2-3 метра. После того как я посмотрел на расстрелянных поляков, меня сразу выпроводили и сказали, чтобы я больше не подходил.
Тогда и после войны меня неоднократно Стельмах, Рейсон, Гвоздовский и Грибов предупреждали, чтобы я молчал.
[110]
Устинов, Грибов мне говорили, что польских офицеров расстреливали Стельмах, сам Грибов, Гвоздовский, Рейсон Карл. Они были самые заправилы при расстрелах, других не помню.
Поляков на расстрел привозили в вагонах по железной ветке на станцию Гнездово. Охрану места расстрела осуществлял конвойный полк НКВД.
Все мною сказанное — правда, ответственность за клевету мне понятна, я сказал всю правду. Написано по моей просьбе (так как у меня не гнутся пальцы) Закировым Олегом Закировичем, мне все прочитано, записано правильно,
Еще хочу добавить, что тем кто стрелял людей, и тем кто возил, давали спирт и закуску бесплатно. Они еще, помню, после расстрела мыли руки спиртом.
Я тоже протирал руки спиртом, после того как смывал кровь.
Спирт хранился у меня в подвале, а закуску брали в столовой (колбаса, осетрина и др. продукты).
Еще возил расстрелянных Зиновьев (ему сейчас под 70 и уехал в Симферополь).
Климов П.Ф.
29 августа 1990 г. Записано на квартире Климова П.Ф. »
«Дополнение к письму от 29 августа 1990 г.
Я еще хочу сказать, что в 1943 году в клубе НКВД я видел около пяти ящиков. Тогда же я узнал, что в этих ящиках черепа расстрелянных поляков и их будут отправлять в Москву на какую-то экспертизу. Потом эти ящики опять вернули в Смоленск и вывезли, вероятно, в Козьи Горы. Мы тогда тоже один на один боялись разговаривать об этом. Для чего это делали, я не знаю, а сейчас я понимаю, что это делалось для того, чтобы свалить все на немцев (т.е. расстрел поляков). А расстреляли поляков наши в 1940 г. Часть священников польских была расстреляна в подвале НКВД Смоленска. Дополнений не имею. По моей просьбе писал это письмо Закиров Олег Закирович в моем доме.
г. Смоленск, 31.08.1990»
«Дополнение
Я еще хочу сказать, что в то время, когда был расстрел поляков, и после здесь, в Смоленске, в Козьих Горах, бывали Каганович Л.М., Шверник, еще помню, глушили на Днепре рыбу.
Отдыхал в Козьих Горах еще Ворошилов К. Е.
Смоленск. 31. 08. 1990»
Это невыносимо читать, но еще невыносимее слушать человека, со скрупулезной точностью рассказывающего обстоятельства мук тысяч
[111]
людей. Крошечная комнатушка в тюрьме-коммуналке, мизерная пенсия, еще не исчезнувший страх...
Я позволил себе спросить его:
— А может, и вас заставляли расстреливать: рук, как вы говорите, не хватало. И вы про все так обстоятельно знаете?
Он вскинулся, как от раздавшегося из прошлого выстрела:
— Вы меня сюда не приплетете! Все, больше ничего не скажу. Они еще живы. Убьют.
«Они еще живы, они еще живы!» — буду твердить я всю дорогу из Смоленска в Москву. Они еще живы, ибо майор Закиров, отыскавший Климова через живых ветеранов НКВД, был исключен из партии и представлен к увольнению из органов КГБ. Так оценено его стремление к истине. Кто следующий?
А мы умываем руки?
Как потом окажется, мы опередили КГБшников на какой-то час. Именно через час в дом Климова ворвутся их опера и уже по знакомому сценарию начнут запугивать старика. Но будет уже поздно. Они проморгали ценнейшего свидетеля, до сих пор живущего в тюрьме.
Я не могу найти причину их нерасторопности. То ли это от чрезвычайной самоуверенности, то ли от смертельной российской болезни — лени. Но они во всем этом нашем расследовании всегда шли сзади и никогда впереди. Спасибо им за это их высшее начальство, конечно, не сказало.
Генерал Шиверских был отправлен на пенсию. Он проиграл, и этого не прощают. Но он успел сколотить себе дом из стволов, выросших на катынских могилах, и поставил его на границе Смоленской и Московской областей. Что за сны снятся ему в этом доме? Вещие или кошмарные? Не знаю...
Катынская загадка разгадана. До открытия этой тайны не дожил лишь один из главнейших расследователей — Сахаров. Это толь-ко благодаря ему нас вовремя не одернули, не приструнили. Только благодаря ему «выпрямился» майор Закиров и встал в ряды тех, кто желал узнать истину.
Пусть же катынская тайна, переставшая быть тайной, станет академику Сахарову вечным памятником.
И это справедливо... Только теперь мы можем сказать сами себе: «Мы не рабы, рабы НЕМЫ!
1990 — 2005 год
[112] |



