Андре Фроссар
Его же о своём обращении, 1966.
СОЛЬ ЗЕМЛИ
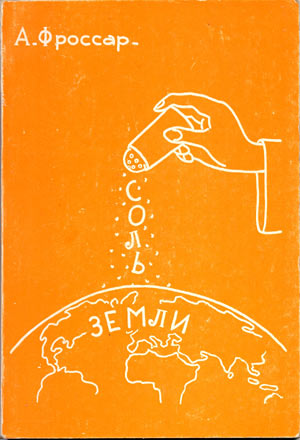 Впервые
вышло в издании "Жизнь с Богом", Брюссель. 1973 г. 136 с. Впервые
вышло в издании "Жизнь с Богом", Брюссель. 1973 г. 136 с.
Издания: Киев, 1996. (Кайрос)
Моей крестной матери Анне М.Ф.
Краткие биографические сведения об авторе
Андре Фроссар родился в 1915 г. в Коломбьв-Шатело, в департаменте
Ду. Его отец, Луи-Оскар Фроссар, был журналистом и политическим
деятелем и в возрасте 31 года стал первым генеральным секретарем
французской коммунистической партии.
В Париже, куда переселилась его семья, Андре Фроссар учился
в Школе декоративных искусств, затем стал работать в прессе в качестве
рисовальщика и хроникера. В настоящее время его заметки, озаглавленные
"Одинокий всадник", ежедневно появляются в газете "Фигаро".
Событиям, более всего наложившим отпечаток на его жизнь, он
посвятил две книги: "Бог есть — я Его встретил" и "Дом
заложников" (воспоминания о "еврейском бараке" в
лионской тюрьме форта Монлюк во время Второй мировой войны).
Кроме этих двух книг и предлагаемого здесь очерка "Соль
земли" им написаны "Парадоксальная история Четвертой Республики",
"Путешествие в страну Иисуса" (документальный отчет, иллюстрированный
собственными рисунками и фотографиями автора), жизнеописание святого
Викентия де-Поль и очерк, озаглавленный "Ватиканские закрома".
К религии люди приходят иногда путем долгих изучении и размышлений,
но бывают и молниеносные обращения, ничем не предвещенныв, как гром
среди ясного неба. Так случилось с Андре Фроссаром, когда его, в
возрасте 20-ти лет, посетило озарение, приведшее его к вере. Молодость
ничуть не подготовила его к этому. В своей книге "Бог есть"
он пишет: "Это рассказ не о том, как я пришел к католичеству,
но о том, как я к нему не шел и вдруг в нем оказался". По его
свидетельству, он рос в исключительной атмосфере полнейшего атеизма,
"где вопрос о бытии Божием даже уже и не ставился"'. Как
и у всей его семьи, его помыслы были всецело заняты социализмом,
когда, в один прекрасный день, он "встретил Бога".
ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА "ЖИЗНЬ С БОГОМ"
Эта книга написана для неверующих, которые мало что знают о христианской
жизни, и для верующих, плохо знакомых с монашеской жизнью (если
такие найдутся). Это как бы картинки монашеской жизни, в которых
автор постарался — часто с юмором, всегда с любовью — обрисовать
крупные "деятельные" и "созерцательные" Ордена,
выявляя малоизвестные черты подлинного лица каждого Ордена и краски
его духовного пейзажа. Многочисленные иллюстрации в современном
стиле напоминают веселую непосредственность старинных заставок.
Вопреки тому, что можно предположить, в огромной католической литературе
редки общие труды об Орденах и нельзя сказать, чтобы они, как правило,
дышали весельем. "Соль земли", вероятно, первая книга
такого рода; ни в чем не отступая от ортодоксальности, своим легким
складом она дает некоторое представление о той глубокой радости,
которая является одним из самых поразительных свойств монашеского
звания.
Глава первая
В этот "Век неверия"
Однажды, заметив среди укреплений "Мон Сен-Мишеля" (Mont
St.Michel) доминиканца в соответствующем одеянии, дама-туристка
возмущенно воскликнула:
— Как! В наше время еще есть такое?
Вероятно, туристка была бы окончательно сражена, узнай она, что
носитель этого необычного костюма, мало того, что одевается в грубую
рясу и бреет макушку; он связан с давно прошедшими временами еще
и тройным обетом бедности, послушания и целомудрия — в полную противоположность
тому, что обычно считается идеалом современности.
— В наше время — подобные обеты!
Так и слышится стон дамы под ироническим взглядом химер, в то время
как в небе архангел Михаил продолжает свою неподвижную схватку на
самой верхушке колокольни, точно серебряная птица на броне какого-то
сказочного животного, выброшенного на берег на заре истории.
* * *
Не знаю, много ли сейчас существует дам, неспособных вынести монаха
в его естественном декоруме; но если мы далеки от готического искусства,
то мы еще намного дальше от духа средневековья, и разрыв увеличивается
с каждым днем. Мы одновременно питаем величайшее уважение к соборам
и храним полнейшее неведение о воздвигшей их вере, которая часто
представляется нам чем-то не больше и не лучше, чем профессиональный
секрет архитекторов XIII века.
— Что такое вера?
— Вера, — скажет нам первый встречный, — это то, что воздвигало
из земли соборы и позволяло им вырастать с наименьшим количеством
контрфорсов до высот, неведомых галло-римским каменщикам.
Вера — это древний рецепт свода на перекрещенных стрелках, заброшенный
со времени изобретения бетона. Для того, чтобы строить, вера больше
не нужна.
— Что такое вероучение?
— Католическое вероучение — это дисциплинарное помещение для бродяжничающих
умов, мрачная тюрьма, где ценой мелких унижений, обысков и надзора
они, понурив голову, обретают спокойствие и безопасность заключения.
— Догматы веры?
— Ограничения, наложенные на человеческий разум, которому вероучение
раз и навсегда сказало анафематст-вующим голосом: "Дальше —
ни-ни!"
Сравнения этого маленького атеистического катехизиса не совсем
неверны, но в прямо противоположном смысле. На положение заключенного
в камере похоже наше положение в этом мире, а вероучение-то и есть
окно;
и если Церковь когда-либо прикладывала руку к стенам нашей тюрьмы,
то лишь для того, чтобы сделать в ней отверстие. Атеист не пробивает
стену, чтобы взглянуть наружу, а затыкает отверстие в наивной надежде
забыть, вместе с внешним миром, и о своей тюрьме. Смелость разума
заключается не в том, чтобы "вырваться за пределы вероучения",
а в том, чтобы достичь их, и ересь навлекает на себя осуждение церковной
власти не за свои дерзания, а за свою робость; ни один еретик никогда
не придумал ничего смелее догмата Воплощения, но многим из них
недоставало интеллектуальной силы, необходимой, чтобы его постичь,
и они или почитали человека, или поклонялись Богу там, где Церковь
видит и провозглашает Бога, ставшего человеком.
Не понимая таким образом веру, мы очень плохо понимаем тех, кто
ею живет, и, связывая ее с некой формой отжившего искусства, мы
думаем найти под гулкими сводами наших аббатств не живых монахов,
а окаменелости.
* * *
Однако монахи еще существуют! И не только в тени монастырей, где
незримый свет созерцания хранит их души в собранности и тишине,
но и по всем дорогам, на всех путях, которые они-то порой и прокладывают,
пользуясь ими часто в последнюю очередь, одетые в белое, черное
или коричневое, бородатые или бритые, обутые во францисканские сандалии
или в иезуитские ботинки, вооруженные четками или крестом; они,
по-видимому, совершенно не чувствуют себя потерянными в век Эйзенштейна,
они передвигаются на пару или нефти, как мы с вами, пересекают на
самолетах моря и с развевающимся по ветру капюшоном и мантией тукт
вокруг Земли крепкую, частую сеть монастырей, школ, госпиталей и
религиозных и социальных заведений, порванные звенья которой неустанно
связываются вновь изо дня в день — или из столетия в столетие, —
что и делает католическую и апостольскую Церковь (столица — Рим)
самой значительной духовной силой всех времен.
От августинцев-отшельников до миссионеров Святого Семейства одно
только перечисление Орденов занимает несколько страниц в "Аннуарио
Понтифичо" — Папском ежегодном справочнике — и, говорят, один
только Секретарь Конгрегации по вопросам Орденов, управляющей тремястами
тысячами монахов и восемьюстами тысячами монахинь христианского
мира, знает полный их список, а также способен припомнить одеяние
таких, как "антонинцы святого Гормисдаса".
Действительно, вещь странная и приводящая в замешательство туристок:
приглядевшись к роли Секретаря, замечаешь, что пополнение рядов
его армии вовсе не сокращается неуклонно по мере удаления от средних
веков, а остается постоянным за всю историю, как будто необходимое
и достаточное количество "соли земли" было раз и навсегда
определено таинственным постановлением свыше. Кривая статистики
неровная, но не проявляет никакой общей тенденции к понижению. Ритм
возникновения новых очагов остается ровным, ненарушимым среди войни
и революций; подобно тому, как эпидемия выявляет самоотверженных,
так, по-видимому, справедливый закон компенсирует шатания нравов
или идей умножением благочестивых призваний; и в то время, как завоеватель,
политик, социальный пророк думает, что колеблет равновесие сил и
направляет историю, невидимая рука незаметно восстанавливает равновесие.
Конечно, сейчас не времена больших монашеских урожаев Средневековья;
но если бы упадок Орденов подчинялся законам, которые управляют
падением отживших институтов, на земле уже не осталось бы ни одного
монаха. Победила бы коалиция Реформации и Возрождения, очаги монашеской
жизни погасли бы один за другим, Революции не пришлось бы бороться
с иными "суевериями" кроме своих собственных, а Наполеону
не пришлось бы сообщать нам, что он относится враждебно к возвращению
монашествующих, т.к. "монашеское самоуничижение разрушительно
для всякой доблести, всякой энергии и всякого правительства".
Сама обстановка, за отсутствием какого бы то ни было кандидата на
затвор, избавила бы нас от этого бравого афоризма, высказанного
вскоре после брюмерской суматохи, когда представители гражданской
доблести выпрыгнули из окон и скрылись в чаще парка Сен-Клу при
появлении усатой гвардии (память о монахах — мучениках Террора —
также была еще совсем свежа).
Наконец, XIX век, под общей вывеской Научного Материализма и Прогресса,
безраздельно царствовал бы над умами и над сердцами. Но нет: с 1850
по 1900 г. можно насчитать возникновение не менее семнадцати новых
больших Орденов. Называю: Африканские миссии, Священники Святого
Причастия, Салезианцы святого Иоанна Боско, Белые Отцы, Священники
Святого Сердца... Золотой век атеистического науковерия оказываыется
также и веком определенного возрождения монашества, оставшегося,
разумеется, незамеченным для своих современников.
Точно так же и наш заносчивый XX век, век скорости, телевидения,
радиолокации и электронного мозга, который как будто исключает всякую
возможность собранности, любую форму внутренней жизни, наш, наконец,
атомный век видит, или вернее, не видит — потому что события мелькают
у него перед глазами слишком быстро, чтобы что-либо увидеть, — как
укореняется, растет и расцветает возрожденное средневековое монашество
в странах, наиболее охваченных техническим прогрессом, например,
в десяти шагах от крупных промышленных центров Северной Америки,
где созерцательные трапписты самого чистого романского стиля являют
картину удивительного подъема несмотря на окружающий материализм,
— вернее: благодаря его напору.
Пусть после этого самоуверенные смертные воображают, будто они
пишут Историю. В лучшем случае они пишут лишь половину ее.
— Довольно, довольно! Послушать вас, так мир "омо-нашивается",
сам того не замечая!?
* * *
О, я не впадаю в апостолический оптимизм тех воинствующих христиан
1935 года, которые один за другим были увлечены политикой, я не
претендую, что этот век в отношении веры выдерживает сравнение с
веком святого Бернарда — хотя число званных еще не дает никакого
достоверного указания на число избранных, и, в конечном счете, времена
религиозного изобилия, может быть, не богаче подлинной святостью,
чем времена духовного оскудения. С меня довольно, что это такой
же век, как другие, свидетельствующий, что при всем непостоянстве
религиозности каждое поколение поставляет определенный контенгент
провозвестников Евангелия, апостолов, отшельников или миссионеров.
Можно их игнорировать, можно ничего не знать о них, о их призвании,
их образе жизни, их свидетельстве. Но они существуют, они принадлежат
не к XII веку, а к нашему, и в то время, как мы считаем, что времена
монахов минули, и многие из нас не задумываясь складывают истины
веры на полку средневековых мистерий и басен, каждый день молодые
люди, здоровые телом и душой, стучатся в двери обителей молитвы
и просят одежды, которая так поражает туристок на Сен-Мишеле.
Ибо человек нашей эпохи не всегда и не исключительно увлечен техникой
— будь то индустриальной, социальной или сексуальной.
Ему случается ощутить всю значительность своей судьбы — и налагаемого
ею венца...
* * *
Путешествие по главным монашеским орденам нередко порождает свежие
переживания, как в разведывательной экспедиции. Незачем пересекать
моря или даже преодолевать большое количество километров: часто
бывает достаточно перейти из одного монастыря в другой, чтобы тебе
показалось, будто ты попал на другую планету. Расстояние от иезуита
до францисканца столь же велико, как расстояние от марсианина научно-фантастических
романов до неисправимого мечтателя, чье исконное обиталище на Луне.
Они различны по всему — по характеру, по мышлению, по одежде и по
стилю поведения. На всех широтах скромный францисканский дом как
бы заключает в своих стенах из красного кирпича немного веселого
тосканского солнца, а прямоугольная иезуитская постройка представляет
воображению не больше простора, чем деловая картотека. Подготовленный
к деятельности четырнадцатью годами интеллектуальной и нравственной
тренировки, иезуит покидает свою школу с импульсом и скоростью торпеды:
он взорвется, где прикажут — снаряд не выбирает своей цели.
Переходя от иезуита к меньшему брату святого Франциска Ассизского,
вы попадаете со стрельбища в золотистую страну красочной книжной
миниатюры. И какой восхитительный сюрприз для путешественника, который
отведает, — о, едва прикасаясь губами, как экзотическое блюдо, —
сладости бенедиктинского мира и белоснежной ясности картезианского
созерцания. Рядом с этим земным миром, который всеми силами стремится
к полной стандартизации граждан, которых статистические институты,
кстати, уже считают стотысячными пачками, монашеский мир настолько
разнообразен, что уместнее было бы говорить о духовных мирах. Общеизвестное
изречение гласит, что "характеры проявляются в чрезвычайных
обстоятельствах" постоянного молчания и поста, одиночества
и подвига; богатство и разнообразие характеров, родившихся в этой
героической борьбе, не поддается описанию.
Глава вторая
Ордена в церкви
Если можно, без излишка юмора, сравнить Церковь с "авторитарной
республикой", в которой президент — Папа, а белое духовенство
— административный аппарат, то можно сказать, что в католической
Церкви монашеские ордена занимают приблизительно положение организованных
сословий; одни представляют преподавательский состав, другие — магистратуру,
иезуиты — армию, доминиканцы — университет, а роль чисто созерцательных
орденов можно сравнить с ролью больших кредитных учреждений или
тех привилегированных банков, которые называются "эмиссионными".
Аналогия, конечно, отдаленная. Необходимо хотя бы одухотворить
сравнение. Трапп, Шартрез, Кармель похожи на банки постольку, поскольку
эти последние, не занимаясь непосредственно никакой коммерческой
или промышленной деятельностю (в банке ничего не производят), сохраняют
значительное влияние на организм общества: Трапп, Шартрез, Кармель
имеют аналогичное влияние на духовную^ экономику Церкви, ничем более
не участвуя в ее видимой деятельности. Место, отведенное там деньгам,
здесь занимает молитва и биение внутренней жизни.
Если Общество Иисуса можно сравнить с армией, так это в силу образцового
повиновения, которого оно умеет добиваться от своих членов, и главное,
в силу особого обета послушания Святейшему Престолу, который позволяет
Папе располагать им по своей воле то для основания университета,
то для учреждения миссии, то для какого-либо апостолического или
благотворительного начинания, подобно тому, как генерал указывает
цель своим войскам и направляет их по потребностям своей стратегии;
готовое занять любую позицию по приказу Рима, Общество Иисуса так
же готово очистить ее при первом контр-приказе, оставляя предпринятое
начинание или завоеванную территорию с простотой солдата, сменяющего
боевой участок или гарнизон. В пьесе "На земле как на небе"
дан хороший пример этого послушания военного образца. Тема этой
пьесы Фрица Гохвальдера известна: по политическим причинам, плохо
прикрашенным богословием, посланник Ватикана требует, чтобы иезуиты
уступили жадности жестоких и грубых колонизаторов те территории
Южной Америки, которыми они мудро управляют на благо туземцев. Надо
ли покориться или ослушаться Папы и против его воли продолжать удачное
начинание, конец которого жители встретили бы с отчаянием? Театральный
персонаж колеблется перед этим тежелым выбором в течение трех часов.
Настоящий же иезуит задумается над этим, уже собрав пожитки и стоя
на пристани в ожидании корабля.
* * *
Не говоря об армии иезуитов, которые находятся в специальном распоряжении
Святейшего Престола, все Ордена зависят от Рима, так же, как и все
христиане, но более непосредственным образом, так как привилегия
"ставропигиальности" избавляет большинство из них от контроля
правящего епископа. Однако под сенью Ватикана власть Секретаря Конгрегации
по вопросам монашествующих не многим больше власти начальника кабинета
в Елисейском Дворце. Монахи пользуются самоуправлением по Уставу,
одобренному Римом десять лет или десять веков назад, и который делает
каждый Орден своего рода независимым княжеством или входящей в федерацию
республикой в лоне Церкви. Каждый Орден имеет в Ватикане своих представителей,
где они действуют почти как послы. Но наряду с этим дипломатическим
представительством они поставляют Святейшему Престолу две трети
"консультантов" Конгрегаций и большую часть преподавательского
состава римских "колледжей". В политической области государственный
строй Соединенных Штатов представил бы наиболее близкую аналогию;
федеральные штаты с их традициями, обычаями и собственными законами
зависят, однако, от центральной власти и сами участвуют в управлении
Союзом, не теряя, в пределах своей территории, своих частных прерогатив
в правовых вопросах. Но, чтобы сравнение было удовлетворительным,
порядок местного управления должен был бы настолько же отличаться
в каждом штате, как он изменяется от Ордена к Ордену.
* * *
Бенедиктинский режим, например, монархичен. Бенедиктинский аббат
обладает полнотой власти и правит своим монастырем до конца жизни;
все монастыри святого Бенедикта представляют небольшие независимые
уделы, весьма условно объединенные жезлом "председательствующего
Аббата". Доминиканцы, напротив, явные демократы. У них на всех
ступенях практикуется принцип избрания на определенный срок, и сходство
с нашей системой они довели до того, что весьма часто меняют правительство,
т.е. приоров и провинциалов. Тем не менее доминиканская демократия
существует уже около восьми веков: такая необыкновенная долговечность
объясняется, вероятно, обетом совершенства, который произносят избиратели.
Образ правления картезианцев — аристократического стиля. Настоятель
(приор) картезианского монастыря избирается пожизненно, как и бенедиктинский
аббат, но, в отличие от последнего, безраздельно правящего своей
обителью и ни перед кем не отчитывающегося, картезианский приор
подчиняется "генеральному капитулу" — ежегодному и полномочному
собранию настоятелей всех монастырей ордена.
Что касается иезуитов, их понимание власти выражается в избрании
трех "кандидатов", из которых Папа выбирает "генерала"
Ордена, а генерал назначает затем на все должности.
Таким образом, в монашеском мире одновременно практикуются основные
классические формы правления, которые политический мир обычно считает
несовместимыми. В большинстве Орденов они даже сочетаются. Бенедиктинский
аббат-монарх избирается всеобщим голосованием — двухстепенными выборами.
Он такой же пленник своего Устава, как английский король — пленник
британской традиции, а доминиканцы потому могут слыть демократами,
что у них правительственные функции ограничены временем. В монашеском
обществе демократический, аристократический и монархический принципы
до того смешиваются, переплетаются и сталкиваются, что трудно различить,
какова доля каждого из этих принципов в замечательном равновесии
всего сооружения. Во всяком случае везде в основе власти лежит принцип
свободных — и тайных — выборов. Картезианец голосует, как мы с вами,
хотя предвыборная кампания в его монастыре мене шумная, чем на наших
улицах. Не увидишь, чтобы кандидат на настоятельство чокался за
свой будущий мандат, по той простой причине, что никто не выставляет
своей кандидатуры. Вместо шести недель предвыборного красноречия,
банкетов, разъездов избирательной кампании, картезианским выборам
предшествуют три дня поста и усиленного молчания. Это — конец общественных
собраний. Всякое предварительное тайное совещание запрещено, чтобы
под предлогом осведомления не смутить суждения избирателей. И, наконец,
уставы общины приглашают голосующего помнить следующее: "Если
из двух возможных настоятелей один более сведущ в делах временных,
а другой — более духовен, надо выбирать последнего".
Монашеские нравы во всем — или почти во всем — противоположны нашим.
В то время, как какой-нибудь продажный "избранник народа",
каковы бы ни были размеры полученных им "подарков", может
помереть с уверенностью, что хоть кто-то из его коллег "отдаст
должное его подлинному бескорыстию", в картезианских монастырях
приводят следующий образец надгробного слова над останками одного
из руководящих членов Ордена: "Это был бы сносный монах, сумей
он победить в себе некоторый инстинкт собственности, сам по себе
уже совершенно прискорбный, но особенно неуместный при избранном
им образе жизни". Такого идеала совершенства у нас нет, оттого-то
мы, в отличие от картезианцев, и имеем удовольствие хоронить все
только великих людей.
Глава третья
Денежный вопрос
Поскольку ордена обладают собственной организацией и правительством,
само собой разумеется, что они располагают и своими финансами, распорядитель
которыми обычно носит титул "прокурора". Должность эта,
отнюдь не возбуждающая зависти, никогда не бывает целью соревнования.
В монастырь поступают не для того, чтобы проявлять свои деловые
способности. Превосходный монах-траппист, которому выпала ответственность
такой высокой должности, сначала послал друзьям письмо с просьбой
— вполне естественной — "молиться за него", а вдогонку
спешно послал второе, отменяя первое и умоляя, по зрелом размышлении
"молиться за монастырь", оказавшийся вследствие его выдвижения
в большей опасности, чем он сам.
Настоящий монах безропотно принимает почести, желая, чтобы испытание
было коротким, и принимает известие о своем смещении как милость.
У иезуитов, кстати, автоматическое "понижение в чине"
входит в технику "закалки": "офицеры ордена периодически
возвращаются в "рядовые" (и не всегда выходят оттуда снова).
Никому никогда не удавалось исчислить средства орденов, хотя эта
интересная работа часто предпринималась
— с надеждой — государственными финансистами, не сводящими концов
с концами.
Бенедиктинцы слывут — разумеется, коллективно — крупными землевладельцами,
что довольно легко объясняется устойчивостью их монастырей, где
никакие притязания не грозят разделом общему наследству. Это до
некоторой степени семья, где еще считаются со старшинством.
У траппистов есть земли, но не больше, чем они в силах обработать
сами. Траппистский монастырь живет насколько возможно, как "экономическая
автаркия": монастырь в Сито при помощи миниатюрной плотины
вырабатывает даже собственную энергию. Образцовые фермы быстро обогатили
бы траппистские монастыри, и, если бы трапписты не следили тщательно
за ограничением своих доходов, налаженность их работы, простота
жизни, наконец, их терпение обеспечили бы им такие преимущества
в любой конкуренции, которые привели бы их к господству над целыми
областями.
Картезианцы также имеют некоторые владения, расположенные, как
у траппистов, в окрестностях монастырей. Поскольку первые избирают
местом жительства дикие долины, а трапписты обосновываются предпочтительно
в болотистых местах, которые они умеют делать замечательно плодородными,
те и другие без труда создают обширные владения из этих пустырей,
которые никто не думает у них оспаривать. Но основной доход картезианцев
— это знаменитый эликсир, широко известный зеленый или желтый ликер,
производимый на ультрасовременном винокуренном заводе в Вуароне,
тысячи ежегодных бутылок которого носят невозмутимый девиз ордена:
"Stat crux dum volvitur orbis" (крест пребывает, в то
время как мир проходит) — двойной символ постоянства и изменчивости,
первую часть которого на опыте проверяют сами отцы, а вторую — их
клиенты.
Что касается тех орденов, чей образ жизни не привязывает их к обрабатываемой
ими земле, то их средства существования чрезвычайно разнообразны.
Иезуиты пользуются доходом от некоторых аристократических учебных
заведений, от трудов, публикуемых Обществом, от капиталов, которые
достаются им дарственным путем или по наследству, и которые в ведении
иезуитов, проявляющих осмотрительность и рассудительность не только
в вопросах богословия, в конечном итоге представляют фонд, регулярно
превращающийся в новые начинания.
Францисканцы и доминиканцы, называемые "нищенствующими"
за их первоначальный Устав, запрещавший им чем-либо владеть, не
то что буквально предаются нищенству на дорогах; но их неопределенные
финансы оправдывают и сейчас, хотя бы отчасти, почетный евангельский
титул, пожалованный им Средневековьем. Источники их доходов приблизительно
те же, что и у иезуитов, но говорят, они больше зависят от щедрости
некоторых своих жертвователей.
* * *
Оставляя в стороне нищенствующих, так ли уж богаты ордена, как
утверждает пропаганда их противников и как с вожделением воображают
государственные режимы, истощившие свои финансовые средства? Признаться,
банкротство в их истории — редкое явление, более редкое, чем ограбление
и экспроприация. Надо сказать, что монах способен в течение многих
лет без жалоб переносить недостаток во всем; его жизненный уровень
один из самых посредственных в мире, и когда монашеский Совет решается
изложить свои пожелания, то обычно лишь ради того, чтобы получить
разрешение усилить аскетизм Устава. Однажды делегация монахов одного
созерцательного ордена — самому молодому из них было около 80-ти
лет — явилась перед воротами Ватикана, умоляя Папу отказаться от
смягчения строгостей, которое он собирался им даровать; их престарелый
возраст, — говорили они, — достаточное доказательство мягкости их
режима. При таких условиях денежный вопрос встанет, действительно,
только в крайнем случае.
Большинство орденов прошло через периоды пышности, некоторые из
них были богаты настолько, что вызывали возмущение и глухой гнев
бедняков — или великих святых, вроде Бернарда Клервоского, который
клеймил роскошь аббатов Клюни с такой полемической силой, что его
жизнеописатели до сих пор от этого в ужасе (следует добавить, что
наш благочестивейший и чистейший святой Бернард легко усматривал
признаки сибаритства даже там, где мы бы увидели лишь покаяние и
отречение). Но мы далеки от этого. Время "прибылей" прошлого,
аббаты больше не собирают податей, теперешние монахи живут бедно.
Аббаты Клюни кончились. Нет больше и святых Бернардов.
Глава четвертая
"Тест" святого Бенедикта
Монашеская традиция, — гласят справочники — родилась где-то в III
веке от "отшельников" или "анахоретов", влюбленных
в одиночество и "которые столь ненавидели любое общество, —
добавил некогда один шутник-автор, — что укрывались среди скал,
как только замечали ящерицу". Времена мучеников завершились,
конец гонений оставил героизм без применения, короче — христианской
жизни грозило сделаться пресной.
И тогда сильные духом люди стали покидать города Империи, где Церковь
проводила мирные дни социального конформизма; они уходили в пустыни
Ближнего Востока и преподавали миру тройной урок собранности, молчания
и умерщвления плоти, который с тех пор беспрерывно повторяется в
"школах божественного служения", называемых "монастырями".
Это было время величайших отцов-пустынников, которые высятся у начала
христианских времен точно огромные столпы молитвы. Отшельник никогда
долго не остается в одиночестве;
молва приводит к нему бесчисленных любопытных, а благодать — несколько
друзей. В течение тридцати лет, которые святой Симеон Столпник провел,
водрузившись на столп высотой в 18 метров (исторически проверенный
факт), тысячи зевак прошли у его ног, чтобы поглядеть, как он грызет
свой еженедельный капустный лист и между небом и землей устанавливает
рекорд покаянного подвига, который не скоро будет побит. Следующее
состязание столпников состоится не вдруг.
"Смотреть отшельника" отправлялись как ездят по воскресеньям
в аэропорт Бурже смотреть "человека-птицу", и меня не
удивило бы, если для присутствия при мистическом взлете первого
надо было брать билеты, как сейчас — для наблюдения за приземлением
второго. Впрочем, в этих восхищенных, но и несколько возмущенных
толпах (хроника сохранила следы их возражений) слышались те же замечания,
что и сегодня, насчет "бесполезности" этих аскетических
достижений, которые лишали Церковь атлетов веры, чьи силы лучше
бы использовать в миру. Поговаривали — уже тогда — о "побеге",
"бегстве в пустыню" — выражение, породившее неприятное
слово "дезертирство" (по-4)ранцузски "пустыня"
— "дезер". Прим. пер.). Ибо туристы религии всегда
смешивали дезертира, бегущего с поля боя, и отшельника, который,
напротив, бросается на приступ с такой стремительностью, что оказывается
один на "ничейной земле". Один монах, которому говорили,
что мир недолюбливает этих созерцателей, как будто равнодушных к
ближнему и отправляющихся — когда они "соль земли" — солить
песок в пустыне, с улыбкой ответил:
— Знаете, так легко считать себя солью земли, но в один прекрасный
день оказывается, что мир находит вас приятно-сладенькими...
* * *
Но отшельничество с его суровыми подвигами возбуждает не только
любопытство, оно пробуждает и признание. Уходя, воскресный прилив
зевак оставляет на песке несколько ракушек... Хибарки анахоретов,
этих "карьеристов святости", начинают расти как грибы,
и в одно прекрасное утро обнаруженный экс-пустынник оказывается,
сам того не желая, наставником и главой общины. Достаточно того,
чтобы пять-шесть пустынников разделяли пропитание, читали вместе
несколько молитв, поставили ограду от навязчивых людей и от диких
зверей или для символического обозначения периметра своей "духовной
территории", — и вот вам наметка монастыря, который вскоре
почувствует необходимость иметь законы, — которые станут Уставом,
— и привести своих членов к принятию некоторых неотменимых обязательств,
— которые позднее назовут "окончательными обетами". Тем
самым совершился переход от отшельничества, которое лишь частично
сохранилось у картезианцев и кармелитов, к киновии, общежитию, ставшей
всеобщей формой монашеской жизни.
* * *
С этого все и началось. Пришлось Церкви вмешаться и кодифицировать
новый род христианской жизни, который производил не только святых.
В то время, как отцы-пустынники и ревнители их жизни доблестно простирали
все дальше свой подвиг, анахореты менее "качественные"
потихоньку скатывались в ленивое существование "без иного закона,
— говорил святой Бенедикт, — кроме удовлетворения своих желаний,
называя святым все, что ими изобреталось или решалось, и объявляя
недозволенным то, что им не подходит". Поэтому любителям общежития
решено дать законы.
Величайшим монашеским законодателем в VI веке был Бенедикт Нурсийский,
бывший отшельник пещер Субиако, осаждаемый учениками (ему пришлось
распределить их по 12 общинам), в лице которого Церковь прославляет
"Патриарха западных монахов" и Устав которого остается
шедевром произведений этого рода. Это, в 72 замечательно сжатых
статьях, сборник нравственных или практических наставлений, с точностью
отвечающий на все вопросы монашеского звания, определяющий в нескольких
бессмертных строках место молитвы, труда и отдыха в жизни, посвященной
Богу. Эти краткие страницы содержат "краткий курс духовности",
кодекс управления монастырем и ряд христианских определений, столь
ясных и совершенных, что они дали большинству крупных орденов основу
их созерцательной жизни.
* * *
С VI по XII век все монахи Востока и Запада были "созерцателями".
Нельзя было себе представить, чтобы собственно монашеская жизнь
могла принять иную форму, кроме созерцания, которое вовсе не doice
farniente, баю-кание метафизическими мечтаниями и сонными "отчена-шами".
Несовместимость "мира" и христианства представлялась тогда
настолько очевидной, что подлинно религиозным умам казалось совершенно
естественным покинуть мир ради осуществления христианской жизни;
"спасаться в миру" считалось предприятием если не невозможным,
то, во всяком случае, весьма гадательным и рискованным, в противоположность
почти единогласному мнению современных христиан; они, впрочем, гораздо
меньше интересуются собственным спасением и гораздо больше — спасением
соседа, которого они стараются "вернуть к христианству"
всевозможными смелыми приемами, при нужде — за счет собственной
дехрис-тианизации. Во всяком случае, на протяжении 72-х пунктов
своего Устава святой Бенедикт ни разу не утруждает себя попыткой
оправдать образ жизни, ценность, совершенство и даже необходимость
которого никто из всерьез верующих не ставил под сомнение.
Сегодня — увы! — мы совершенно уверены, что люди VI века заблуждались,
и нет ничего труднее, как оправдать призвание к созерцательной жизни.
Бесполезно говорить, что эти неподвижные и жившие в затворе монахи
в действительности, как то доказывает история, обратили в христианство
Европу, тогда как вся наша благочестивая суета не мешает ей быстрым
темпом терять веру; люди остаются недоверчивыми перед этим чудом
статического апостолата и упорно считают монастырь созерцательного
образца жизни последним убежищем праздности, слабости и эгоизма.
Что поделать? Современный мир не понимает, что труднее стать христианином,
чем радикал-социалистом, он не имеет ни малейшего понятия о кровавой
битве, которую христианину приходится вести день за днем с самим
собой, если он хочет остаться верным духу христианства: короче говоря,
современный мир не читал 72 наставлений IV главы Устава святого
Бенедикта, которые указывают душам, стремящимся к идеалу, способ
достойно продвинуться.
Вот они в их ослепительной простоте:
1. Любить Господа Бога всем сердцем, всей душой, всеми силами.
2. Любить ближнего, как самого себя.
3. Не убивать.
4. Не предаваться блуду.
5. Не красть.
6. Не завидовать.
7. Не лжесвидетельствовать.
8. Уважать всех людей.
9. Не делать другим того, чего бы мы не желали себе.
10. Отвергаться самого себя.
11. Умерщвлять свою плоть.
12. Не привязываться к тому, что приятно чувствам.
13. Любить пост.
14. Облегчать участь бедных.
15. Одевать нагих.
16. Посещать больных.
17. Хоронить мертвых.
18. Поддерживать находящихся в испытании.
19. Утешать печальных.
20. Чуждаться мирских нравов.
21. Не предпочитать ничего любви Христовой.
22. Не предаваться гневу.
23. Не помышлять о мщении.
24. Не хранить в сердце лукавства.
25. Не давать ложного мира.
26. Не оставлять милосердия.
27. Не клясться, чтобы не оказаться клятвопреступником.
28. Быть правдивым сердцем, также как и устами.
29. Не воздавать злом за зло.
30. Не терпеть неправды, но с терпением переносить ту, что будет
сделана нам.
31. Любить своих врагов.
32. Отвечать на проклятие не проклятием, а благословением.
33. Терпеть гонение за правду.
34. Не быть надменным.
35. Не быть пристрастным к вину.
36. Не быть жадным к еде.
37. Не быть любителем поспать.
38. Не быть ленивым.
39. Не роптать.
40. Не клеветать.
41. Полагать надежду на Бога.
42. Приписывать Богу то доброе, что найдешь в себе.
43. В зле всегда обвинять самого себя.
44. Помнить о судном дне.
45. Страшиться ада.
46. Всеми силами души стремиться к жизни вечной.
47. Всегда помнить о смерти.
48. Всегда следить за своими поступками.
49. Быть уверенным, что Бог видит нас везде.
50. Разбивать о Христа все недобрые мысли, как только они возникают
в сердце.
51. И открывать их старцу, опытному в делах духовных.
52. Хранить уста от всякого злого слова.
53. Не любить многословия.
54. Не говорить праздных слов.
55. Не любить слишком часто и громко смеяться.
56. Охотно внимать духовному чтению.
57. Часто предаваться молитве.
58. Каждый день в молитве со слезами исповедовать Богу прошедшие
прегрешения и впредь от них исправляться.
59. Не исполнять пожеланий плоти.
60. Ненавидеть свою волю. Во всем повиноваться наставлениям игумена,
даже если — избави Бог — он противоречит себе делами, помня завет
Господень:
"Что они говорят, то делайте, по делам же их не поступайте".
61. Не стараться прослыть святым, прежде чем станешь им.
62. Каждый день исполнять жизнью заветы Господа.
63. Любить чистоту.
64. Избегать ненависти.
65. Не ревновать и не поддаваться зависти,
66. Не любить споров.
67. Избегать почестей.
68. Почитать старших.
69. Любить младших.
70. Молиться за врагов, в любви Христовой.
71. До захода солнца мириться с теми, с кем разделила нас распря.
72. Никогда не отчаиваться в милосердии Божием.
Таковы 72 предварительных лозунга из кодекса бенедиктинской святости.
Едва ли десяток из них можно найти в повседневной средней нравственной
практике.
* * *
Увлекаетесь ли вы тестами?
Отметьте красной точкой те пункты, которые вы выполняете систематически.
Если, по совести, вы насчитаете минимум пять красных точек, из
вас может выйти превосходный депутат Христианско-Демократической
партии.
При двадцати красных точках вы можете давать хорошие советы; при
36 — обычная нравственность для вас уже только далекое воспоминание:
вы начинаете не слишком морщась вращаться в высших сферах любви.
Но если вы достигнете 72-х красных точек, то святой Бенедикт просто
скажет, что можно надеяться когда-то сделать из вас сколько-то духовного
человека. Прибавьте к этому списку элементарных предписаний восемь
часов ежедневной общей или келейной молитвы, восемь часов работы
на полях (как трапписты), в библиотеке или в мастерской (как бенедиктинцы)
и у вас будет представление о том, что называется "созерцательной
жизнью". Для праздности нет ни часа, слабости лучше поискать
другое убежище, а эгоизму там — Боже мой! — не по себе, и это наименьшее,
что можно сказать.
* * *
Но противоположный тест столь же показателен. Можно отметить синим
карандашом те заповеди святого Бенедикта, которые современное воспитание,
ходячая мораль, наконец обычай, считают устаревшими, безосновательными,
абсурдными или невозможными.
Обратная проверка дает поразительные результаты. Умеренный христианин
констатирует, что половина его христианства списана в расход, а
вместо нее мало-помалу установилась полурелигия или своего рода
самодеятельная антирелигия, принципы которой никто и никогда не
определял.
Перед скудным итогом красных точек он только что удивлялся, что
бредет так далеко от совершенства. Перед синими точками он обнаружит,
что совершенство не только недостижимо, но что, по правде говоря,
он его вовсе и не желает.
Глава пятая
Солемское аббатство молится
Для того, чтобы электрифицировать какой-то район, начинают с постройки
плотины. Монастырь с его оградой — тоже плотина: как вода в искусственном
водоеме, внешняя жизнь скапливается за его стенами, которые позволяют
просачиваться тому, что необходимо для питания разумной производительности.
Монастырь превращает в молитву и возвращает миру в виде духовного
света то, что получает от него двигательной силой.
Электроцентраль называется также "станцией": электричество
приходит быстро, но не вырабатывается на бегу; также и духовная
энергия.
Так, плечо к плечу с белым духовенством, "монахи-просветители"
святого Бенедикта с их бесчисленными созерцательными "станциями",
"Днепрогэсом" которых было знаменитое аббатство Клюни,
электрифицировали — простите: христианизировали — Европу. Сейчас
мы плохо представляем себе объем этого чуда.
Кто расплачивается с долгами — богатеет. Полезно было бы подсчитать,
чем старушка-Европа находится в долгу перед своими бенедиктинскими
монахами, начиная с многочисленных и разнообразных материальных
благ? В книге "Монахи Запада" Монталамбер перечисляет:
умение акклиматизировать экзотические фрукты и повышать урожайность
семян, умение разводить пчел, приготовлять пиво из хмеля, открытие
искусственного оплодотворения рыб и создание пармезанских сыроваренных
заводов. Их заслуга — разведение виноградников на холмах Бургундии
и в долине Рейна; наши крестьяне и скотоводы обязаны им множеством
профессиональных открытий. Средневековый монастырь это "экономическая
держава, очаг благотворительности, социальный организм..."
Щедрость монастырей была сказочной. Аббатство Клюни содержало ежегодно
семнадцать тысяч бедняков. Каждый монастырь, в соответствии со своими
возможностями, брал на себя регулярное оказание помощи: "милостыня
каждый день"; "милостыня трижды в неделю"; "милостыня
всем прохожим"; "общая милостыня по воскресеньям";
"подаяние всем, кто попросит".
К материальным благам история добавляет более возвышенные блага
образования, правосудия и мира. Это учат в школе, где-то в шестом
классе, но затем, по-видимому, это забывается, ибо вопрос о пользе
монахов ставится без конца, как будто в их жизни труд не занимает
столько же места, как в нашей, как будто ручной труд, считавшийся
в античном мире рабским, был признан благородным начиная с Карла
Маркса, а не с верстака праведного Иосифа, ремесла апостола Павла
и Устава святого Бенедикта.
Известно также, что монахи добросовестно передали нам греческое
и латинское просвещение, которое прошло через Средние Века, не сумев,
видите-ли, просветить ни одного ума; и они не подозревали, что мы
будем благодарны им больше за сохранение пошлостей Овидия, чем за
полученное через них христианство — детьми которого мы являемся.
Люди неблагодарны.
* * *
Правда, под тройным шефством, которое она составляет с Эволюцией
и Прогрессом, История наша написана столь странно! Почитать ее —
так и видится, что отважные гуманисты Возрождения, с риском для
жизни, силой захватывали сокровища языческой словесности, зарытые
и яростно защищаемые драконом обскурантизма, — тогда как им достаточно
было нагнуться и подобрать обрывки Горация и Цицерона на каждой
лужайке после пикника бакалавров средневековых университетов. Трудно
объяснить себе, зачем монахи того времени надрывались над переписыванием
текстов античного мира, если Средневековье относилось к ним, как
то ему приписывается, с таким страхом, смешанным с отвращением.
Нужды нет! Мы по-прежнему будем присуждать честь их открытия запоздалым
пионерам Возрождения, согласно учебникам истории, приглашающим нас
почтить их озябшие, остроносые фигуры в ночном колпаке — ибо эти
отважные поборники просвещения были не слишком-то бравого вида;
и неизвестно, отчего спины их были столь согнуты: от научного прилежания
или от поклонов в приемных сильных мира сего. А если приходится
все же проявить немного благодарности к монахам-переписчикам, то
это делается в виде насмешливой полупризнательности, как неуклюжему
человеку, невольно оказавшему вам услугу...
* * *
Ну, что ж, — нам, кажется, суждено все время и без конца ошибаться.
Мы подозреваем, что монахи спят, когда они бодрствуют, что они ничего
не делают, когда они работают; мы воображаем, что они страшатся
того, что мы называем "жизнью", а они боятся лишь того,
что они зовут смертью; мы предполагаем, что мир их пугает, — а он
импонирует им не больше, чем пьяница — Обществу Трезвости.
Вероятно, нет ни одного момента в их жизни, их призвании, их психологии,
который наше суждение не исказило бы. Мы их представляем себе то
мрачными, то слишком веселыми; то копающими собственную могилу (по
Шатобриану), то за пирушкой (по Рабле) — трудно совместимыми занятиями
— и получается, что население монастырей это пошатывающиеся призраки,
приветствующие друг друга погребальным "Умрем, брат!"
с хорошей бутылкой под мышкой. Что нам за дело, если мы себе противоречим!
Высмеяв леность монахов, мы тут же отдаем честь какому-нибудь кропотливому
труду, непринужденно называя его "трудом бенедиктинца".
Грубияны, падкие на распутство, несчастные существа, испуганные
радостным сверканием мира — вот наши монахи. Мы никогда не видим
их такими, каковы они в действительности: добродетельными, вполне
уравновешенными, простыми и обычно улыбающимися.
* * *
Благодаря Небу — наши заблуждения не мешают монашеской жизни, начало
которой положил в VI веке некий Бенедикт из Нурсии, плохо известный
современным энциклопедиям (они ошибочно именуют его священником);
она продолжается на основании Устава — незыблемого памятника мудрости,
в котором Революции, Возрождения и все возмущения человеческого
ума не разбили даже оконного стекла.
В двадцати монастырях, девятьсот бенедиктинцев французской Конгрегации
ведут уединенную, мирную, полную прилежания жизнь своих далеких
средневековых братьев, снабжая Церковь богословами, а мир, который
об этом не подозревает, — юристами, историками и учеными-палеографами.
Их библиотеки всегда — самые богатые, а поскольку они люди серьезные
и опытные, их читальные залы построены из железобетона с железными
стеллажами, чтобы лучше противостоять стихийным бедствиям и развитию
военного искусства, так что эрудиты следующего Возрождения будут,
по всей вероятности, еще раз собирать мед в бенедиктинском улье.
Они бодрствуют, постятся, соблюдают молчание; и если огромное развитие
нашей промышленности чревоугодия лишило их прежней роли придорожных
гостиников, они, тем не менее, упорно осуществляют во всем его поразительном
любвеобилии 53-ю статью своего Устава, которая вменяет им в обязанность
принимать гостя не как "посланца неба", но как "Самого
Христа", с благоговением и усердием, особенно если он беден,
nam divitum terror ipsi sibi exigit honorem, — говорит святой Бенедикт:
поскольку почитать богатых заставляет уже самый страх перед ними.
* * *
Жизнь бенедиктинца сосредоточена вокруг богослужения: семь раз
в сутки вереница Дедов Морозов в острых капюшонах возвращается на
хоры; они бесшумно скользят по-двое по каменным плитам храма, склоняются
перед престолом, низко кланяются друг другу, прежде чем разместиться
как в коробочках, по своим местам на хорах у алтаря.
Богослужение состоит из определенного числа псалмов, антифонов,
гимнов и молитв, рапределенных на "Часы" (утреня, первый
час, третий час, шестой час, девятый час, вечерня, повечерие), которые
составляют между восемью часами труда и восемью часами отдыха главное
дело из трех монастырских восьмичасовых "смен": "хвалу
Божию"; она для монаха — радость, основное назначение и самый
смысл существования.
Бенедиктинское богослужение всегда отличалось и величественностью
и пышностью. Некогда Opus Dei в Клюни происходил с величественностью
и блеском коронации. Церковь заимствовала основные молитвы своего
богослужения из этих великолепных служб, прославивших Орден и составивших
бенедиктинцам репутацию — до которой им дела нет — замечательных
организаторов духовных концертов. Раз-другой в году сливки общества
собираются в аббатствах святого Бенедикта, в частности, в Солеме,
распространяя и на грегорианское пение загадочную способность наслаждаться
всем, ничего не любя. Если вы хотите прилично выглядеть в свете,
надо послушать как солемские затворники поют в Рождественскую
ночь или в Пасхальное утро, так же как надо на слух узнавать
четвертую симфонию Белы Бартока и с одного взгляда — последнюю пачкотню
Пикассо. Конечно, бенедиктинцы не ответственны за это увлечение.
Они поют теперь, как и в XII веке, не для знатоков, а в честь Невидимого
Присутствия, и можно парадоксально сказать, что они поют прекрасно
потому, что иначе петь не могут.
Посредственность не переживает века; никакой аскет, как бы он ни
жаждал подвига, не мог бы петь то же самое два-три раза в день сорок
лет подряд, будь хоть малейшая возможность, что этот мотив набьет
оскомину. Красота грегорианского пения выдерживает бесконечное повторение
служб, потому что она безлична; эта музыка льется прямо из души,
не проходя через инструменты музыкальной композиции и обработки;
это излияние сердца, хвала, молитва, это не искусство.
Солем молится, а не дает концерты.
Глава шестая
Траппистская улыбка
С улыбкой брат-привратник встречает путешественника у входа в Сито,
и с улыбкой же отец-гостиник ведет его в комнату по тихим коридорам
гостиничного корпуса.
Улыбка — знак благожелательной радости. Она, кроме того, возволяет
сэкономить немало слов; у траппистов она с успехом заменяет обычные
банальности.
В конце концов, отец-гостиник тоже ведь давал обет молчания, и
хотя функции его дают ему официально право говорить, он не прочь,
за счет улыбки, сберечь несколько слов для исключительных случаев.
* * *
Улыбка и суровость, этот контраст, характерный для Траппистского
монастыря, начинается с монастырского порога и кончается, вероятно,
только в обители избранных, где улыбка завершается блаженством,
а суровость — совершенством. Тяжелые железные ворота ограды, которых
ничуть не облегчает надпись из блестящих металлических букв: О
beata solitudo — О sola beatitudo, открываются не на ряды кладбища
— как можно было бы предположить по их неприветливому виду, — а
на прелестные закоулки сада, опоясанного ручейком. Весь монастырь
полон таких сюрпризов.
Однако не надо доверять милой неге ручья: за садом он питает запруду
и приводит в движение турбину.
В Сито все трудятся, и парк не имеет служебных функций лишь потому,
что предназначен для посетителей.
* * *
"Ответвившаяся в XII веке мощная ветвь старого бенедиктинского
ствола", Цистерцианский орден, прозванный "траппистским",
получил это название от местности "Трапп" (Франция), близ
Мортани, где был основан первый монастырь этого рода.
Слово "трапп" означает по-французски люк в полу, который
внезапно открывается под ногами несчастного, проваливающегося в
него. Литтрэ (французский толковый словарь — прим. пер.)
успокоит вас: "Трапп" происходит в данном случае от слова
"трапп", что на местном наречии Мортани означает "ступень"
или же "пригорок", "холмик". Трапп — не дыра,
это возвышенность. Вполне возможно, что мрачная репутация ордена
целиком основана на этом маленьком недоразумении.
* * *
Бенедиктинцы одеты в черное, трапписты в белое. В Средние века
белый цвет был цветом священства. Бенедиктинцы в настоящее время
почти все — священники, но они сохранили черную одежду в память
своего основателя, который священником не был. Если они заслуживают
славное название "созерцательного ордена" в том смысле,
что их жизнь, посвященная молитве и умственным занятиям, не направлена
на непосредственную дятельность, то трапписты и картезианцы -— созерцательные
ордена по преимуществу.
Следуя буквально Уставу св. Бенедикта, они делят свое время между
богослужениями, духовным чтением и ручным трудом, выращивая урожаи,
и "как настоящие монахи живут от трудов рук своих". Они
никогда не выходят за границы своих владений и возможно реже — за
тесные пределы ограды, охватывающей монастырские строения и несколько
гектаров сада. Они встают в два часа утра, а по воскресеньям и праздникам,
когда служба длиннее, — в половине второго. В час первого метро
трапписты уже три часа молятся за вагоновожатого, который об этом
никогда не узнает на земле.
Молчание у них — абсолютный закон. Элементарный код знаков позволяет
им объясняться телеграфно. Например, соединив треугольником большие
и указательные пальцы, говорят "хлеб", быстро коснувшись
губ тыльной стороной руки — "понятно", проведя пальцем
вокруг лба линию воображаемой вуали или диадемы — "женщина",
а вино, с известным бургундским юмором, обозначают, приставив указательный
палец к носу.
Не знаю, почему это правило молчания кажется столь жестоким, особенно
дамам. Когда в гостинной на мгновение прекращается шум разговора
и не слышно даже позвякивания ложек, говорят "Ангел пролетел!"...
Его никогда не удерживают.
Трапписты же не отпускают его, вот и все.
* * *
Монашеское молчание — не наказание, и не думаю даже, что монахи
включают его в число самых тяжелых лишений.
Мне говорили, что монахи, которым настоятель неосторожно давал
разрешение открыть рот, тотчас же переходили от немоты к словоизвержению,
со стремительностью водопада, прорвавшегося в приоткрытый шлюз.
Ничего подобного: молчат ли монахи из дисциплины, из благоразумия
или по собственной склонности, но факт тот, что молчание есть благо,
с которым они расстаются, по-видимому, неохотно.
В них и вокруг них как бы устанавливаются воды прекрасного спокойного
озера, безмятежное зеркало, подставленное некоему пламенно-ожидаемому
Лику.
И не решаешься нарушить его ясность неуместным словесным плеском.
* * *
Во всяком случае, эта целеустремленная немота не омрачает характера.
Вы встречаете монаха в гостинице, в часовне, на поле: он вас приветствует
улыбкой. На повороте аллеи вы натыкаетесь еще на одного, погруженного
в чтение, звук ваших шагов заставляет его поднять голову, и опять
— милое сияние детской улыбки.
А увидя одного из них на коленях перед статуей Богоматери среди
цветов в саду, так и хочется подкрасться и быстро откинуть капюшон
молящегося. Но к чему? Он, конечно, улыбается.
* * *
"Брат" в коричневой одежде (в Сито — да и везде — "братьями"
называют монахов, не имеющих сана), которого я видел у верстака,
бывший столяр из соседней деревни.
Ему, пришедшему однажды в аббатство починять стулья, траппистский
монастырь пришелся, видимо, по вкусу, либо тишина что-то нашептала
ему на ухо; короче говоря, поставив на ноги последний стул, он уселся
на него и с тех пор не покидал монастыря.
Проходя мимо него, я, конечно, пополнил свою коллекцию улыбок редким
экземпляром, в котором светилась глубокая благодарность какому-то
таинственному благодетелю, которого я тщетно искал глазами вокруг
себя.
Улыбка — траппистская институция.
ДЕНЬ ТРАППИСТА
2 ч. - Подъем, одеяние: белая ряса.По праздничным дням
подъем в 1 ч. 30 мин.
2 ч. 05 мин. - В церкви малая служба затемвеликий канон
до 4 ч.
4 ч. - Каждый священник служит обедню.Затем три четверти часа
свободного времени.
5 ч. 30 мин. - Зала капитула. Отец Аббат дает наставления.
6ч.— Назад в дортуар, где каждьш монах располагает своего
рода альковом. Наведение порядка. Затем служба Шестого часа.
8ч.— Ежедневная торжественная обедня в присутствии всей общины.
Утренний завтрак.
9ч. — Выход в поле или на иную работу. Одеяние: белая ряса,
черная мантия, Монахи, исполняющие особые должности, расходятся
по своим местам.
11 ч. 30 мин. — Общая трапеза. Суп, овощи или молочное
блюдо, фрукты - или мармелад. Стакан вина, пива или
сидра. Мяса — никогда.
12 ч. 15 мин. — Час отдыха. Можно полежать или погулять в саду.
13 ч. 15 мин. — Работа в - поле, в мастерских или на ферме.
Оборудование — современное.
16 ч. 30 мин. - Вечерня в часовне. Монах возвращается на хоры
семь раз в день
17 ч. 15 мин. — Ужин: - овощи, сыр. С 15 сентября . до
Пасхи — 180 грамм хлеба и фрукт.
17 ч. 45 мин. — Перерыв:размышление в монастырской галерее
или ...
... чтение в библиотеке, богословский. доклад и т.. п.
18 ч. 30 мин. — Повечерие.
19 ч. — Отход ко сну. С Пасхи до 14 сентября отход ко сну в
20 ч.
Глава седьмая
Святой Бернар
Св.Бернар, которому Траппистский орден обязан если не основанием,
то, во всяком случае, лучшей частью своей духовности, — образец
французского рыцарства. Ему присущи все его достоинства: прямота,
верность, бескорыстие, а также, — что отмечают с уважением — почтенные
его недостатки, из которых самый известный — некоторая поспешность
обнажать шпагу.
Его вступление в Сито в 1112 году похоже на вступление полководца
в крепость: он явился во главе 25 юношей из бургундской знати, которых
его пламенная речь обратила, так сказать, с головы до ног. Красноречие
его — блестяще и остро как меч. Есть, говорит он с простотой гения,
души прямые и искривленные. Одни без колебания идут к высшему благу,
другие выбиваются из сил, бесконечно кружась в погоне за благами
мира сего: "Имеющий красивую жену будет смотреть оком или сердцем,
полным страсти, на более красивую женщину; кто носит дорогую одежду,
желает другой, еще дороже; и обладатель большого богатства завидует
тому, кто богаче его. Есть люди, которые владеют большими угодьями
и, однако, все время присоединяют к своим полям еще новые и неустанно
расширяют их границы из вожделения, которому никогда не будет конца.
Другие живут в царских чертогах или огромных дворцах и тем не менее
все время добавляют к прежним все новые... Они только и делают,
что строят и разрушают... Что сказать о людях, осыпанных почестями?
Разве мы не видим, как по какому-то ненасытному често^ любию они
всеми силами стремятся возвышаться больше?"
Нет конца "вожделению вещей, которые никогда не „огут — не
говорю: насытить, — но хотя бы умерить жадность... Так получается,
что блуждающий дух, тщетно носясь по различным и обманчивым удовольствиям
мира, устает и не насыщается; все, что поглотил этот голодающий,
кажется ему ничтожным в сравнении с тем, что осталось поглотить,
и он больше мучается желанием недостающего ему, чем удовлетворяется
уже обладае-мым". Ах, если бы он мог иметь все! Вероятно, обладая
всем сотворенным, он, наконец, дошел бы до Творца всего:
"Но, — с юмором говорит св.Бернар, — краткость жизни, немощь
сил человеческих и множество соискателей делают совершенно невозможным
такое всеохватывающее обладание", и для искривленной души нет
никакой надежды выйти из своего лабиринта пожеланий, кроме как устремившись
ввысь всеми своими силами.
Сам св.Бернар — лучший образец прямой души, о каком только можно
мечтать, — когда мечтаешь о рыцарстве. Его жизнь — отважная скачка,
без отклонений в пути, без оглядки назад или по сторонам; чтобы
он заметил Абеляра, того буквально надо было поставить на его пути;
тогда одним ударом копья он опрокидывает блестящего софиста в пыль,
протягивает ему руку, поднимает его и следует дальше.
Заболев (под его скамьей пришлось установить вомиториум — "рвотницу"),
он героически продолжает путь, не давая себе отдыха, подобно верному
подданому, превозмогая слабость, чтобы вопреки року явиться на зов
своего Властелина. По пути он проповедует в Везелэ второй Крестовый
поход, обращает к папе Евгению III (своему бывшему монаху) энергичные
наставления, порой граничащие с обличением, обменивается с альбигойской
ересью несколькими безрезультатными ударами шпагой, посвящает несколько
дивных молитв Госпоже своих помыслов, царствующей над ангелами,
и поет — иначе не скажешь — 70 проповедей на тему "Песни Песней",
которые дают его спутникам предвкушение рая, Церкви — прекрасный
памятник мистического богословия, а всему миру — веские основания
дивиться тому, что вера может сделать с любящим сердцем.
* * *
Но выдающаяся роль, которую совершенно естественно вынудила его
играть в тогдашнем обществе сила его гения, ничуть не увлекла его
душу. Его прямолинейная воля без остатка отвернулась от этой "земли
неподобия" (regio dissimilitudinis), где человек, обезображенный
злом, утрачивает образ своего Создателя, чтобы кратчайшим путем
достичь "Царства подобия", где душа, вновь обретя черты
своего утраченного достоинства, может, наконец, соединиться со своим
Господом, ибо св.Берна? был прежде всего сердцем влюбленным, и потому
вся душа его тянулась к безвестной монастырской жизни. Он был счастлив,
возвращаясь к ее тишине и умерщвлениям плоти; и можно думать, что
по возвращении из походов он охотно удвоил бы монастырские подвиги,
чтобы наверстать потерянное время. Кажется, что цистерцианская мистика
еще и сейчас носит отпечаток этой жажды компенсации. Траппистский
орден сильно подчеркивает покаянный подвиг, как бы считая, что его
аскетизм отстает от какой-то гигантской программы ограничений. Дело
в том, что он знает от своего блестящего рыцаря, что "мера
любви к Богу — любовь безмерная": ничто не кажется ему столь
страшным, как быть в этом отношении уличенным в скудости сердца.
С этим лозунгом, отвечающим на все, он унаследовал от св. Бернара
простоту нравов, усердное почитание Девы Марии, довольно-таки военный
стиль жизни, некоторую недоверчивость к проявлениям искусства для
искусства и к чисто спекулятивной мысли, вкус к духовной борьбе,
привычку не откладывать битву и какое-то дерзновение к отрешенности,
в чем, может быть, и заключается один из секретов его радости.
Глава восьмая
Призвание к монашеству по-траппистски
Принятие монашества требует трех предпосылок, а именно: "влечения",
"способности" и "призвания". "Влечение"
означает естественную склонность к затворнической жизни или к миссионерской
деятельности, а "способность" измеряется силами, уравновешенностью
и приспособленностью кандидата к жизни в общине. Что касается "призвания",
то само слово указывает, что оно не зависит от данного лица.
Но эти три предварительные условия, которые удовлетворяют богословов,
общественное мнение подменяет:
"несчастной любовью", — что соответствует "способности";
"отвращением от жизни", — что соответствует "влечению",
и "внутренней тревогой на основе метафизической тоски"
— искаженным отражением призвания. "Превратности судьбы"
— также элемент, пригодный для обращения, так что в глазах света
идеальный монах — это обманутый влюбленный, стремящийся похоронить
свою неврастению под обломками разума. Когда юноша выражает желание
сделаться монахом, то его решение, которое юный возраст несчастного
не позволяет объяснить превратностями судьбы или отвращением от
жизни, чаще всего приписывают жестокому разочарованию в чувствах.
Начинают "искать женщину". Если ее нет — заговаривают
о "метафизической тоске", а если метафизическую тоску
слишком уж трудно согласовать с обычно веселым и спокойным видом
обращенного, то, пожав плечами, говорят, что "его коснулась
благодать" — как начальник поезда под натиском жалоб ссылается
на "роковое стечение обстоятельств". Эти последние слова
— одна из тех высших формул вежливости, которыми "порядочные
люди" избавляются от затруднительных вопросов. Я знал людей,
которые, окажись они свидетелями случая с ап. Павлом на дороге в
Дамаск, когда ослепленный преследователь пал в прах к ногам Преследуемого,
сказали бы просто: "Ишь — еще одного коснулась благодать!"
— и успокоенные этой магической формулировкой, продолжали бы свой
путь, отнюдь не стремясь узнать, откуда берется эта благодать, которая
одних всадников выбивает из седла, а с других "снимает стружку"
тут же, в седле.
* * *
Конечно, случается, что обманутый влюбленный бросается в монастырь,
как бросаются в воду или на некоторые другие напитки, и всем известна
история юного беглеца в "Исповеди сына века", который
сообщил о своем прибытии настоятелю монастыря телеграммой: "Все
кончено. Прибываю завтра. Задержите келью". Но разочарование
в любви не делает монаха. В таком случае холодное прикосновение
келий немедленно приведет вас в чувство, и эти вновь обретенные
чувства заявят, что ваше место, без всякого сомнения, не здесь.
* * *
"Отвращение от жизни" никогда и никому не привило жажды
неба, а между тем именно по ней-то узнается подлинность призвания.
Разумеется, небо, о котором я говорю — не то, которое предлагают
нам кинокартины, изображая непригодный для жилья и даже негигиеничный
потусторонний мир, где серая когорта изнемогших от пения гимнов
избранников натянуто улыбается наподобие бродяг, напичканных компотом
и загнанных Армией Спасения в одно нескончаемое воскресенье. Трудно
представить себе, чтобы подобный эмпирей мог вызывать такие разительные
обращения, в результате которых заселяются созерцательные ордена,
в частности — траппистский, сборный пункт простых душ, сразу покоренных
раскрывшимся на мгновение Небом. Часто призвания к траппистской
созерцательности обнаруживаются неожиданно и самое поразительное
в них — внезапность. Призвание, видимо, не встречает ни сопротивления,
ни возражений. Согласие дается немедленно, без признаков внутреннего
раздумья, мгновенно, как превращение ап. Павла из гонителя в апостола.
Так бывает не всегда, но достаточно часто, чтобы наши психологи,
сбитые с толку благодатью, отказались понять и перестали даже осведомляться.
* * *
Многие пути ведут в Траппистский орден, но самый короткий, должно
быть, военный: у армии солидный гарнизон в Сито, в том числе немало
офицеров. Самый старший из них по чину почувствовал, как сапоги
и знаки отличия слетают с него рождественским вечером, когда после
веселой вечеринки, проведенной в кабарэ с более чем сомнительной
репутацией, он отправился с товарищами на традиционно-неизбежную
полуночную мессу, которая помогает переварить жирную снедь гражданских
и военных праздничных пирушек.
Здесь-то, под одновременный рев органов и праздничных весельчаков,
одним из таинственных превращений, которые мгновенно производят
в душе больше перемен, чем можно придумать за целую жизнь психолога,
армия лишилась многообещающего офицера, а Траппистский орден обогатился
монахом, которого он вскоре сделал игуменом. Недавно, впрочем, он
получил от своих собратьев разрешение сложить жезл и митру (настоятель
Сито облечен епископским саном), чтобы вернуться в рядовые.
В Сито генералы мечтают кончить простыми солдатами.
* * *
Траппистский орден — это тот, куда охотно вступают всей семьей.
Нередко случается, что в одно прекрасное утро на монастырской аллее
нос к носу дети сталкиваются с папой, а мама в это время в трех
километрах отсюда принимает постриг у траппистинок.
Мне называли несколько таких семей, "оклобученных" от
прадедушки до правнука.
Надо думать, что в некоторых случаях любовное разочарование наследственно.
* * *
Был то траппист или картезианец? Не помню, кто мне это рассказывал,
да это и неважно. Кончилось ли приключение в Сито или в Большой
Шартрезе, началось оно в окрестностях кабарэ Мулен-де-ла-Галет,
вечером на масленице. Очаровательный молодой человек, которому хотелось
тенцевать, бродил среди полумасок и фальшивых носов... Незачем спрашивать
себя о его внутреннем расположении. Ситуация, видимо, исключает
полностью разочарование в любви, метафизическую тоску и отвращение
от жизни, которые не побуждают к вальсу. Каково душевное состояние
юноши, у которого ноги просятся плясать? История сознается в своем
неведении. В воздухе парил приятный дух вафель и лимонада, в свете
фонариков кружились маски, молодой человек легким шагом отправлялся
танцевать...
И тут смешливая девица, пудрившая нос, заметила его в зеркальце
своей пудреницы. Что ее толкнуло? Но только она резко повернулась
к нему с пуховкой в руке: "Помни, — сказала задира, стряхивая
облако пудры в эту, по-видимому слишком серьезную для нее — и для
такого места — физиономию, — помни, что ты — земля и в землю возвратишься".
Благодать находит своих избранников где угодно, даже в кабарэ,
вечером на масленице. Редко, однако, она появляется из пудреницы.
Проказница никогда не узнала о последствиях своей "шутки".
Она увидела только, как незнакомец, столь мило напудренный ее стараниями,
повернулся на каблуках и исчез в темноте. Откуда ей было знать,
что ее взмах пуховкой навсегда отправил в монастырь молодого человека,
который собирался танцевать?
* * *
Многим родителям, впрочем превосходным, кажется, будто они теряют
свое дитя в тот самый момент, когда оно находит себя; и ему лучше
признаться в карточных долгах и в шести любовницах, чем в призвании
к траппистскому созерцанию.
Когда молодой Робер, работавший художником в весьма легкомысленном
еженедельнике, поделился с родными своим намерением поступить в
Сито, вся семья испустила крик ужаса. Выдвинули одну за другой обычные
гипотезы, которые все оказались ложными, после чего заговорили о
"приступе мистицизма" — юношеской болезни, которая, как
всем известно, проходит сама собой, если только ее не лечить; затем
о "Бегстве от жизни", с большой буквы, — последней увертке
любителя богемы, неспособного пробить себе дорогу и предпочитающего
вставать в два часа утра на богослужение вместо восьми часов — на
работу в конторе. Призвание — загадка (и всегда будет ею) для мира,
чья враждебность по отношению к высшим формам религиозной жизни,
разумеется, не смягчилась с той давней поры, когда Фома Аквинат
писал страницу за страницей, убеждая христианские семьи не чинить
препятствий освящению своих детей.
Молодой Робер был очень огорчен подозрением, будто он складывает
оружие там, где в блистании своего обращения он видел чудесное новое
начало. Ему было безразлично, что недооценивается его характер,
но ради траппистской чести и ради истины он не хотел, чтобы его
решение казалось жалкой неудачей человека слабого духа, тревожно
ищущего себе пристанища. Он собрал свои сбережения и отправился
с приятелем в Марокко. Друзья купили участок, строили, поднимали
целину, были каменщиками, земледельцами, дровосеками, вели суровое
существование бедных колонистов и не жалели сил, так что после двух
лет упорного труда урожай обещал быть богатым. Однажды днем товарищи
поднялись на холм, откуда открывался вид на все их владения, и поздравили
друг друга с успехом. Для одного это было начало материального благосостояния,
для другого — право отречься от него.
Доказав, что Траппистский орден не есть окончательный провал мазилы
любовных рисунков, истощившего свое озорство, молодой Робер передал
свою часть общего имущества компаньону, сел на самолет и снова перелетел
море. Два года жизни колониста и успех его предприятия не изменили
его решения.
Прибыв в Дижон, он счел уместным "похоронить холостяцкую жизнь",
и поскольку он был, как мы видели, не из тех, кто делает вещи наполовину,
он предал ее земле по всем правилам. Перед тем, как исчезнуть, художник
в нем потребовал "последнего стакана" осужденного; на
следующее утро он звонил у ворот Сито, выкуривая последнюю папиросу.
С тех пор прошло более двадцати лет. Сейчас у молодого Робера серебрятся
края тонзуры, и что вам еще сказать? — он, разумеется, улыбается.
Траппистский монастырь, одно название которого вызывает в представлении
устрашающие образы смерти, всегда являл мне лик чистого чада Благодати.
Глава девятая
Картезианцы
Из двух дорог, ведущих к Большой Шартрезе, более живописна та,
которая идет от Шамбери, вдоль русла Гийе-Мор, между двух стен,
покрытых буком, лиственницей, елью — последний ряд их поднимается
в небо на громадную высоту, как стрелы и башенки темного собора.
"Нет на свете, — говорит Стендаль, — другой столь прекрасной
долины".
Это не долина, это скалы, рассеченные мечом. В этом ущелье, которое
наполнено низким звучанием потока, дневной свет разбивается на тысячу
осколков, прицепленных на верхушках деревьев, выступах скал, или
тонкими капельками блистающих на колеблемой ветром листве. Мало-помалу
дорога отходит от потока, над которым она нависает, углубляется
в лес, возвращается на свет и изредка внезапно обрывается у подножия
скалы. Путешественнику кажется тогда, будто он провалился на дно
гигантского колодца. Подняв голову, он видит небо маленьким кусочком
голубой материи, развевающимся на верхушке мачты; стенки того и
другого берега сомкнулись вокруг него, сплетясь ветвями деревьев,
не представляя даже намека на проход. Невольно прибавляешь шагу,
и дорога открывает свой секрет: она пробирается под скалой, либо
проскальзывает в скрытом тунеле, за которым открываются новые колодцы,
новые светлые промежутки, которые, медленно расширяясь, идут до
просторных холмов Пустыни Большой Шартрезы, и тут, наконец, открывается
монастырь — безмолвный град на краю снегов.
* * *
Чтобы увидеть весь монастырь целиком, надо подниматься дальше еще
несколько минут. Тогда, между черными стволами елей, вскоре обнаруживаешь
на изгибе холма белый монашеский городок, над которым возвышаются
сверкающие вершины Альп. Покатость местности позволяет увидеть целиком
его 36 квадратных келий, расположенных вокруг главного монастырского
здания, его улицы, его колокольни, его внешнюю стену, утыканную
острыми башенками, — полный план, как замки, нарисованные без перспективы
в старинных часословах.
* * *
Это незабываемая картина. Стендаль и Шатобриан посвятили ей великолепные
страницы.
Зато Ламартин отводит ей едва три строки в "Поэтических размышлениях".
Правда, у поэта-президента в глазах стоял очаровательный образ его
спутницы, застигнутой грозой, укрывавшейся в углублении скалы и
"распустившей волосы, чтобы высушить их на ветру". Прибавьте
к этому радугу, которая показалась в нужный момент, как обрамление
картины, и вы поймете, какое направление восторг поэта принял с
этого момента. Шартреза — неподходящее место для поэтов, которым
улыбнулось счастье.
* * *
Картезианцам нужны величие и высота. Им не подходят равнина траппистов-земледельцев
и сельские местности бенедиктинцев. Им нужны горы с их вершинами
и головокружением. Их монастыри огромны. Так как каждый отшельник
располагает жильем из четырех комнат и участком сада, крытый переход,
соединяющий эти домики, достигает порой размера бульвара: в Большой
Шартрезе его длина — 215 метров. Построенный на неровной местности,
он на полдороги заметно понижается, так, что конца его не видно.
Он будто уходит в гору или теряется в невидимой пропасти. Нет более
своеобразного зрелища, чем монашеская ряса, развевающаяся вдоль
этого светлого тунеля и мало-помалу исчезающая вдали, как белый
парус каравеллы на горизонте.
* * *
Картезианцы и сами соответствуют масштабам своих построек: я не
встречал среди них людей небольшого роста. Ничуть не утверждаю,
что картезианцев отбирают, как гвардию Букингемского Дворца, со
складным метром в руках. Нет; но все, кого я встречал, были высокого
роста, весьма тонкие, слегка сутулые, то, что в разговоре называют
"стручком фасоли". Стройность легко объясняется режимом
питания, не слишком располагающим к полноте. Высокий рост менее
понятен. Я не посмел бы утверждать, что это необычайное призвание
никогда не спускается ниже 175-ти сантиметров; в конце концов, может
быть они все только казались мне высокими, как и глаза у всех казались
мне голубыми... Действительно, в первое мое пребывание в Шартрезе
я с удивлением и интересом отметил среди моих хозяев значительную
пропорцию голубых глаз. На самом деле, ничего подобного не было,
и тут действительно можно говорить об обмане зрения. Эти глаза,
казавшиеся мне голубыми, просто были ясные глаза — такие ясные,
что я невольно приписывал им всем немного небесного цвета.
* * *
О святом Бруно, основавшем Большую Шартрезу — матерь всех монастырей
Ордена, известно, в сущности, очень мало. Он родился в Кельне "около
1030 г." и очень рано прибыл во Францию (современники называли
его "Бруно Галликанус", и прозвище это — больше, чем бирка
путешественника, это почти "принятие в гражданство").
Его обращение связано, как будто, со смертью Диокреция, по слухам
— достойного христианина, подпорченного каплей литературного тщеславия
(он питал слабость к мелким латинским поэтам), но который, говорят,
трижды поднялся в гробу, чтобы объявить пришедшим в ужас окружающим
о своем вызове в суд, о суде и об осуждении судом Божиим. Агиогра4)ы,
художники и скульпторы, воспользовавшись этим эпизодом, единодушно
представляют св.Бруно в мрачном виде, преследуемым навязчивой идеей
Страшного Суда, с символическим черепом — отличительная принадлежность,
с которой святой не расстается, точно дама со своей сумочкой, будучи
осужден художниками бесконечно играть знаменитую сцену Гамлета с
могильщиком. У нас нет основания предполагать, что святого Бруно
постоянно преследовал вещественный образ смерти. Одно несомненно:
его вкус к потемкам. Св. Бернар прост, прямоуголен, полон света,
как романская церковь; св. Бруно полон полутьмы и таинственности
готического храма. Можно представить себе св. Бернара в белых доспехах
своего Ордена, идущим с открытым лицом в утреннем свете; и едва
различаешь черты лица под капюшоном св. Бруно. Кажется, что он прошел
через свое время, опустив глаза, не завязав с миром даже мимолетной
связи взглядом. Профессор богословия в Реймсе, он незаметно скрывается
в тот день, когда зашла речь о том, чтобы сделать его архиепископом,
и прячется в пустыне к югу от Барсюр-Сен. Едва не обнаруженный,
он продолжает бегство, намереваясь на этот раз поставить Альпы между
собой и своей популярностью. Он останавливается в Гренобле, на всякий
случай просит местного епископа указать подходящую пустыню, и тот
предлагает ему в аренду чудесную пустошь "Гранд Шартрез"
(или "Шатрусс"), где-то среди нагромождения дофинских
Альп, где с шестью спутниками французами он основывает — сам того
не замечая и смиренно думая о другом — самый ангелоподобный из созерцательных
Орденов.
Сразу же и опять как бы ненароком он разрабатывает безукоризненный
план, окончательный образец всех шартрез дальнейших времен: ряд
индивидуальных келий (для начала — лачуги, поставленные на средства
доброго гренобльского епископа), соединенных между собой крытой
галереей, которая ведет к часовне. Так сочетаются, невиданным еще
образом, отшельническая жизнь отцов-пустынников и общежитие, получившее
устав от св. Бенедикта. Покончив в этим, св. Бруно отправляется
за Альпы умирать, отказавшись от другой архиепископской кафедры
ради пещеры в Калабрии.
* * *
Картезианец трижды в сутки выходит из келий, ночью на службу, которая
длится около трех с половиной часов, утром на мессу, вечером на
вечерню. Остальное время он проводит в полной изоляции заключенного
в "одиночку". Его жилье состоит из четырех комнат, выходящих
в садик (несколько квадратных метров, окруженных стенами — монастырской,
соседней келий и крытого перехода с расположенной вдоль его галереей
для прогулок). На втором этаже — комната "Аве Мария",
называемая так по молитве, которую монах читает всякий раз, как
входит в эту комнату, посвященную Богородице, и "кубикулум",
т.е. жилая комната; в ней — крошечная "молельня", альков
с нарами, тюфяком из конского волоса и полотняными простынями, печь,
стол, стул. На стенах ничего, кроме Распятия, порой украшенного,
как и статуэтка в "Аве Мария", цветами, сорванными во
время еженедельной прогулки в окрестностях монастыря. Между комнатами
второго этажа — чулан в ширину "молельни", который приспособлен
под рабочий кабинет. Внизу — дровяной сарай и мастерская, где картезианец
два-три часа в день занимается ручным трудом, считающимся просто
развлечением. Одни точат ножки для стульев, другие вырезают статуэтки,
некоторые довольствуются колкой дров. В Вальсенте один отец, просыпавшийся
с трудом, мастерил всевозможные будильники, самый эффективный из
которых приводил в движение доску толщиной с требник, в назначенное
время падавшую на ноги спящего.
Говорят, что в смертный час этот летаргичный монах с надеждой сказал:
"Наконец-то я проснусь..."
Сад предоставляется инициативе постояльца. Это либо декоративный
садик, либо огород, грядка сорной травы или куча камней, в зависимости
от способностей, возраста и настроения садовника.
* * *
День картезианца не имеет ни начала, ни конца. Он встает в 6 часов,
но он уже вставал задолго до полуночи на службу, которая продержала
его в церкви до двух часов утра. Он ложится в шесть часов вечера,
но лишь на четыре часа. Этот сон в два приема, одетым, на жесткой
кровати, похож на неуютный сон путешественника между двумя
поездами в зале ожидания. Около десяти часов "брат" с
кухни просовывает в окошечко кельи блюдо с единственной за день
едой: рыба (мясо — никогда), овощи, компоты — различные по цвету,
приятные для глаза и однообразные на вкус, все в достаточном количестве,
но посредственного качества, поскольку картезианцы явно не стремятся
заслужить звезду "гастрономических остановок" в путеводителе
"Мишлен"*. Покончив с завтраком, остается лишь изображать
"бесплотного ангела" в течение двадцати четырех часов,
кроме пяти минут, которые требуются вечером, чтобы проглотить легкий
"ужин": кусок хлеба и какой-нибудь фрукт, — впрочем, отменяемый
в течение монастырского поста: поста поистине в картезианском масштабе,
от 14 сентября до Пасхи.
Когда затворнику что-нибудь нужно, например, книгу, он кладет записку
на полочку своего окошка, где немного позднее он найдет запрошенное.
Его внешние сношения ограничиваются этим молчаливым обменом. И случается,
что карьезианец проводит неделю и больше, не перекинувшись и двумя
словечками с живой душой. Потому что картезианцы не объясняются
знаками, как трапписты. В случае абсолютной необходимости они имеют
право говорить. Но с кем?
* * *
Величие и своеобразное очарование такого одиночества и порождает
во многих душах то, что один картезианец назвал "искушением
необитаемого острова". Кто не мечтал покинуть мир ради манящего
одиночества на островке в Тихом океане, предпочтительно в стороне
от полосы циклонов и в разумной мере снабженном продовольственными
ресурсами? Кто не представлял себя, не слишком отягощенным одеждой
из листьев, нежащимся в тени цветущих банановых деревьев, в полдень
протягивающим руку к завтраку, висящему на деревьях: хлебном, масля-
* В нем дорожные рестораны Франции отмечаются так: * (стоит
остановиться); """(стоит того, чтобы сделать крюк);
***(стоит специальной поездки). Прим. пер.
ном, посудном дереве, бутылочной тыкве, вдали от людей, свободным
как птица небесная, — в одиночестве?
Шартреза жестоко разочаровывает добровольных робинзонов. Это не
тот остров, где легко "робинзонить". Конечно, картезианец
живет в одиночестве весь день или почти весь. Это не значит, что
он волен устраивать свою жизнь как ему вздумается. На это есть бдительный,
точный монастырский колокол; он вызванивает подъем, работу, отдых,
утреню, мессу, вечерню, повечерие, богослужебные часы и часы просто,
получасы и даже четверти. Весь монастырь безмолвно подчиняется его
ясному голосу, который звучит будто над вымершим городом. Копал
ли кто сад, или писал одно из глубоких сочинений о мистической молитве,
которые картезианцы, будто бы, употребляют зимой на растопку, —
с первым призывом к часам или вечерне надо бросать лопату или перо,
направляться на келейную молитву или спешить в часовню.
Кроме сна, — и то, впрочем, прерванного ночным богослужением —
день картезианца буквально искромсан сотней различных определенных
обязанностей, которые заставляют его переходить из молельни в сад,
из мастерской в часовню и с прогулки на постель, не давая продолжительно
заниматься чем-либо, кроме послушания. Келья отрешила его от мира,
колокол отрешает его от самого себя.
Бедный Робинзон! Он редко выносит картезианский колокол дольше
сорока восьми часов. Замкнутый в келье, которая в первый день казалась
ему просторной, а на второй день кажется уже меньше, он искал независимости
и нашел дисциплину. В десять часов утра его жалкий обед займет его
на десять минут. Он примется за книгу, но к чему читать книгу, о
которой никогда ни с кем не поговоришь, книгу, которая больше не
поможет вам мечтать? Монотонная вереница предстоящих дней представляется
ему бесконечной (картезианский режим сохраняет;
восьмидесятилетние старцы — не редкость в заведении), и его "я",
это "я", которое снаружи казалось тем менее требовательным,
что ему ни в чем не отказывали, внезапно приобретает гигантские
масштабы: оно здесь, у двери, как огромный Пятница, который не соглашается
со своей отставкой и выходит из себя... Робинзон призывает на помощь
все и вся — все самые свои возвышенные мысли... И едва находит два-три
бледные штампа... Тем временем келья продолжает сужаться. Пятница
топает ногой, звонит колокол — это уже слишком! Побежденный Робинзон
спрашивает расписание обратных автобусов.
* * *
Шартреза — самый суровый из всех монастырей. Любой монах официально
может перейти из своего ордена в орден св. Бруно: он лишь выбирает
более возвышенный образ жизни. По мнению Церкви, уже само исполнение
картезианского Устава требует "героической" добродетели,
иначе говоря, картезианец, который до смерти ограничивается одним
вещественным соблюдением Устава — даже если допустить, что для этого
не требуется много ума, — уже тем самым может быть канонизован без
всяких иных процедур. Но прославленные Церковью картезианцы редки.
Св. Бруно передал своему ордену склонность к анонимату. При поступлении,
прежде чем получить белую одежду нового состояния, послушник надевает
черную рясу — символ траура по человеку, которым он был. С этого
дня он начинает исчезать. Он получил другое имя; он будет "Дом
Жан-Батист", "Дом Рафаэль"; если он пишет, и написанные
им труды окажутся заслуживающими опубликования, он их не подпишет.
Этикетка знаменитого ликера — один из редких печатных документов,
почтенных подписью картезианца; да и то по юридической необходимости.
На кладбищах ордена стоят безымянные кресты. Если известно множество
знаменитых доминиканцев, если трапписты не могли скрыть от нас св.
Бернара и аббата Ранее, одни лишь специалисты мистики или христиане,
интересующиеся духовностью (бывают и такие) знают Дени Картезианца
или Дом Иннокентия Ле Масон, — два украшения ордена, наряду со св.
Бруно, которые неизвестны никому, даже своим биографам. Вместе со
стенами кельи и молчанием, анонимат — дополнительная ограда.
Но это исчезновение — лишь негативный и для мира довольно-таки
удручающий аспект Воскресения к Свету, которое мало-помалу превращает
искалеченное и жалкое создание, какое мы представляем собой, в брата
— пока еще изгнанного — ангелов.
* * *
И сколько поэзии в этих оторвавшихся от причала жизнях. Мы знакомы
с небом лишь в таинственной форме тайн веры, и для плотского человека
переход из мира земли в область чисто духовную — затея столь же
трудная, захватывающая и опасная, как авантюра Христофора Колумба,
безвозвратно уплывающего к невидимой и предположительно существующей
земле. Его тоже поддерживали вера и разум, он тоже верил звездам;
и можно представить себе, что перед этим выматывающим, бесконечно
жидким горизонтом он не раз задавался вопросом — не лгут
ли звезды, не обманывает ли вера, наконец, действительно ли разум
— надежный навигационный прибор.
Картезианец, оторвавшийся от берегов и пустившийся по водам на
милость Божию, проходит через страх и надежду героя "Санта-Марии".
После воодушевленного отплытия наступает испытание открытого моря,
бесконечное нахождение под всеми парусами в окружении океана, с
средины которого никак не удается сдвинуться; и разум, приказывавший
отплыть, не смеет теперь советовать даже быть настойчивым. Говорят,
годам к сорока (скажем, на сороковой день плавания) одинокий мореплаватель
по духовной жизни начинает сомневаться, покажется ли когда-нибудь
Вест-Индия в его подзорной трубе. Его жертвы представляются тщетными,
никогда он не увидит их плодов, ближний, которого он желает спасти,
игнорирует его, презирает или ненавидит... Но это только шторм,
и он проходит. В окружающей его ночи герой продолжает свой путь
от звезды к звезде: он знает, что есть и иной мир.
Он — в авангарде христианства.
Глава десятая
Булла "Умбратилем"
Знаю, мы далеки от того, чтобы хвалиться этим, а между тем! Если
бы все наше самолюбие не было мобилизовано на другое, может быть
мы вспомнили бы не без удовлетворения, что большинство монашеских
орденов родилось во Франции, что два крупнейших созерцательных ордена
— сугубо французские, или если это вызывает подозрение в преждевременном
национализме, что они родились на территории, расположенной к западу
от Рейна и к северу от Пиринеев. В течение нескольких столетий Франция,
— я хочу сказать эта территория, — давала большую часть личного
состава монастырей св. Бернара и св. Бруно. Еще и сейчас французы,
"легкомысленные" и "увлекающиеся", легко улетают
к Шартрезам и охотно примыкают к траппистам. Они как будто совершенно
не подозревают, что созерцательная жизнь — устаревший образ существования,
связанный с той цивилизацией, которая вместе со схоластикой, с эпосом
Круглого Стола и с рыцарской любовью, потерпела крушение одновременно
со средневековым миром.
* Папские документы называются обычно по первым словам, с которых
они начинаются, напр.: "Рерум новарум", "Умбратилем"
и т.д. (Прим. пер.).
* * *
Перед посетителем траппистского или картезианского монастыря открывается
не общество другой эпохи, а общество вневременное. Траппистский
коллективизм намного опередил колхозы: вместо того, чтобы поддерживать
зловредную иллюзию, будто "все принадлежит всем", он основан
на принципе подлинно социалистическом, что ничто не принадлежит
никому. Картезианец не устарел, потому что он никогда не был в моде.
Его одиночество — одиночество всех душ, увлеченных абсолютом, великий
человек одинок, а картезианец — почти всегда великий человек, в
сиянии иной Славы забывший свою собственную (я знаю по крайней мере
одного, который в миру получил бы все награды, доступные литературному
дарованию). Что касается "неэффективности" чисто духовной
жизни, то давно было высказано мнение, что будь Карл Маркс человеком
действия, марксизма не существовало бы. Величайшая из революций
нашей эпохи родилась около 1847 года из заумных размышлений гениального
бородача в глубине лондонской столовой мелкобуржуазного стиля.
Последователей "Коммунистического манифеста" теперь не
счесть, и я не вижу, что противопоставить им численно, разве что
внушительную толпу обращенных "Историей одной души", которая
в монастыре, похожем с виду на фабрику, была написана Терезой "Малой",
бездельницей-кармелиткой и покровительницей миссионеров. Нам трудно
поверить в нематериальную силу духа, когда она не оперирует у нас
на глазах в социальном кирпиче и шлаке. А между тем Церковь — уж
она-то разбирается в природе силы — всегда провозглашала первенство
созерцательной жизни; ибо в порядке духовности — в которой как-никак
суть христианской жизни — деятельность кармелитки или картезианца
по интенсивности оставляет любую другую деятельность далеко позади.
Об этом свидетельствует булла "Умбратилем":
"Все, кто дает обет вести уединенную жизнь, — говорит текст
Пия XI, — вдали от шума и увлечений мира, не только, чтобы всей
силой духа отдаться созерцанию божественных тайн и вечных истин,
но и для того, чтобы загладить и искупить собственные согрешения,
и в особенности прегрешения ближних, умерщвлениями души и тела,
добровольно определенными и предписанными Уставом, — они, надо признать,
как Мария из Вифании, несомненно избрали благую часть. Если Господь
призывает к этому, то действительно, нет ни условий, ни образа жизни,
которые можно было бы предложить выбору и стремлению людей, как
более совершенные... Долг и как бы основное дело этих отшельников
— приносить и посвящать себя Богу в силу, так сказать, официальной
функции, как искупительную жертву и умилостивительное приношение
ради спасения своего и спасения ближних. Вот почему с самых отдаленных
времен этот столь современный образ жизни установился и распространился
в Церкви, где он более полезен и плодоносен всему христианскому
обществу, чем это можно себе представить... Притом, те, кто усердно
исполняют дело молитвы и покаяния, способствуют преуспеянию Церкви
и спасению рода человеческого еще гораздо более тех, кто своим трудом
возделывает ниву Господню, ибо если бы они не низводили с неба обилие
Божиих милостей для орошения этой нивы, труженики Евангелия получали
бы от своего труда плоды гораздо более скудные".
Поистине, созерцательные ордена — живое сердце Церкви. И это сердце
бьется не для себя: в духовной "экономике" созерцателя
почетное место занимает ближний. Разумеется, этот возлюбленный ближний
не часто слышит о своих неведомых друзьях-траппистах или картезианцах,
но кто посмеет усомниться в глубине и искренности расположения,
которое отдает все, что имеет, и просит взамен лишь разрешения подарить
и самую жизнь?
* * *
Есть ли действительно необходимость оправдывать призвание к созерцательной
жизни? Современный мир делает это с таким успехом! Он создает невыносимую
цивилизацию, враждебную сверхъестественному, не в ладах со священным,
холодную как машина, глупую как система и столь явно намеренную
каждый день удушать свободу то в одном, то в другом, что она во
весь голос требует этой радикальной формы восстания совести, какой
является принятие монашества. Бдительная тирания Священной Э4з4)eктивнocти,
царствующая если не над сердцами, то над умами и руками, мало-помалу
придает современному человеку обличие дверной ручки, круглое и гладкое
как фар4юр, и которое оживляется лишь на скорости около тысячи километров
в час от искривления хрящей и лицевых мускулов. Лицо летчика на
максимальной скорости с поразительным реализмом (который всецело
зависит от ветра и ничуть — от вдохновения) напоминает маску античного
трагического актера. В то время, как отупевшие умы тащутся по земле
с благоразумной медлительностью, тела передвигаются в пространстве
со скоростью ветра. Перестановка атрибутов полная;
можно даже добавить, что отныне, при содействии технических аварий,
тела прибывают к месту назначения куда быстрее, чем дух. "Технические
достижения", которыми мы так гордимся, составляют настоящий
заговор, чтобы вернуть нас не в природное состояние, где еще возможны
некоторые зачаточные проявления свободы, а к состоянию материи,
разумной лишь настолько, чтобы самой выстраиваться в ряды, выполнять
руками определенные движения на работе и стоять в очереди за развлечениями.
Перед этой обширной операцией по "обезличенью" слова
о верности свету, которая характеризует призвание к созерцанию,
звучат как отказ. Но скоро мы лучше поймем надобность в этих неподвижных
коленопреклоненных затворниках, устремленных к невыразимому Присутствию,
— когда среди этого обезображенного мира мы ощутим потребность увидеть,
наконец, человеческое лицо.
Глава одиннадцатая
Горение по-кармелитски
Кармель — восточный светильник, в котором горит испанское пламя.
По преданию, он возник на склонах горы Кармил, на рубежах Галилеи
и Самарии, священной горы еврейского народа, изрытой глубокими пещерами,
некогда покрытой лесами, служившей во все времена естественным убежищем
пустынников и любимым наблюдательным пунктом пророка Илии. Здесь-то,
следуя учению бессмертного провозвестника, этот сложный по своему
составу Орден обрел два основные принципа своего древнего отшельнического
призвания: уединение и молитвенную собранность — светильник и масло
созерцательной жизни.
Но со времен своего первоначального духовного вооружения кармелиты,
спустившись из своего святого убежища и распространившись по Европе,
изменили форму одежды, характер и занятие. Мешковину и овечью шкуру
пустынника сменили коричневая ряса и белый плащ, менее дикие для
глаз горожан; в 1227 году декретом Папы Григория XI отшельники делаются
"нищими", а созерцатели — проповедниками: бывшие отцы-пустынники,
переведенные в апостольскую пехоту, теряют прекрасную независимость
партизан, а кармелитский
светильник теряет свое масло в суматохе реформ, обработок и перестроек,
и в сосуде, любовно вылепленном на высотах, оставалось, по-видимому,
весьма немного горючего, когда, тому уже скоро четыреста лет, двое
испанцев зажгли его огнем, горящим еще и теперь.
* * *
Церковь объявила Учителями духовной жизни этих двух, равных по
ревности "поджигателей", и их можно упрекнуть лишь в одном:
и тот и другая были столь превосходными учителями и прекрасными
писателями, что множеству критиков казалось, будто они их понимают
достаточно хорошо, чтобы толковать; святой Хуан де ла Круз и святая
Тереза Авильская дали за три века достаточно пищи для бесчисленных
противоречивых диссертаций, самые дерзновенные из которых хладнокровно
обсуждают "проблему мистического опыта", будто существует
малейшая надежда разрешить эту проблему, не приобщаясь лично к этому
опыту. Можно не без пользы комментировать сочинения св. Иоанна Креста,
можно с большим талантом рисовать образ самого автора — хотя здесь
и лучшие художники рискуют ошибиться в красках, как Гюисманс, которому
виделось "ужасное кровавое существо с сухими глазами"
там, где история говорит об очень кротком гонимом человеке. Но говорить
убедительно о "мистическом опыте", не имея его, так же
невозможно, как говорить об "опыте смерти", не воскреснув
хотя бы раз-другой. К тому же эти два переживания во многом сходны,
и св. Иоанн Креста описал одно из них для того, чтобы путешественник
не заблудился в нем, а не для информации тех, кто не желает сам
пуститься в это путешествие.
Мистик такого полета — сплошное горение; и перед этим удивительным
зрелищем огнеупорный критик лишь плотнее заворачивается в асбест.
"Посмотрим, — рассуждает он, наводя свои темные очки, — как
же этого несчастного угораздило так воспламениться? Не пробыл ли
он слишком долго на солце? Или зеркала его души, как линзы, подожгли
то, что эти мистики называют "ветхим человеком" и что,
следовательно, должно состоять из сухого дерева?"
Единственный правильный ответ, какого здраво может ожидать критик,
это ответ, от которого загоратся он сам.
Это-то и есть опыт. Учение Иоанна Креста — крутой путь полного
совлечения, наступательная тактика "выжженной земли" в
приложении к духовной брани. Тогдашним "умеренным" монахам
("умеренными" называли монахов, которые получили разрешение
не соблюдать некоторе правила и завели себе Устав весьма, впрочем,
относительно комфортабельный) это путь показался слишком коротким,
а тактика — чересчур дорогостоящей, и ни на одну святую душу не
взваливали столько дисциплинарных взысканий и незаслуженных епитимий,
сколько их вынес О.Иоанн Креста от своих полу-братий по монашеству.
Надо было заставить его замолчать, вернее — угасить его, — но расчет
был плох. Мистики питают свой огонь всем, что попадает под руку,
и преследования дают больше пламени, чем все прочее. Кроме того,
в то время как "умеренные" кармелиты думали, что справляются
с пожаром, огонь свирепствовал по монастырям женского ордена в лице
пламенной Терезы Авильской.
* * *
Св. Иоанн Креста и св. Тереза Авильская — две души одного рода,
из тех, которым равно незнакомы и сделка и компромисс и которым
дышиться свободно лишь в абсолюте. Оба следуют одним духовным путем,
один во мраке ночи, другая — среди бела дня. То, что первый изображает
в "Восхождении на Кармил", в ночных образах замечательной
глубины и ясности, вторая описывает в своем "Замке души",
где среди сверкания ярких сравнений, искрятся алмазы, рубины, звезды
и солнца. Контраст продолжается вплоть до земной судьбы этих необыкновенных
"близнецов святости". Тереза дает и выигрывает одно за
другим сражения за реформу кармелитских монастырей, основывает внушительный
ряд общин и умирает в 1582 году среди своих "дочерей",
уже прославленная, совершив свое дело, с уверенностью, что боролась
не зря. Десятью годами позже Иоанн Креста отдает дух в лапах одного
из своих преследователей, прожив жизнь, по которой прошлись все
шквалы нравственного и физического страданья, прогоняемый теми,
кто его не понимает, к тем, кто его понимает слишком хорошо, почитаемый,
правда, наилучшими, но ужасающе одинокий.
Однако он не издал ни малейшей жалобы, и при известии о близком
конце на его уста приходит дивный стих псалма "Возрадовахся
о рекших мне: в дом Господень пойдем!"
С такими двумя факелами в этом древнем учреждении трудно было бы
кармелитскому ордену не разгореться. Действительно, именно от св.Терезы
и св. Иоанна Креста идет орден "босых" кармелитов, каким
мы его знаем теперь, с Уставом и образом монашеской жизни, подобными
доминиканским, т.е. тесно соединяющими созерцание (составляющее
сущность картезианца) и деятельность (представленную иезуитом).
Как и доминиканцы, кармелиты — проповедники, преподаватели, миссионеры,
в то время как их сестры-кармелитки ведут в пожизненном затворе
существование самых чистых созерцателей. Но в первую очередь они
— наследники, последователи и компетентные экзегеты своих великих
мистических Учителей.
"Св. Тереза Авильская и св. Иоанн Креста, — пишет директор
"Этюд Кармелитэн" (Etudes Carmeli-taines) о. Бруно, —
явили себя знатоками религиозной психологии. Кто станет отрицать,
что в этой области они царят? Нет никого, им равного. У них, как
ни у кого, есть опытное чувство вечной жизни, а в ее свете — и жизни
человеческой. Это учители, к которым обращаются все в Католической
Церкви и даже вне ее, когда хотят перейти от познания спекулятивного
к опытному познанию вещей божественного".
Собственно назначение кармелитов заключается, таким образом, в
том, чтобы поддерживать среди нас этот мистический очаг, к которому
св.Тереза из Лизье совсем недавно добавила свое столь чистое пламя.
"Этюд кар-мелитэн", объединяющие вокруг о. Бруно все,
что есть выдающегося в католической мысли, взяли на себя задачу
в плане интеллектуальном поддерживать престиж духовной школы ордена
и не давать любителям устремляться в мистику точно в волшебный Луна-парк,
где двадцатью франками можно было бы оплатить восхождение на Кар-мель
и прогулку по Замку души. Разъяснить невеждам, что это горение духа
— не гибельное нравственное сгорание, как они воображают, а ученым,
что дух действительно способен гореть — задача не из легких. Также
нелегко дать понять тем, кто ужасается, и тем, кто слишком легко
успокаивается, роясь в остывшем пепле книг, что в действительности
этот огонь — праздничная иллюминация.
Глава двенадцатая
Доминиканские завтраки
Парижские доминиканцы дважды удостаивали меня приглашением на завтрак
в свои общины — на улицах Гласьер и Фобур-Сент-Онорэ.
Монастырь на Гласьер — бывшая лечебница, обветшалые корпуса которой
окружает двор, засаженный пыльными деревьями. Ансамбль беден, как
и подобает нищенствующему Ордену, и напоминает скорее заброшенную
школу, чем больницу. Так и кажется, что на стенах длинных коридоров,
которые соединяют кельи, молельни, общие залы, увидишь нацарапанные
школьниками дурацкие колпаки, выразительные надписи, корявых человечков
и луноподобные физиономии, которые немного разнообразят трафаретные
фризы в наших начальных школах.
Но доминиканцы на Гласьер ведут себя примерно. Они пишут везде,
только не на стенах. Их жилье без украшений не представляет глазу
много разнообразия, кроме причудливости нескольких современных витражей,
поглощающих много света и выдержанных в художественном стиле, одобренном,
вероятно, еще не столь давней пассивной обороной.
* * *
Доминиканские завтраки протекают по неизменному церемониалу. Около
половины первого по зову колокола отцы выстраиваются попарно вереницей
у входа в трепез-ную. После краткой "молитвы перед едой"
последние проходят вперед, первые входят последними в зал с длинными
узкими столами, где место каждого указано прибором из кованного
железа и кружкой ("четвертью") какого-либо питья — это
может быть вино, пиво или сидр, в зависимости от местности. В Париже
пьют вино. С капюшоном на глазах отцы садятся по одну сторону стола,
спиной к стене или к окну, как участники Тайной Вечери, и в строжайшем
молчании жуют стереотипную пищу общественных столовок или пансионатов.
Гостя — как ко всех монастырях, объект особого внимания — помещают
по правую руку настоятеля, молчаливого, но полного внимания хозяина
дома. У бенедиктинцев Аббат, облеченный епископским саном, простирает
любезность до того, что сам моет руки гостю перед тем, как войти
в трапезную.
Более современные и не столь нежные доминиканцы скорее намылили
бы вам голову.
* * *
Между столами снуют послушники во всем белом, проворные и безмолвные
прислужники, мелькающие взад и вперед и зала в кухню в кружении
широких ряс, и треугольный вымпел капюшона спускается у них на плечи
точно два соединенные и сложенные крыла. Они следят, чтобы обедающие,
которым не разрешается просить чего бы то ни было для себя, ни в
чем не нуждались.
Но по уставу любви они вправе просить за ближнего. Так рассказывают,
что один монах, обнаружив в похлебке неприятное насекомое, жестом
подозвал прислужника и предупредительно, с целью исправления такой
несправедливости, сказал:
"Мой сосед не получил таракана".
* * *
Хотя большинство доминиканцев — очень передовых взглядов, они еще
не переняли традиционной концепции республиканского банкета. Их
обеды заканчиваются без речей, хотя и не совсем безмолвно.
Покрывая позвякивание приборов, раздается голос очередного чтеца,
стоящего на кафедре и читающего какое-либо поучительное сочинение,
как первоклассник, отвечающий урок. Это чтение без знаков препинания,
где фразы повисают в воздухе и ожидании так и не появляющейся точки.
Время от времени отец корректор выпускает ложку и трясет колокольчиком.
Чтец обрывает чтение на середине слова:
— Вы читаете невнятно, — говорит слишком внятно отец корректор.
— Вас трудно понять. Отчеканивайте лучше каждый слог.
Сконфуженный и краснеющий чтец так отчеканивает слоги, что расчленяет
слова подобно движениям по военной команде.
Его монотонное чтение о Роне, ее режиме, притоках, судоходстве
по ней было не очень-то понятно. После исправления в нем уже ничего
не разобрать.
"Со-на-впа-да-ет-в-Рону в Му-ла-тье-ре,
0-ко-ло-Ли-о-на".
Искалеченные фразы одна задругой слетают с кафедры при общем равнодушии.
Удовлетворенный колокольчик больше не шевелится.
После трапезы — "общение". Так называется полчаса общей
беседы, которую доминиканцы позволяют себе после обеда за чашкой
кофе в библиотеке.
У меня осталось смутное воспоминание от "общения" в монастыре
на Гласьер. Отец Регамэ, великий инквизитор церковного искусства,
с увлечением говорил о скульптуре. С альбомом в руках он наглядно
доказывал, что ничто так не похоже на распятия 12 века, как некоторые
произведения стиля модерн.
Каменотесы 12 века не знали, что они создают скульптуры 20 века,
но были бы, несомненно, в восторге, узнав об этом.
* * *
У монастыря на Фобур-Сент-Онорэ больше элегантности, чем на Гласьер.
Его мрамор, кованное железо, ограда, спроектированная известным
архитектором, красивый вид на большой сад (впрочем, не принадлежащий
монастырю): все это, по словам одного доминиканца "Рабочей
миссии", было бы "прекрасным родильным домом".
Пока что это сборный пункт, который походит, как все монастыри
ордена, и на семейный пансион, и на штаб-квартиру, и на Малую Шартрезу.
В том-то и состоит своеобразие монахов св. Доминика, что они ведут
одновременно "деятельную" и "созерцательную"
жизнь, сочетающую монастырскую дисциплину и полную свободу деятельности.
Кем только не бывают доминиканцы. Они — проповедники, преподаватели,
портовые грузчики, журналисты или физики. Но вечер, как правило,
возвращает их домой, в общину, где молитвенная жизнь вступает в
свои права. По выражению, которым они любят определять свое призвание,
деятельность вытекает у них "из полноты созерцания". На
протяжении всего дня этот пре-избыток молитвенной сосредоточенности
изливается в тысячу бесконечно разнообразных апостольских начинаний,
над которыми Настоятель имеет лишь ограниченное право контроля.
Чада святого Доминика — деятельные созерцатели, "картезианцы
в миру", несомненно — самые свободные на свете монахи.
Да что — "монахи". С таким же успехом я мог бы сказать
"люди". Не зря же они выбрали свободу, ту, которая увенчивает
отречение.
* * *
На Фобур-Сент-Онорэ не замедлил возникнуть полемический спор. Доминиканцы
обожают говорить о политике и не имеют ничего против хорошей дискуссии
с противоречивыми мнениями. Как только кофе был подан, несчастный
хроникер, явившийся распрашивать других, сам попал на допрос. Пять
или шесть богословов, до зубов осведомленных, окружали его и устремляли
на него, убогого, тот сверкающий взгляд, в котором еретик некогда
видел первую искру своего костра.
Ибо в давние времена доминиканцы сыграли немаловажную роль в святой
Инквизиции. Обычно, об этом помнят только их гости.
* * *
— В конечном счете, — сказал мне коренастый отец, энергично ворочая
ложкой в чашке, точно половником в кастрюле и расплавленного олова,
— наш брат доминиканец не боится революций.
Действительно, орден св. Доминика родился около 1210 года, в разгар
альбигойской ереси. Сама его формула ("монахи в миру",
"нищенствующие проповедники") была в то время весьма революционной.
Этот бурный дебют в отблесках гражданской войны позволяет доминиканцам
без тревоги взирать на наши политические конвульсии и зарева наших
пожаров.
Но времена изменились. Раньше еретиков сжигали. Теперь с огнем
играют.
* * *
Выходя, доминиканцы надевают поверх белой рясы черную пелерину
и острый капюшон. Белое брюшко, черные крылья: доминиканцы одеваются
как ласточки, чтобы возвещать нам весну.
Но не все на один голос, и не на одном языке. Они схожи лишь по
одежде. Во всем остальном они разнятся: может быть, существует "идеальный
доминиканец", но нет "типичного доминиканца", и чтобы
составить представление об этом столь богатом личностями Ордене,
надо бы завязать знакомство с каждым его членом. Такой-то проповедник,
своей уравновешенностью, тонкостью, ясностью суждений и строгостью
стоит в ряду великих французских духовных наставников, а такой-то
блестящий космолог совершает в фарватере современных знаний увлекатель-нейшие
поездки на глиссере. Этот специалист стремится разрешить экономические
проблемы вселенной завтрашнего или послезавтрашнего дня, а тот эрудит
ищет по научным институтам, с кем бы ему переписываться на месопотамском
наречии 11 века до нашей эры. Именно доминиканцы открыли с 1941
года эру "священников-рабочих", которых теперь называют
"священниками рабочих миссий", послав молодого и горячего
монаха к марсельским докерам. На Фобур-Сент-Оноре, на Гласьер и
повсюду спокойный богослов существует бок-о-бок с апостолом-ударником,
и напрасно задаваться вопросом, который из дух, в конечном итоге,
наложит отпечаток на характер Ордена в целом, по той причине, что
доминиканец и есть, по существу, и созерцатель, и человек действия.
Из временного преобладания той или другой тенденции нельзя ничего
заключить, кроме того, что оно обещает в скором будущем новый пересмотр.
Некоторые светские историки, различающие в истории монашества три
последовательные этапа, считают, что можно говорить о близости его
окончательного освобождения от последних монастырских уз. По их
словам, сначала было "созерцательное состояние", когда
монах-затворник жил, отрезанный от мира; затем эпоха нищенствующих
орденов, когда монах делил свою жизнь между миром и обителью; и,
наконец, новая эпоха, которой положили начало иезуиты, порвавшие
с монастырской традицией ради полной деятельной самоотдачи. Ладно.
А потом? Тут воображение историков, без всякого, впрочем, успеха,
дает себе полную волю в поисках еще невиданного, небывалого монаха.
Будет ли то атомный монах? Монах без обетов, без тонзуры, но с женой
и детьми, монах-лауреат премии велогонок "Тур де Франс"?
Насчет этого мнения историков не совсем ясны, будущее ускользает
на пути эволюции. На деле, утверждение это обманчиво, и различные
состояния, которые оно считает последовательными, сосуществуют без
его разрешения. Нищие ордена ничуть не вытеснили созерцательных,
и иезуиты не сделали доминиканцев отжившими. Монашеская жизнь "через
века", как говорится в школах, обогатилась новыми видами призвания,
ничего не утратив из старых. Ее история пишется совершенно не так,
как история пищали и пушки.
Глава тринадцатая
Орден святого Доминика — это как бы "интеллигенция" Церкви.
Доминиканцам присущи образованность, сообразительность, любознательность
интеллектуальной элиты, а также брожение идей, постоянная склонность
углублять критику и не спешить с заключениями — все предпосылки,
делающие их в области мысли самыми предприимчивыми монахами в Церкви.
Не счесть книг, которые они публикуют каждый год, журналов и газет,
которые выходят под их руководством, которым они дают жизнь или
вдохновенье — от ученой "Ви спиритюэль" (Духовная жизнь)
до смелой "Кензэн" (Двухнедельник), проходя через "Ви
энтеллектюэль", "Ви католик", "Фэт э Сэзон",
публикаций издательства "Серф", и т.д... Все эти издания
охватывают, вероятно, несколько миллионов читателей ("Ви католик"
— 650 000 экземпляров; один из последних номеров "Фэт э Сэзон"
— 350 000). Эта обильная печатная продукция, в котрой "соль
земли" отпускается в розницу, отличается не столько единством
доктрины, сколько каким-то общим умонастроением, которому в политике
приблизительно соответствует левое крыло христианских демократов.
В духовном плане позиция менее ясна. На аванпостах христианской
мысли положение, как говорят военные, "неопределенное".
Подготовленные выдающимися специалистами Со-шуара (Франция), Фрибурга
(Швейцария) или "Анге-ликума" в Риме в течение шести или
семи лет занятий, где ничего не упускается для усвоения ими современных
дисциплин, все доминиканцы — превосходные богословы. Но вот уже
многие годы доминиканское богословие отважно погрузилось по уши
(ради нашей же пользы) в нагромождения современной мысли, и инвентаризация
пока продолжается.
В ожидании, когда оно вынырнет, потрясая какой-либо истиной, оправдывающей
столь длительное исследование, Учителем учителей, регулировщиком
умов для тысячи доминиканцев Франции и восьми тысяч доминиканцев
всего мира, остается величайший богослов Ордена, лучший друг разума,
ангел их школы — Фома Аквинат.
* * *
Сейчас "томизм" представляется нам самым внушительным
памятником современной мысли, а сам Фома — богословом-потоком, стахановцем
Вероучения, исполином пера, громадная продукция которого подавляет
своей необычайной массой жалкие книжонки, куда нынешние философы
бережно запрятывают свои озарения. Ему приписывают несколько сот
увесистых томов, не считая небольших произведений, не заслуживающих
внимания брошюр в толщину телефонного справочника (французкие телефонные
справочники имеют до 15-20 сантиметров толщины. Прим. пер.},
которые все носят печать его царственного, ясного ума, где малейшая
истина, будь она в лохмотьях и вся замарана заблуждениями, находит
братский прием несравненного интеллектуального гостеприимства. В
своих доктринальных трудах Фома все приносит в жертву ясности и
точности. Двести вопросов "Сумма теологика", подразделенные
на пункты, следуют один за другим в ненарушимом порядке "возражений",
"решений" и "ответов", ни разу не сбившись,
без единого лирического отступления. Это потому, что здесь вселенский
учитель обращается к начинающим, которых надо наставить пункт за
пунктом, не оставив без внимания ни одной трудности, не обходя ни
одного вопроса, следуя точной дисциплине простого, прямого метода,
основоположная честность которого не нашла, впрочем, ни одного подражателя
среди фабрикантов систем.
Но когда Фоме Аквинату позволено было дать свободу своему дарованию,
когда Папа попросил его составить для Церкви "службу Святых
Даров", тогда его пение было столь прекрасно, что святой Бонавентура,
которому был сделан тот же заказ, медленно разорвал свой текст на
глазах кардиналов, собравшихся для оценки этих соревнующихся сочинений.
* * *
Как богослов он считается сухим, но как человек он был сама кротость
и смирение. Его товарищи по парижскому Университету, мало чувствительные
к этим двум добродетелям без престижа, прозвали его "немой
бык", за его объемистую фигуру (он страдал болезненной полнотой)
и за его благодушие: за сорок девять лет жизни его видели рассерженным
два раза: на куртизанку, которой его семья поручила отвратить его
от его призвания и, лет двадцать спустя, по сугубо метафизическому
поводу, на софиста Давида Динанского. Честертон, самый увлекательный
из его жизнеописателей, рассказывает, как один его товарищ, сжалившись
над этим, по-видимому, туповатым учеником, стал объяснять ему каждый
вечер текущие уроки, на которых "немой бык" присутствовал,
не проявляя ни малейшего признака понимания. Фома смиренно, без
единого слова выслушивал добровольного репетитора до того дня, когда
преподавателю пришлось однажды признаться в своем замешательстве
перед особо затруднительным веро учительным вопросом. И тут вдруг
ученик застенчиво подсказал своему изумленному учителю блестящее
объяснение, с той поры доставившее "немому быку" возможность
спокойно пережевывать свои мысли среди почтительного молчания.
Это хороший принцип томистской школы: выслушивать урок, прежде
чем преподавать. Фома слушает и помалкивает. И в этом немалое его
отличие от его противников!
* * *
Этот исключительный ум, который менее чем за 15 лет (с 1260 по
1274 г.) дал нам достаточно сочинений, чтобы прокормить поколения
толкователей, был одарен такой способностью отвлекаться, что она
порой подвергала его, без защиты, проделкам его юных собратий. Услышав
однажды громкий возглас монаха: "Брат Фома, брат Фома! Посмотри:
бык летит!", рассеянный или отвлеченный святой машинально подошел
к окну. И, при всеобщем хохоте, сказал: "Я предпочитаю поверить,
что бык может летать, чем что монах может солгать".
Шутливо настроенная молодежь ничего не выигрывает, заставляя богословов
спускаться с третьей ступени отвле- . ченности, чтобы потешиться
за их счет.
* * *
Несмотря на его полноту легче резюмировать Фому, чем томизм. Для
Бергсона филосо4:>ия Аристотеля и Фомы Аквината была "естественной
философией человеческого ума" — похвала, принимаемая за осуждение
многочисленными мыслителями, которые ухитряются философствовать,
не располагая умом. Для историков томизм это величественный собор,
а для профессоров философии — своего рода ломбард здравого смысла.
Наконец, несколько учтивых умов скажут нам, что томизм — самое значительное
руководство, чтобы ориентироваться в жизни и научиться узнавать
и приветствовать истину в мире.
Но для автора популярных изданий Фома прежде всего изобретатель
"пяти доказательств бытия Божия", абсолютно неопровержимых
для средневековых умов, но не для современных, которые не выносят,
как всем известно, принуждения очевидности. Эти "пять доказательств"
— пять логических путей, все вытекают из текста св. Павла:
"Сила и невидимые совершенства Божий становятся видимыми разуму
через Его творения".
Как и св. Павел, Фома считал, что человеческий разум и без помощи
веры может утверждать бытие Божие, исходя от природы. Его доказательства
покоятся на глубоком убеждении — тогда общем для мыслителей всех
школ, — что природе действительно есть, что сказать разуму: мнение,
которое теперь оспаривается множеством умов, слушающих лишь себя.
Поскольку разум согласен не отрекаться от самого себя, — что встречается
все реже и реже, — "пять путей" Фомы Аквината остаются
вполне убедительными, они "выдерживают любую критику"
и, если их схоластический язык как будто обращается к философам,
остальные могут прийти к тому же результату, на свойственном для
них языке, поскольку текст ап. Павла действителен для всех и имеет
в виду не только научное познание, но и "естественное знание
бытия Божия", пишет Жак Маритэн, "к которому созерцание
вещей тварных ведет разум всякого человека — будь он философ или
нет".
В самом деле, нет необходимости быть 41илосо4юм, чтобы созерцать
мировой порядок, думать, что эта гармония требует управляющего разума,
и сходиться в этом, в конце пятого пути, открытого Фомой Аквинским,
со столь различными умами, как Вольтер, Эммануил Кант, Альберт Эйнштейн.
Сказать правду, если разум когда-либо в состоянии что-либо доказать,
так именно бытие Божие. В этом-то его больше всего и упрекают с
разных сторон.
* * *
Фома Аквинский представляет собой редчайшее зрелище "мыслителя
в добром здравии". У него — о чудо! — разум рассуждает, сердце
желает, глаза видят, уши слушают, а ноги служат для ходьбы, а не
для чесания за ухом.
Ум не представляется ему от природы обманчивым, и он избавляет
его от жестоких полицейских мер, какие теперь налагаются на несчастного,
который не может удостоверить свою личность без того, чтобы дюжина
критиков не навалилась на него, дабы вырвать признание, что он,
возможно, и ошибается. Чувства с верностью доносят до Фомы свои
впечатления, и хотя некоторые из них сомнительны или неполны, он
не считает своим долгом, получая от почтальона почту, обзывать его
дураком. Он не страдает странным недугом рассудка, который побуждает
современного мыслителя застревать перед зеркалом, твердя: "Я
мыслю... я мыслю..." в постоянно обманутой надежде услышать
от своего отражения торжествующий возглас: "Значит ты существуешь!"
Фома Аквинат предпочитает смотреть в окно, даже если быка давно
приземлились, и завязать с природой доверчивый разговор, как между
детьми одного Отца. Эта способность беседовать с предметами у нас
была отнята, или мы сами ее потеряли, так же как в настоящее время
мы теряем возможность и даже самую охоту к взаимопониманию.
Поскольку мысль Фомы не знает ни одного естественного врага ни
на земле, ни на небесах, его взор всегда дружелюбен, потому что
в любом человеке всегда достаточно правдивости, чтобы завоевать
дружбу ума, находящегося в мире с самим собой. Читатель "Сумма
теологика" приходит в восхищение, видя, что столько языческих
авторов вносят свой вклад в это сооружение и посмертно участвуют
в главнейшем произведении средневекового богословия. Аристотель,
заново продуманный "ангелоподобным учителем", говорит
по-христиански как никто, и не скоро поблекнет эта картина, где
глубочайший языческий философ прислуживает за обедней величайшего
католического богослова. (Доминиканцы наших дней были бы не прочь,
чтобы Карл Маркс согласился оказать им ту же услугу). Некоторые
из своих принципов Фома взял у грека, но он отправился бы за ними
и к пирамидам, или за великую китайскую стену; малейшее слово, отдающее
истиной, позвало бы его в путь-дорогу, ибо он знал, что самая малая
частица истины, схваченная твердой рукой, выдает ее всю; эта несшитая
одежда выткана целиком.
* * *
Приглашенный однажды к столу Людовика Святого, Фома вдруг вышел
из своего молчания, и, к изумлению гостей, смущенных таким нарушением
этикета, тяжело стукнул кулаком по столу, воскликнув:
"Вот, как покончить с манихейцами!"
Фома Аквинат продолжал свои размышления даже в присутствии королей,
он возвышался над землей, не обращая на них никакого внимания, или
с простотой обращался за цитатами к семнадцативековой древности,
как поворачиваются, чтобы взять с полки книгу. Он никогда не заботился
о своем положении в мире, в пространстве или во времени. У нас больше
нет такого прекрасного чувства вечности: мы ощущаем лишь Историю,
— оптимистический идол, глотающий своих зачарованных приверженцев.
Необходим удар кулаком по столу сыновей св. Доминика, который пробудил
бы нас к Истине. Ибо она, — а не История — создает доминиканца.
Глава четырнадцатая
Процесс иезуита
В 1610 году, выступая в качестве сверхштатного трибунала Святой
Инквизиции, досточтимые члены Парижского парламента объявили Общество
Иисуса "достойным ненависти и дьявольским, совратителем юношества
и врагом короля и государства". В момент, когда парламентские
богословы разили Общество Иисуса этой анафемой, оно уже имело за
плечами 70 лет существования и его сатанинский характер все еще
ускользал от бдительности Церкви.
Но — для того, чтобы открыть ей глаза — последовали и другие осуждения,
например, мнение д'Аламбера в статье Энциклопедии, которая начинается
панегириком ("ни одно религиозное общество не может похвалиться
столь большим числом знаменитостей в области науки и искусства")
и заканчивается обвинительной речью: "Нет такого злодеяния,
какого не совершила бы эта порода людей. Добавлю, что нет такой
ложной доктрины, какой она не учила бы". К запаху серы, обнаруженному
парижским парламентом, примешивается душок уголовщины. Мишлэ, в
лекциях во Французской Академии Наук, довершил портрет обвиняемого:
"Техника иезуитов была активной и мощной. Но она не произвела
ничего живого. Ни одного человека за триста лет! В чем природа иезуита?
Ее нет. Он пригоден на все: машина. Нет — вы не пришли из прошлого!
Нет — вы не относитесь и к настоящему. Существуете ли вы? Нет. У
вас только видимость существования. Если кто-то будет настаивать,
если кому-то надо, чтобы вы были чем-то, я соглашусь, что вы — старое
военное орудие, брандер эпохи Филиппа II!"
Нить утверждений несколько запутана, но приговор ясен: эти "знаменитости
в науках и искусствах" (д'Аламбер), запятнанные преступлениями
(научными и даже художественными), совратители юношества (парижский
парламент), не люди (Мишлэ), но самое большее — обломки непобедимой
Армады, не принадлежащие ни к прошлому, ни к настоящему. Да будут
они извергнуты из рода человеческого!
По счастью имеются и смягчающие обстоятельства, что подтверждается
следующим прекрасным свидетельством:
"Что видел я у иезуитов в течение семи лет, проведенных в
их заведении? Жизнь самую трудолюбивую, самую воздержанную, в любое
время поглощенную то заботами о нас, то исполнением обязанностей
своей суровой профессии. Призываю в свидетели этому тысячи подобных
мне воспитанников. Опровергнуть меня не сможет ни один".
Это удостоверение в добронравии весьма усложняет дело и стоящей
под ним подписи достаточно, чтобы кассировать процесс: Франсуа-Мари
Аруэ, по своему псевдониму — Вольтер.
* * *
Для большинства смертных, которых иезуитское воспитание не совратило,
как несчастную молодежь 1610 года, и не преисполнило благодарности
как Вольтера, иезуит и его Общество представляет тройную тайну честолюбия,
могущества и смирения, выведенную раз и навсегда Александром Дюма
("Виконт де Бражелон") в образе дворянина Арамиса, монастырского
мушкетера, альковного аббата и генерала Общества Иисуса. Гениальный
интриган, облеченный непомерным могуществом, этот генерал иезуитов,
как его описывает Александр Дюма, склонен к заговорам и переодеваниям,
главным образом в рубище нищего, которое при случае оттеняет великолепие
его мощи. Не имея постоянного жилья, он обходит свет, связывая тайные
нити своей политики, один только способный разобраться в лабиринте
собственных махинаций и обладая в качестве единственного знака своего
достоинства перстнем, таинственная оправа которого производит молниеносные
потрясения. При первом блеске грозного кольца, пораженного члена
Общества сразу бросает в дрожь, зрачки расширяются, волосы встают
дыбом, постепенно всякая жизнь покидает его оледеневшие члены; он
бледнеет, цепенеет, как труп, и в конце концов делается похожим
на иезуита Мишлэ; он не относится ни к прошлому, ни к настоящему,
это уже не человек, а всего лишь монолитный кусок застывшего послушания.
* * *
С грустью я констатирую, что романисты не серьезнее историков.
И ясность внесут, уж конечно, не мыслители: 18 "Провинциальных
писем" блещут стилем, но не правдивостью, и преподают иезуитам
такой урок иезуитства, какого Общество никогда не преподало никому.
С полным основанием Жозеф де Местр назвал этот шедевр "18 лгунишек
господина Паскаля".
Как все начинания, которые как будто превосходят в чем-либо человеческую
меру. Общество Иисуса в равной мере внушает ненависть и энтузиазм.
Оно возбуждает воображение и вызывает недоумение. Никто не верит
в их будто бы преступность, по существу которой хулители, впрочем,
хранят молчание, но его подлинное лицо, деятельность, пути остаются
загадочными. Люди недоумевают: обыкновенная ли это школа миссионеров,
простая религиозная конгрегация или тайная армия, орудие всемирного
господства, неприметным образом выкованное папством, или это политическая
партия? Чего оно хочет? Поработить умы, вновь захватить земную власть
для Церкви? В чем его движущая сила? В честолюбии, фанатизме? И
кто его подлинный глава: Папа ли, с которым его связывает особый
обет послушания, или генерал ордена, достаточно могущественный,
чтобы проводить в Церкви и вне ее свою собственную политику? У Общества
есть своя тайна; моралисты, не всегда считающие обязательным обосновывать
свои высказывания, и романисты, у которых почти столько же воображения,
как у историков, до сих пор не заметили, что секрет Общества Иисуса
полыхает на его знамени.
* * *
Это Общество, которое порой представляется какой-то духовной полицией,
своеобразно тем, что было основано (в 1539 году) человеком, который
спасся от инквизиции.
Родившийся в 1491 году в испанской провинции Гипус-кое Дон Иниго
Лопец Лойола в 15 лет был пажем при кастильском дворе, а в 20 —
наемным солдатом у короля Наварского. Можно предположить у молодого
воина все увлечения его возраста, все приключения его сословия и
все удовольствия, свойственные и первому и второму. Ему было тридцать
лет при осаде Памплоны, когда ядро, выпущенное артиллерией Франциска
I, перебило ему ногу, вынудило к шестимесячному отдыху, благоприятному
для размышлений, и, искалечив офицера, положило бурное начало святому.
Обращение Игнатия Лойолы начинается с этого воинского эпизода.
Превратившись в миссионера, он стал немедленно проповедовать на
площадях. Тогда как для нас перемена места работы — целая история,
святые изменяют жизнь с необычайной легкостью. Инквизиция вмешивалась
— и не раз, — упрекая импровизатора-проповедника в том, что он учит
любви, не учившись богословию. (Кстати, можно подивиться подобной
снисходительности: испанская инквизиция никогда не отличалась склонностью
даром расточать предупреждения). Но что значило для Игнатия лишний
раз переменить жизнь? В 35 лет он сел за книжки и выучил грамматику.
В 38 он взялся за богословие. Тем временем он покинул Испанию, где
ПОДГОТОВКА ИЕЗУИТА
"Probatio": 2 года монашеской жизни. Общий экзамен.
Минимальный возраст: 19 лет.
"Juuenat": 2 года. Общеобразовательные курсы. Малые
обеты.
Философия и естественные науки (3 года). Монашеская жизнь.
"Регенство" (примерно 3 года). Деятельная жизнь,
начало преподавания.
Богословие: 4 года. Рукоположение (после 3-го года).
"3-е испытание": несколько месяцев. Торжественные
обеты. Назначение
на должность. Средняя продолжительность подготовки:
14-15 лет.
инквизитор определенно слишком часто давал о себе знать, ради Франции
и ее неба, менее чреватого анафемами. Наконец, рукоположенный в
45 лет, он задумывает, чтобы сдержать распространение протестантизма,
организацию военного типа, с крепкой иерархией, возможно более далекую
от демократического идеала; члены ее, хотя и связанные обетами послушания,
нестяжания и целомудрия, должны были быть свободны от монастырских
правил, подготовлены к любой деятельности и находиться в состоянии
постоянной готовности, чтобы немедленно осуществить любое дело,
какое Святейший Отец решит им поручить. Такова практическая формула
иезуита.
* * *
В Париже Игнатий делил свою жалкую комнату в Латинском квартале
с двумя другими студентами, Пьером Фавр и доном Франциском де Хассу.
Говорят, труднее всего было обратить этого последнего, но когда
он был, наконец, покорен и "заведен", остановить его уже
было невозможно; точно огненный луч он достиг Японии, и молодой
человек, который не хотел принимать монашество, вошел в историю
под именем святого Франциска-Кса-верия. Само собой разумеется, третий
обитатель трущобы разделил общую святость, так что антиклерикальные
историки могли бы добавить к списку обвинений Обществу Иисуса ту
вину, что оно претендует на трех святых основателей вместо одного
— несомненное доказательство его хитрого, двуличного карьеризма.
В 1540 году устав Игнатия утвержден Папой, но три товарища едва
успели завербовать нескольких новобранцев, как о них заговорила
вся Европа. В Испании Мелитор Кано накапливает громы и молнии, а
во Франции Парижский университет готовит свои ловушки. С самого
начала карьера Общества обещает быть бурной, но иезуиты ничего не
имеют против волнений; бури лишь способствуют их порыву. В 1556
году, ко времени кончины св. Игнатия, их 1 000, в 1 574 — 4 000,
в 1616 — 13 000 (37 "провинций", 400 "домов").
Теперь, после преследований, упразднений и изгнаний, их 3 000 во
Франции, 30 000 во всем мире. Согласно духу их ордена их можно было
видеть в любых местах, на любых должностях. В своем замечательном
труде "Общество Иисуса" о. Донкер приоткрывает список
специальностей, существовавших в его ордене, и никогда еще столь
пестрое шествие не выходило из столь строгого заведения. Иезуиты-преподаватели
насчитывают среди своих учеников кардинала Флери, Берюля, М.Олье,
Бальзака, Декарта, Корнеля, Монтескье, Мольера, Руссо, Кольбера,
Кондэ, Фоша, Лиотэ. Иезуиты-миссионеры преодолевают океаны, пересекают
Индию, переходят Гималаи, углубляются в Китай, бороздят Японию,
оставляя за собой тут — иезуита-брамина в желтой одежде, который
больше брамин, чем остальные брамины; здесь — иезуита-йога, превосходящего
йогов в аскетических дисциплинах; в другом месте — иезуита-заведующего
протокольным отделом и служащего примером японского этикета для
приближенных императора; еще далее — иезуита-заклинателя змей; и,
смотря по месту, обстоятельствам и потребности — географов, часовщиков,
физиков, астрономов, врачей, архитекторов. Иезуит открывает Миссисипи
и проплывает вверх по Мисури до Великих Озер, иезуит же изобретает
волшебный фонарь и акустическую трубку, иезуит привозит нам с Филипинских
островов хину и ваниль, иезуит обучает нас изготовлению фарфора
и употреблению зонта. И не ищите, кто дольше всех занимал пост председателя
"Императорской математической комиссии" в Китае: конечно
иезуит.
Они были, есть и будут всем, чем заставит их быть их миссия. Но
их же — больше, чем кого-либо — обезглавливают, скальпируют, сжигают,
распинают, истребляют оптом и пытают в розницу. Орден предстает
перед шутливо настроенным трибуналом историков во главе славной
колонны мучеников. У одного — две зажженные головни в глазах, у
другого — перерезанное горло, у третьего, старанием ирокезцев, отрезаны
кисти рук, выжжен язык, вырвано сердце: вам же говорят, честолюбие
этих людей не знает границ. Их около тысячи — обескураживающих полемику
свидетелей, и список казненных остается широко открытым, ибо иезуиты,
занимающиеся всеми профессиями и носящие всевозможные костюмы, охотно
облекаются и в кровавую тунику мученика.
* * *
Точный рецепт иезуита надо искать в "Духовных упражнениях"
св. Игнатия Лойолы, в основоположной книге Общества, чудесном мистическом
сочинении холодной закалки, увлекающим душу в круг методической,
тщательной медитации, где предусмотрено все, включая способ согласовать
молитву и дыхание. Это духовность сухая, геометрическая и даже бухгалтерская:
ученику предлагается тщательно отмечать свои погрешности в специальной
записной книжке, где в полдень он поставит столько палочек, сколько
раз за утро поддастся свойственным ему недостаткам, также и вечером,
после второй проверки совести. Так, каждый день недели, и, естественно,
ряды палочек будут укорачиваться от понедельника до воскресенья,
"ибо, — говорит св. Игнатий, со спокойной уверенностью своей
железной воли, — справедливо, чтобы число прегрешений уменьшалось
изо дня в день". Для св. Игнатия, кратчайший путь к совершенству
— прямая линия, а разумение добра предполагает не только волю, но
и средства к его исполнению. Цель определена раз и навсегда в десяти
строках: в "основном положении" Упражнений:
"Человек создан, чтобы хвалить, почитать Бога, нашего Господа,
и служить Ему, и, посредством этого, спасти свою душу. Все же прочее,
что есть на земле, сотворено ради человека и чтобы помочь ему в
стремлении к цели, которую Бог ему назначил при его сотворении.
Откуда следует, что он должен этим пользоваться постольку, поскольку
это ведет его к цели, и постольку от этого высвобождаться, поскольку
это отвлекает его от цели. Для этого необходимо стать равнодушным
ко всему сотворенному во всем, что предоставлено выбору нашей свободной
воли и не запрещено ему; так, чтобы с нашей стороны мы не больше
желали здоровья, чем болезни, богатства, чем бедности, почета, чем
бесчестия, долгой жизни, чем короткой — и так во всем, желая и выбирая
единственно то, что нас вернейшим образом ведет к цели, для которой
мы созданы".
* * *
Процесс, мне кажется, закончен. Эта программа систематического
отказа от обладания разрешает вопрос. Невозможно выполнять Упражнения
св. Игнатия в течение четырнадцати лет — пока длится подготовка
иезуита — не имея в сердце влечения более сильного, чем любая человеческая
страсть. Не может подобное отречение строиться на тех жалких побуждениях,
какие ему приписывают: те цели, в достижении которых в этом мире
мы отчаиваемся, остаются уже позади в тот момент, когда воля, увлеченная
превосходящим все блага благом, отправляется в прямолинейный полет
с силой и скоростью стрелы. Мишлэ шутит. Иезуитская мистика создает
людей исключительной закалки. Мир может их ненавидеть, но победить
их он может, лишь поскольку они соглашаются сойти на его уровень;
можно их гнать, они давно гонят сами свою собственную личность;
можно, конечно, их соблазнять, — но чем?
Глава пятнадцатая
Чудо Франциска Ассизского
Если созерцательный монах нас раздражает, потому что созерцает,
иезуит не нравится, потому что действует, то есть, по счастью, в
истории монашеских орденов чистейшая личность, которая имеет дар
вызывать единогласное преклонение верующих и неверующих, своего
рода анархист, которого чтут люди благонамеренные, святой, который
мил антиклерикалам, величайший "тайнник" без видимой тайны,
которому рукоплещут все, — проповедует ли он как доминиканец, поет
ли как бенедиктинец, молится ли как траппист, созерцает ли как картезианец,
кидается ли в огонь как иезуит; перед ним враждебность опускает
руки, недоверие улетучивается, возражения тают, как лед на солнце;
самые неистово-фантастические действия не устрашают осторожных людей,
импровизация кажется разумной благоразумным и покаянные подвиги
кажутся естественными атеистам. Он обращается с речью к птицам,
тогда как его спутники проповедуют Евангелие рыбам; он питается
поданиями в двух шагах от отцовского богатства, просит гостеприимства
в надежде, что дверь захлопнут у него под носом и оттолкнут его
обратно в снег: это он называет "совершенной радостью"
— и все с ним соглашаются! Биографы красноречиво докажут вам, что
он примирил Человека и Природу, но он совершил более трудный подвиг,
примирив бродягу с жандармерией пуританина с поэзией, буржуа с нищенством,
бедного с бедностью; и он достиг вершины своего дарования не в том,
что увидел свою Сестру в лице прозрачной воды, а в том, что порой
заставляет жильца третьего этажа обнаружить брата в бесцветной личности
соседа по лестничной площадке.
Таковы некоторые из чудес, побуждающие нам закончить наше паломничество
у святого Франциска Ассизского.
* * *
Его жизнь — это жизнь по Евангелию, "по букве и без перетолкований".
Это его выражение и оно резюмирует его учение, его дело, его приключения
и его личность. Его часто сравнивали с его Божественным Учителем,
но больше всего он похож на самое Евангелие.
С того дня, в 1209 году, когда он покинул благоустроенный родительский
дом ради того, чтобы применять на практике свою формулу, он действует
так, как другие только учат, его поступки становятся притчами, и
он начинает являть своим изумленным соотечественникам поразительное
зрелище Благой Вести на свободе. Он отправляется босой, одетый в
мешковину, проповедовать на площадях; но какова бы ни была чудесная
свежесть его лирического дарования, не речи его собрали вокруг него
5 000 учеников менее чем за 10 лет, а редчайшее и приятное для слуха
звучание существа, полностью соответствующего своему Образцу и которое
вибрирует, издавая полный и гармонический звук Истины. Как все мистики
— эти "поэты", эти "мечтатели"! — он обнаружил
Красоту, с которой ничто не может сравниться: Существо бесконечно
более реальное и конкретное, чем то, что мы, кандидаты на превращение
в прах, называем "конкретными реальностями". И он любит.
"Он так безумно любит,
— пишет Станислав Фюмэ, — что уже не знает, сохранилась ли в нем
его собственная природа. Во всяком случае, он не желает обладать
ею. Если она у него и есть, то по праву нищего, потому что он ее
выпросил. И потому, что он может вымаливать природу — он с ума сошел!
— он вымаливает всю природу. Он выпрашивает пропитание всему
сущему у Отца нашего... И Бог, в завершение святости "Поверелло",
впишет на плоти Франциска знаки нашего искупления". Франциск
Ассизский умирает в 1226 году, два года после получения им стигматов
— последняя глава прожитой им Книги, страдание и радость, соединенные,
перемешанные, почти неразличимые, — как и в Священном Писании, трогательной
и очаровательной средневековой версией которого он и был.
* * *
С его сорока пятью тысячами монахов и двумя миллионами "терциариев"
(простых верующих, связанных с орденом уставом жизни, не содержащим
никаких обетов, и насчитывающих в своих рядах Людовика Святого,
св. Елизавету Венгерскую, Христофора Колумба, Рафаэля, Микельанджело,
Вольта, Гальвани, Озанама...) Францисканский орден — самый значительный
по численности в Католической Церкви. Несомненно, теперь он довольно-таки
отличается от небольших общин, основанных его святым покровителем
и выращенных на открытом воздухе. Франциск, не бывший священником,
думал, что его сподвижникам всегда хватит знаний для осуществления
знаменитой формулы "по букве и без перетолкований"; Церковь
же даровала им священство и все они — богословы. Он хотел, чтобы
они были предельно бедны, не обладая ни личным, ни общественным
имуществом, и были "свободны как птицы небесные", — птичек
построили в ряды и отправили в монастыри. Его жизнь была беспрерывной
и необычайной импровизацией, — их жизнь строго упорядочена мудростью
Рима. Их, обреченных непогрешимой непосредственностью их учителя
проявлять постоянную изобретательность в "милосердной любви",
осмотрительность Церкви приглашает возделывать "Фиоретти"
холмов Умбрии за суровыми монастырскими стенами.
Но Франциск хотел, чтобы они были "меньшими братьями",
т.е. самыми маленькими, самыми смиренными из монахов, и тут никакая
мудрость не вмешалась, чтобы изменить его желание. После стольких
веков кротость и смирение остаются двумя характерными чертами францисканского
призвания. Будь они преподаватели, проповедники или миссионеры (такова,
в основном, их деятельность, наряду с традиционным — почетным —
хранением Святых Мест в Палестине), их благочестие всегда звучит
нежной песней. Сейчас наше конструктивное христианство говорит на
всех языках — политики, прогресса, науки и истории; это замечательно,
видно, что оно богато одарено, современный мир не мог бы и мечтать
о лучшем ученике, более послушном, более внимательном и даже благородном.
Но наше христианство не поет и не слагает стихов — плохой признак,
оно несколько позабыло свойственный ему язык, который ближе всего
знаком малым братьям святого Франциска Ассизского, — язык сердца,
горения и изгнанничества.
Глава шестнадцатая
Заключение
У каждого ордена своя история в истории Церкви, в мировой истории,
в истории мысли. Далеко не все эти истории идут в ногу в одном направлении
— хотя многие христиане считают сейчас своим долгом безудержно гнаться
за веком, в надежде на бегу вернуть его к христианству. Целой жизни
историка не хватит, чтобы написать историю орденов.
Каждый орден почитает особо своего основателя, и если мы посвящаем
кипы томов эфемерным действующим лицам военного или политического
поприща, нам не хватит ни чернил, ни бумаги, чтобы описать людей
вроде святого Бенедикта, который невозмутимо прошел через четырнадцать
веков истории со своим Уставом под мышкой, или святого Игнатия Лойолы,
чья личность была столь сильна, что и после четырехсот лет всякий
иезуит походит на него, как никогда ребенок не походил на своего
отца. И кто скажет, чем мы обязаны святому Бернару? Святые Испании
или Италии — это явные испанцы или явные итальянцы, в них легко
узнаешь черты их народа, дух нации, колорит их страны. Испания уже
была той засушливой землей, когда Иоанн Креста обнаружил мистический
путь полного отречения, холмы Умбрии уже были тем прекрасным садом,
в котором начинали созревать плоды искусства, когда Франциск Бернардоне
стал воспевать своего Брата — Дерево и свою Сестру — Воду. Испания
может гордиться перед историей тем, что произвела Терезу Авильскую,
Игнатия Лойолу, Доминика Гузман — три чисто толедских клинка, взятых
из толед-ской почвы, закаленных на толедском огне; Италия может
хвалиться тем, что вскормила св. Антония Падуанского, витийственного
богослова, кроткого даже с рыбешками, или св. Екатерину Сьеннскую
— женское и духовное отражение кондотьере. Но, любуясь у св. Бернара,
как и у Людовика Святого, гармонией божественного и человеческого
в их прямых душах, мы убеждаемся, что начало ясного французского
духа именно здесь и нигде более.
* * *
У каждого ордена свое призвание, своя миссия, свои деяния. Я выбрал
семь орденов среди самых типичных, но кроме них, согласно данным
Папского Ежегодника (Анну-арио Понтифичо), существует еще 72 ордена,
не считая женских общин, и мне пришлось обойти молчанием крупные
духовные семейства, такие древние, как Премонтан-цы, или молодые,
вроде Малых Братьев Шарля де Фуко. Все они различны в чем-либо,
часто во всем. Белые Отцы не произносят обетов, тогда как трапписты
только это и произносят. Деятельные ордена никогда еще не были так
вовлечены в мир, созерцательные ордена никогда не казались столь
отдаленными от него. В то время, как некоторые монашеские начинания
в плане социальном подсказывают слово "революция", другие,
в плане духовном, напоминают самую древнюю традицию. Одни добираются
до границ марксизма, другие возвращаются к святому Иерониму. Это
двойное движение на расширение и на сжатие, к апостольству и к отшельничеству,
к миссионерскому распространению и доктринальному сплочению есть
постоянный ритм Церкви со дня ее основания. Таково также движение
сердца.
* * *
У каждого ордена свой характер, свои законы. Тут мне, вероятно,
сделают упрек: всех этих монахов я видел без недостатков, все монашеские
общины я мыслил верными их идеалу.
Бывают плохие монахи, но плохой монах недолго ведет монашескую
жизнь. Невозможно прожить шесть месяцев в созерцательном (например)
монастыре без очень сильного призвания. В одиночестве и тишине картезианского
монастыря все мелкое в короткое время или умирает с голода или пожирает
своего хозяина. Конечно, человеческая природа ужасно живуча, изобретательна,
умело везде восстанавливает себе комфортабельные условия — даже
в тюрьме, траншее или воронке от снаряда. Она похожа на растения
с длинными и гибкими корнями, которые пролезают между камнями и
будто угадывают сквозь них, где земля. С некоторыми определенными
склонностями к вегетативной жизни отшельник вместо ангела может
превратиться в огурец. Это — про4)ессиональный риск. Но жизнь монастырского
огурца имеет так мало общего с существующим представлением о комфорте,
что и этот провал все еще похож на удачу. Для многих из нас монах
это человек, который посредством трех обетов, соответствующих трем
указаниям Евангелия, явно вышедшим из употребления, разрешил проблему,
которую ему подобные не успели даже задать себе: проблему своего
конечного назначения среди людей, решающих проблемы финансовых затруднений
в конце месяца. Мы забываем, однако, что эти три обета, плюс обязательства
священства, предполагают исключительное величие души, сияние которого
очень редко полностью исчезает.
Монашеские общины — не совершенные общества. Почти все они в течение
своего долгого существования прошли через периоды нравственного
упадка, которыми мы не раз пользовались для самооправдания. Но если
монашеские общества не совершенны, они, по крайней мере, отличаются
от других тем, что в стремлении к совершенству — подлинный смысл
их существования и единственное правдоподобное объяснение их возрождений
и векового существования. Они тем более являют постоянную направленность
к добру, что при их затворническом режиме и узких человеческих границах,
какие они себе ставят, они не могли бы долго оставаться ниже своего
идеала, не превращаясь в настоящие круги ада (не говорю, что этого
никогда не бывало, только думаю, что эти срывы уже описывались достаточно
часто). Вполне вероятно, что у них без труда можно найти многие
из наших собственных недостатков. Но при нашем неведении их жизни
важнее узнать — не чем они похожи на мир, а чем они отличаются от
него. Поэтому я и оставил без внимания неудавшихся монахов. Чтобы
составить правильное представление о Политехнической Школе, лучше
спрашивать тех, кто успешно выдержал экзамены, чем провалившихся
кандидатов.
* * *
У каждого ордена есть свое искусство, свой стиль, свои писатели
и свои поэты. Эти сокровища известны гораздо больше здесь описанных,
и я не счел нужным останавливаться на них потому, что уже и так
слишком распространено мнение, будто искусство — единственно возможное
оправдание духовной деятельности.
* * *
И, наконец, у каждого ордена свой собственный ритм. Неподвижность
созерцателя производит сильное впечатление. Подлинна ли она? Не
есть ли это видимая неподвижность светил, ближе других стоящих к
центру своего притяжения? Ибо все эти планеты монашеского мира вращаются
вокруг одного Солнца на разных расстояниях, с большей или меньшей
скоростью. С места, откуда мы их обычно наблюдаем, нам видна лишь
их теневая сторона, сторона отрешенности, самоотречения, смерти.
Мы не видим сторону, обращенную к свету, сторону солнечного дня
и жизни. Я дал несколько картинок этой стороны — как бабочки, ракушки,
сувениры, привезенные из далеких стран... Но я надеюсь, что заканчивая
это путешествие, читатель увидит, что я и не коснулся темы... Потому
что я ничего не сказал о таинственной силе, движущей этим миром,
покоряющей и формирующей двадцатилетние души и мускулы; о странной
власти, действующей на некоторых людей и заставляющей их любить,
в посте и молчании, среди четырех стен, затворническое существование
бессрочного заложника; о Тайном Присутствии, наполняющем келью картезианца,
так, что можно без всякого парадокса сказать, что картезианец это
человек, бегущий от других, чтобы быть менее одиноким; о неведомой
радости, ради которой столько сердец отказываются от всех радостей;
о незримой красоте, навсегда покоряющей созерцательную душу; об
этой тайне, этой силе, этой красоте я ничего не сказал, — а между
тем, в ней-то и суть книги!
ПРИЛОЖЕНИЕ
Монахи и монашки в мире за последние 20 лет (тыс.чел.)
| Год |
Священники |
Братья |
Послушники |
Сестры |
Послушницы |
| 1974 |
165 849 |
78 885 |
7675 |
1 037 807 |
12 251 |
| 1980 |
157 733 |
73 891 |
7877 |
974 682 |
12 786 |
| 1985 |
151 870 |
66 287 |
9659 |
926 335 |
18285 |
| 1990 |
146 239 |
62 942 |
9680 |
885 647 |
18853 |
| 1992 |
145 441 |
62 184 |
9603 |
875 332 |
19341 |
Крупнейшие мужские ордена (тыс.чел.)
| Орден |
Количество |
Послушники |
Дома |
| Иезуиты |
23864 |
963 |
1858 |
| Францисканцы |
18925 |
642 |
3160 |
| (Братья Меньшие) |
|
|
|
| Салезияне |
17556 |
668 |
1947 |
| Капуцины |
11756 |
410 |
1702 |
| Бенедиктинцы |
8998 |
404 |
409 |
| (конфедеративные) |
|
|
|
| Братья Школьные |
8046 |
149 |
1189 |
| Доминикане |
6766 |
198 |
703 |
| Редемптористы |
6183 |
180 |
775 |
Крупнейшиее женские ордена (тыс.чел.)
| Орден |
Количество |
Послушницы |
Дома |
| Шаритки |
28999 |
388 |
3120 |
| Салезианки |
16915 |
535 |
1559 |
| Кармелитанки Босые |
12593 |
— |
872 |
| Францисканки Миссионерки Марии |
8469 |
280 |
903 |
| Кларисски |
8345 |
— |
555 |
| Сестры Милосердия Девы Марии |
6586 |
120 |
499 |
| Сестры Матери Божьей Милосердия Доброго Пастыря |
5912 |
135 |
612 |
| Бенедиктинки |
5665 |
— |
246 |
|



